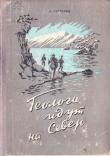Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Кто это?
Лука Спиридоныч поднимает голову:
– А кто ее знает! Теперь и не упомню. Мать, чья фотка, а?
Анна Ивановна долго смотрит на фотографию, улыбается:
– Забыла, откуда и взяли-то ее. Кажись, всю жизнь так и висит.
– А зачем же повесили? – не унимаюсь я.
– Да больно добрая, красивая. А красота угла не портит. Вот погляжу на нее и вроде бы чему зарадуюсь. Чиста, ласкова, доверительна. Она у нас замест иконы. Мы, лесные-то, поклоны только раз в год и кладем, когда ягоду да гриб в тайге берем, – Анна Ивановна подходит к портрету и как-то уж совсем ласково стирает несуществующую пыль со стекла. – Нравится?
– Да, очень.
– Ты, старуха, чем языки-то чесать, поставила бы нам с гостем по стакашке, что ли, – советует Лука Спиридоныч. – Ha-ко бахилы – лучше новых..
– Дядя Лука…
– Ась?
– Вы давно охотиться перестали?
– Это почему же, паря, перестал? Я ишо – о-го-го!
Из кухни подает голос Анна Ивановна:
– Вы с ним попробуйте зимой на лыжах угнаться. Любого молодого по сей день так по тайге заводит, что тот язык вывалит: «Не могу, дядя!»
– Я, паря, однако, сухой. Во мне ни росиночки дурного сала нету. У меня все при деле. Жила да кость. Я коли помру, то все един в земле таким остануся, у меня портиться нечему.
Лука Спиридоныч немного по-стариковски прихвастывает. Но, глядя на его сухую фигуру, веришь: нет в нем ничего лишнего. Он, как корень, глубоко вросший в землю, вязок и сух. Вот уже и ветви – сынов, дочерей взрастил, а все гонит и гонит из заповедной земной глуби соки. Не себе, – много ли им со старухой надо, людям.
– Ты говоришь: охочусь ли я? Милай, да я столько за свою жизнь соболя добыл, что в его мяху заблукаться можно. В прошлом годе по району у меня наивысший показатель после Лавера. Лавер – молодой черт.
– Да какой же он молодой, Спиридоныч! – встревает в разговор Анна Ивановна.
– Против меня парнишка Лавер, – сердится дядя Лука.
(Позднее я узнал, что Лавер Глебыч на десять лет моложе Луки Спиридоныча, стало быть, семидесяти четырех лет. И вот уже добрых полвека корит его дядя Лука молодостью.)
– Я тебе, паря, вот что скажу. Намекнул бы ты, где полагается, начальству, что повыше того, которого видеть мне приходилося. Дескать, живет в Неге, за большими и малыми реками, за горами за хребтиками, Лука Спиридонов сын по прозванию Верхотуров. И очень у него сердце болит за родной его дедовский отчий край, – Лука Спиридоныч упирает локти в колени, кладет в ладони подбородок и начинает говорить, будто ведет старую складную легенду. И слог и выговор его вдруг становятся чуть напевными и раздумчивыми. – Чего у нас только нету вокруг! И зверь, и птица, и всяка разна ягода, и гриб, и шишка кедрова. Рыба и красна, и бела. В другом целом государстве такого не сыщешь. А у нас по Авлакан-реке бери, не ленися. Только вроде бы никому до того никакого интереса нету. Слыхивал я, что нашу шишку в коробочку положут, бумажкой обернут – сувенер. Американец или какой там другой англичанин, француз, а не то даже сам немец, этот сувенер к себе на жительство везет, да еще похвалятся: вот, дескать, купил диковину. Ну это факт. Я о другом, однако, хочу сказать. Вот, паря, область наша, мы самы северные, самы недоходимые. Бывал я в области как передовой охотник. Батюшки, чего в этом самом нашем заглавном областном городе нет! По улицам бабы наряженные во все белое стоят, чисто под венец. Торгуют пироги, калачи, этаки булочки, софля…
Фу-ты, родимец! – прыснула на кухне Анна Ивановна. – Суфле, старик. Софля – этак ты наговоришь.
– Цыц, не мешай, старая! А в магазинах, а в магазинах что деется. Все, что тебе надо. А мне много не надо. Я в свой сельповский магазин прихожу, к примеру. Вот тут, дома. Дай мне сапоги – нету. Ружьишко новехонько продай – нету. Мне зиму зимовать в тайге, дай мне то, другое, третье. Не для форсу – для дела – нету. А что есть? Спирт? Есть. Водка? Есть. Консерва, котору уже жестенку ржа порушила? Есть. Да что, паря, говорить, плывешь по Авлакану, в любой сельпо заходи. Нету! Ничего для охотника нету. С охотника только взять. Охотнику только: дай да дай. А «на» – этого давно нету. Нескладно говорю, паря, а ты сам до сути докопаешься. У нас в тайге закон есть. Пришел к тебе ночью в непогодь враг твой, ты сперва чаем его напой, а потом уж счеты своди. Во как у нас, по-человечьи, по-доброму. Я, паря, разумею, что в области нашей платина, какой во всем мире нет, комбинаты там, заводы, шахты. Все это на виду, на всем этом забота, за все это почет. Области нашей и орден дали тоже за это. А скажи мне, кто я? Человек! А почему я, человек, в наше-то время должон на коленях стоять, чтоб, чего доброго, среди красивых всех да стройных мою плешь, мою просолонь не увидели? Почему мы-то, люди промысловые, охочие до дела, в пасынках по се время у земли своей советской ходим? Почему? Скажи мне? Это разве правильно, что государству невыгодно меня в культуре да чистоте держать? Конечно, платинов там всяких не делаю. Так я же работаю, во как работаю! – Лука Спиридоныч проводит ладонью по голове. От волнения глубокий рваный шрам набух кровью, вызмеился меж седых редких волос старика. – Я умного человека у себя хочу на Авлакан-реке видеть. А не то что суда засылают. На тебе, боже, что нам негоже. Всех, кто там, на земле-то большой, не у дел окажется, – к нам. Дескать, им любое дерьмо сойдет. Проглотят. Ну и то ладно. Хорошо, что мужик головастый к нам пришел – Иван Иванович. Ты с ним потолкуй, он тебе то же, что и я, скажет. Так-то, паря…
– Хватит, отец, что разбубнился-то, чисто котелок над огнем. Садитесь-ко к столу.
А ты мне, Анна Ивановна, пирогом своим рот не затыкай, – рассердился Лука Спиридоныч и тут же остыл. – Поговорим ишо. Просим, гостенек, к столу. Выпьем-ко по царке – как у нас говорят. Завтра со старухой в тайгу наладимся, шишку глядеть да зимовейку подправим, соболя, белку доглядим, где кормится. Будя, поговорили.
Я вернулся в дом Неги. Ее не было, перед заходом солнца стадо угнали на пастбище, она ушла с ним. Безлунная черная ночь опустилась на деревню. Я прошел в дом, откинув цепку, до сих пор еще в авлаканских деревнях не замыкают дверей. Прошел в горенку, не вздувая огня, лег на жесткий диван и закурил. Тишина обволокла все вокруг, густо-осязаемо залегла по углам избы, выплеснулась за окна. Я лежал, высвечивая мрак огоньком самокрутки, и, когда он, чуть потрескивая от глубокой задышки, распалялся, видел, как на стене проступают белые квадраты грамот и свидетельств моей хозяйки. Я слушал тоненько звенящую тишину и думал, думал обо всем, что увидел, услышал и пережил за этот долгий день.
Сначала заповедную тишину ночи нарушил далекий явственный звук, будто старое дерево, готовое рухнуть, вдруг заскрипело нескончаемым больным скрипом. Вот так во время землетрясений каким-то невероятным плачем кричат деревья, сотрясаемые от самого махровомелкого корешка до последнего листочка. Я не сразу понял, что снова завел свою песню Чироня.
Потом, совсем рядом, по доскам кое-где сохранившегося тротуара, срываясь, замирая и снова срываясь, прогромыхали шаги, жалобно заскулила, убегая прочь, собака, вероятно, поддетая этим шагом. В соседнем доме глухо, как в днище бочки, ударила дверь, где-то недолго, но высоко покричала женщина, и опять тишина… Только песня Чирони сверлышком вкручивается в уши, свербит в сердце. И хочется отмахнуться от нее, как от тягуче-липкой комариной нуды. Я встал и ушел в залу. Постелил себе на полу, на мягких чистых ковриках перину, кинул в голова подушки и, раздевшись, лег с твердым намерением спать и только спать. Но и сюда доносилась Чиронина песня. Он пел так, что слышно было его по всей деревне и даже дальше за Авлакан-рекой, в рудовых соснах, черных ельниках, серебряных кедрачах. На ягодниках, всполошенный нудным, нездешним звуком, поднял лохматую голову амикан-дедушка, скосил маленькие, подслеповатые глаза, в которые дробно забили сыпучие северные звезды, рыкнул в глухоту ночи; лось, прикорнувший в густом мочежиннике, сорвался с места и умчал на быстрых ногах к чистому лесу; замер соболь, хищно вытянув злую мордочку, готовый к прыжку на спящего косача; косач торкнулся, путаясь в темных ветвях, и ушел тяжелыми взмахами в ночь.
И нет больше вокруг тишины, взволновалась она, словно бы в волны Авлакан-реки канула. Неспокойно деревне, тайге, неспокойно сердцу. Я не услышал, как вошла в избу Нега. Проскользнула в маленькую спаленку тоненькой тенью. Завздыхала тяжело. Так вот всегда вздыхают перед сном натрудившиеся вдосталь за долгий день люди. И только затихла, заснула Нега, как снова весь дом от нижнего венца до матицы, до стрехи наполнился сухим скрипом.
Что за напасть? Что за наваждение такое? Я сел в постели, силясь сбросить с себя оцепенение тревожной дремы. В избе скрипел, заливался, строчил, словно пером по бумаге, северный «соловей» – сверчок.
Сон оставил меня. Я лег на спину, широко открыл глаза и стал слушать сверчка.
«Это он меня выживает», – подумалось так.
Я лежал и думал: «Где ты, деревня Нега? В каком пространстве и времени? Как легко и спокойно было бы у меня на душе, если бы я придумал тебя, Нега…»
Запись VI
Песня Чирони
В ту ночь заснул я поздно. Сон сморил с первым криком старого петуха. Он даже не прокричал, а прохрипел что-то свое, старческое, до сроку и захлебнулся шипящим кокотом. Ему ответил только один петушонок – по молодости вылез в неурочное время. Сон был тревожен, но все-таки глубок, и я, проснувшись рано, почувствовал, что успел отдохнуть.
Нега еще до свету ушла в тайгу, на столе чуть теплилась привернутая лампа. Эти ставшие буквально в два десятилетия музейной редкостью у нас в среднерусье «молнии» страшно разят горячим недогоревшим керосином, когда их погасишь. Поэтому Нега и привернула лампу, чтобы не причинять мне беспокойства.
На столе стояла глиняная махотка с топленым молоком, полкаравая хлеба, прикрытого полотенцем, конфеты-ландрин в вазочке, очищенный и разваленный на две тепло-розовые дольки малосольный сижок и перья лука, все в прозрачных каплях воды, с чуть-чуть желтоватыми головками, соль стояла в берестяном туеске.
Позавтракав, я вышел на волю. Деревня, луга, тайга, Авлакан-река – все утонуло в белой пуховой глыби тумана. Там, где поднялось солнце, едва просачивался палевый родничок света, растекаясь в неровную, с рваными краями лужицу. Ближние избы едва виделись в белой мгле бесформенными черновúнами.
Накинув цепку на дверной пробой, я сбежал с крыльца и пошел вверх по яру в контору промхоза. Оттуда едва различимо доносился говор. Пока я поднимался по сыпучей, кое-где оправленной в деревянные ступеньки тропинке, солнце с неукротимой жаждой пило туман. Он проворно стаивал, опадая все ниже и ниже, ложась ниц на утренние чистые листы подорожника, на гусиную травку, редел, скатывался к Авлакан-реке и клубился там густо, невпроворот. Вот вынырнул я по горло из влажной белой крутоверти, солнце хлестнуло по лицу звонко-радостно, по плечи, по пояс, и побрел к тесовому крыльцу промхоза. На крыльце курили мужики, человек шесть, молча, сосредоточенно. Утренний воздух, настоянный на свежести тумана, забродил крепким махорочным дымом. Женщины, их было гораздо больше, чем мужчин, незло переругивались друг с другом. Кто-то из мужиков встрял в их перебранку.
– Молчи, леший, – ругнула его жена. – Твое дело телячье, обмарался и стой! – И замахнулась на мужа косьем.
На крыльце недружно засмеялись.
Мужик в сердцах плюнул, подошел к бочке, зачерпнул корцом и стал пить громко, всем лицом припадая к воде.
Вышел из дома Иннокентий Кирьяныч – прокашлялся, дал назначение на работу, без единого лишнего слова. И все, так же без лишних слов, поднялись и ушли в туман, поблескивая тусклыми лезвиями кос, негромко переговариваясь.
Иннокентий Кирьяныч кинул вдогонку:
– Иннокентий, Боярин, запиши всех, кто с тобой вышел.
– Сделаю, – откликнулся из тумана Иннокентий.
Мы поздоровались за руку. Заведующий отделением, задумчиво глядя куда-то мимо меня, пожевал губами и глухо обронил:
– Вот так. Как завезли в сельпо водку, так и пошло. Добился, что телеграмму из района прислали о запрещении торговли спиртным.
– Иннокентий Кирьяныч, далеко от вас Таловенькое?
– Таловенькое? Рекою километров восемьдесят. Мегом, однако, двенадцать.
У бывшего станка – Таловенькое стойбище эвенков. Стада оленей пасутся по хребтикам, там где-то и чумы эвенкийской семьи Почогиров. Еще раньше я обязательно решил встретиться с ними.
– Одни вы не найдете. Тут тропы нет, недолго и заблукать. Дам провожатого.
Я запротестовал:
– Иннокентий Кирьяныч, у вас каждый человек на счету.
– Я вам Чироню дам. Он у нас в промхозе не работает. И деревне он – никто. Ежли тверез, согласится. Мужик сговорчивый, только вот совсем с круга сошел. Как, согласны?
Я замешкал с ответом.
– Вы насчет Чирони не сумневайтесь. Ежли выспался мужик, пойдет. А в тайге лучше его ходока не сыщешь. Он же сохоляр-полукровок. От эвенков ему талант перепал. Как по запаху, ровненько к стойбищу выведет. Охотник он фартовый был. Но сошел с круга. Ружьишко года два как пропил. Ну а после такого у нас в тайге его уже и за человека считать не будут.
– Чем же живет он? Семья?
– Жена у него – очень хлопотливая женщина. Да и сам капканами ондатру промышляет.
Разговаривая, мы спустились к Чирониной избе. Он сидел на порушенных, кое-как прилаженных приступках крыльца, чинил рубаху широким внахлест мужичьим стежком. Я удивился, с какой готовностью согласился сопровождать меня Чироня. Его раскосые на плоском скуластом лице виноватые глаза разом заблестели.
– Я чичас. Толико рубаху справлю.
А минут через двадцать мы уже шли по росистым, полегшим лугам к черному под самое небо мегу. Мег – густо заросший тайгою мыс, встал на берегу у Авлакан-реки, преградив ей путь. Кинулась река в сторону, обегая скалистые скулы, повернула в обратную, запетляла заячьим скоком.
У подъема на мег присели отдохнуть. Собственно, остановился я, снова пораженный красотой здешних мест. Чироня сбросил с плеч мой вещмешок, нести его выявился сам, вытер рукавом похмельный пот с голого (усы и борода у Чироня, как у эвенка, росли плохо) желтого лица и предложил, переходя на твердое дружеское «ты»:
– Давай чай варить. – И признался: – Другие сутки не жрамши. В брюхе гук стоит.
– Давай, – согласился я.
Было как раз то время нарождающегося дня, когда солнце, поднявшись над тайгою, выпило утрешнюю волглую свежесть и принялось за холодные в росе травы. Воздух в эту коротенькую пору бриллиантово чист, прозрачен. Дальние сопки будто придвинулись ближе, лежат окатистыми ковригами, а чуть напряжешь зрение – различишь стволы и ветви.
Чироня утверждает, что видит шишки.
– Хочешь, из твоей стрелялки пальну, доглядишь, как дожиком на землю посыпятся, – предлагает он.
Я верю на слово.
Чироня сбегал куда-то за паволок, принес полный котелок чистой родниковой воды, подцепил свой мятый луженый жестяной казанок и снова умотал легким, неслышным шагом.
– Пойду ягоду возьму…
Бусый дым столбится над огнем ровно и густо. Безветрие. Где-то далеко-далеко, глазом не различишь, кричит ворон, и ему вторит работящим стуком жолна – черный дятел.
Мы пьем с Чироней чай, пригоршнями прихватывая из его казанка спелую, прозрачную кислицу. В кружки из фляги я плеснул коньяку, и чай вдруг обрел для Чирони неведомый еще вкус.
– Скусна, – блаженно говорит он и доливает в кружки смолисто-темного чая, оставляя место для коньяка.
Едва заметная дрожь, которая трусила его голову, руки, да, вероятно, и тело, прошла, и он как-то вдруг весь изменился, посветлел, что ли. Я наливаю в кружку коньяк, но краешек – всклень. Чироня припадает к ней тонкими губами и, обжигаясь, все же тянет пахучую, бражную влагу мелкими, экономными глотками.
– Алаке![1]1
Алаке (эвенк.) – Ой как сладко! Ой как вкусно!
[Закрыть]
Потом он надолго оставляет кружку и ест охоче, с причмоком консервы, сушеную колбасу, сухари, вяленое мясо (им в избытке снабдили меня в Подвеличном). Сохатине явно отдает меньше предпочтения, как пище местной и грубой.
Я никогда еще не встречал людей, так быстро, на глазах меняющих облик. Из пьяного, ошалевшего от сивухи, растерзанного полудурка Чироня становится необыкновенно симпатичным, веселым, с задористыми бесенками в глазах, бывалым человеком. Его седые, будто бы вывалянные в пыли и мелкой липкой паутине волосы аккуратно собраны и прихвачены широкой тесьмой. Так часто делают эвенки-охотники. Рубаха, что вольно болталась на его худом костистом теле, глубоко заправлена в штаны (нашел все-таки, как ни старалась упрятать их Матрена Андронитовна). Когда он навел на себя такой лоск, я и не заметил.
– Ты, однако, болтать с эвенками можешь? – спрашивает, снова принимаясь за чай.
– Учусь. Вот даже словарь прихватил с собой эвенкийско-русский.
– Пустова дело.
– Это почему же?
– Один мне, вот как ты, по словарю читал. Умóрок.
– Это почему же?.
– А ну глянь в словарь-то. Как колокольчик там значится?
– Бурбулен, – по памяти говорю я.
– Правильно, – удивляется Чироня. – А еще как?
– Не знаю.
– Ну, ну! – торжествует и вдруг звонко, по-птичьи, одним горлом произносит: – Кон-ги-лон!
«Кон-ги-лон», – откликается тайга, луга откликаются, и пошло, зазвенело, заиграло на солнце заливистое слово.
– А ну еще, Чироня.
И снова в полные легкие:
– Кон-ги-лон… Кон-ги-лон… Кон-ги-лон…
Забился на шее учага-вожака медным голоском бубенчик-колокольчик. Вздрогнули, побежали олени, заскользили нарты, снег заскрипел.
– Кон-ги-лон, кон-ги-лон, кон-ги-лон…
Слышал я его, радовался ему, сердцем подпевал – заливистому певцу оленьей упряжки, живому вестнику студеных дорог севера. А Чироня все выводит и выводит горлом:
– Кон-ги-лон…
Выдохнет, послушает, подхватит эхо и снова ударит по тайге, по цветам на лугах, по небу:
– Кон-ги-лон.
И снова всласть, теперь уже со вздохами, с отдувом, пьет чай.
– А ну скажи, как эвенк русского называет?
– Люча.
– А в книге твоей, в этом, как шут его?..
– Словаре?
– Ну?
– Люча.
– Ага – люча! – торжествует Чироня.
– Ну да – люча.
– Хочешь байку?
– Валяй.
– Слушай. Шли по Авлакан-реке казаки воевать реку Лену. Народу всяко-разно видывали. И остяхов, и киргиза, и татарвы – неча, им все по привычке. А на Авлакан-реке – никого. Срубили они вот там, на самом вершочке мега, острожок, – Чироня приподнимается и машет рукой к островерхому вершинному ельнику. – Время уже к зиме скатывалось. По реке шугу волочет, ночами снежок, однако, бусенит. Зазимовались. Побежал как-то казак Михайло Кашмылов по белотропу, не то соболя погонять, не то зайца, а кто знат, можа, и сохатого попромыслить. Только за острожок. А встречу ему пялится не то зверь, человек ли не то. Сам весь в шерсти оленьей, на голове лисы, на ногах камусы да лыжи. Бежит встречу, пальмичкой ткается, за плечми лук и гарпушки. По-ихнему – гарна, соображай – стрела, тоже и луч солнечный, еще их тамарками называт – это особ счет – с костяным наконечником тупым, на соболишку та, куньку, белку. Увидел Михаилу, остановился, ждет. Михайла – мужик добрый, даром что атаманил в ватажке. Улыбатся невиданному человеку, к себе манит. Тот заулыбался в ответ, значит, подходит ближе. Михайло в него пальцем тык да тык, дескать, хто ты. Понял лесной-то. «Илэ!» – баит, человек, дескать. А сам в Михаилу пальцем. Казак ему: «Рус – я! Рус!»
Слушай-ка, паря, дале что скажу тебе. В лесном-то нашем языке у народца ни едино слово с этой самой «р» не начинается. Заметь, и эти самы «си-зы» мы тоже не потребляем. Я толичко в войну и обучился вашей говорилке. А то, как все наши негские, чокал да цокал, ну чисто белка кака. Та разумей дале. Лесной-то Михайле: «Луч, луч».
Казак смекнул – дескать, картавый мужик-то, головой трясет: «Да, да. Руса! Руса – я!»
«Луча!» – ахнул лесной-то.
Михаиле понравилось.
«Луча, луча», – гогочет, а сам себя в грудь кулаком ярит.
– Ах ты, леший тебя возьми, – вдруг расхохотался Чироня. – Михайло-то сам себя: луча, луча. – Чироня хохочет во весь рот, прихватывая руками живот, скалит желтые зубы.
Я, не понимая причину смеха, сижу смирно, жду.
– По твоим книжкам люча – выходит, русский, а по-ихнему то – бородатый черт. Михаила сам себе имя выискал, а лесной поверил. Да как и не поверить? Казак невесть откуда свалился на Авлакан-реку, поди, в два раза ширше да выше тунгушонка, в бороде. К тому ж ни дать ни взять – люча. Вот откуда и пошло. Хороша байка?
– А ты откуда ее слышал?
– Э, паря, мне ее дедушка поведал, а ему его. Этот самый Михайла Кашмылов, березовский казак, от него наш корень начало берет. Казачки, зимуя тут, пообженилися с местными. Кто тут и осел. Кто ушел, покидав своих аси – жонок, стал быть, заодно и сбитней, то есть детей прижитых. О Михайле точно не скажу – сошел ли он ило прижился, только по си день носим мы фамилию Кашмыловы, я тоже.
– Занятно. Ну и мастак ты, Чироня, байки ладить, – без тени издевки порадовался я.
– Зачем ладить? Идем-от на тую сопочку – острожок так и зовется. Жилища их покажу, могилы. Считай, из негских один я про то знаю, да еще эвенки, что тут кочуют. Зря трепаться не буду, а что есть – увидишь. Над могилами колодины целы, кресты.
– Сколько туда идти? – стараясь не показать своего нетерпения, спросил я, а сам готов был вскочить и бежать зайцем. Не верится: неужто удастся увидеть стоянку первых землепроходцев? Это уже настоящее везение.
– Сколь? – Чироня щурится, будто высчитывая и выглядывая в памяти весь длинный путь до острожка. – Сейчас на Умотку выйдем и по ней вверх, однако, далеко засветло придем. Глянем, скатимся вниз, в Таловеньком ночуем, а поутру к эвенкам.
– Годится.
Вышли к умотке-речке с крутыми угрюмыми берегами, вода в ней быстрая, вся в оспинах кружилых омутов. Чироня объясняет, что умотки, как и речушки, именуемые по-местному дигдали, берут начало в сырых мяндачах – сосновых борах, кружат, крутят, сигают из стороны в сторону, потому и умотки, умотают всякого разного. Но не Чироню. Чироня за хвост цепляться не будет, знает, где углышок срезать, где перебродить, а где и вообще от умотки в сторону податься. Он идет впереди – легкий, весь на шагу, поет чертовски чистым и красивым голосом, не поверишь, что тот же голос слышал я вчера в Неге:
– А ты, начальничек! Ключик, чайничек,
Отпусти до дома!
– А ты напейся воды холоднай,
Про любовь забудешь…
– А пил я воду. А пил холодну,
Да не помогаит.
Любил девку, да сибирячку,
Любил, да расстался.
И дальше со слезьми, с плачем, с лесною, неведомой городскому человеку тоской:
Гроб несут. Коня-ых ведут.
А конь – да ых головку клонит,
Ах молода, да молодая
Мóлода хоронит…
Потом Чироня поет что-то на эвенкийском языке.
Спрашиваю:
– Что поешь?
– Тебе, однако, без интересу.
– Скажи, интересно.
– Сам не знаю.
– Ну переведи, – не унимаюсь.
– Сказал – не знаю. Слышал, запомнил, вот и пою. А что – не знаю.
Приглядываюсь к нему и замечаю, что не только поет Чироня, но и приплясывает, вроде бы и поклоны вправо, влево легкими кивками кладет. Иду молча, слушая непонятные, то резкие до визга слова, то плавные, мягкие. Белкой цокочет Чироня, гусем кричит, трубит лосем… Молчу, не мешаю. Поднялись уже довольно, по времени должна быть где-то казацкая стоянка, бывший острожек атамана Михайлы Кашмылова. Может быть, камланит Чироня – молится, отгоняет злых духов и призывает добрых. Даже немного жутко сделалось. Чуть приспустил ремень пистолета-автомата с плеча.
– Тут амикан-дедушка ходит, – говорит Чироня. – Пугал я его. Зачем понапрасну встречаться-то?
Вот, оказывается, как просто все разрешается. Гляжу на мужика, нет, не верю, хитрит. Чему-то другому была посвящена его песня.
Тайга потемнела, стала гуще, угрюмей. Под ноги попадают выбеленные, в лист вымытые кости. Сумрачно как-то вокруг, и на сердце тревожно от песни ли Чирони, от тайны ли, что залегла вокруг плотно, осязаемо.
Продираемся через густющий молодой листвяк. Высокие деревья напрочно заслонили небо, упрятали в хвое солнце. Глянешь вверх – темень, и только малюсенькая скважинка в небо. Под ногами мягкая сухая пена ягеля. Тишина настороженная, ломкая. Кажется, что вот сейчас разом рухнет она и забредит, загудит, застонет вокруг тайга. Окружит опасностью, неминучей гибелью. И кто-то один, всеобъемлющий и всевбирающий, следит отовсюду, ждет удобного мгновения, чтобы выказать себя.
Это время, заплутавшее, завязшее тут меж стволов и ветвей, покрытых бестелесным бледным мхом, лежит вокруг застывшими наслоившимися друг на друга дремучими вехами. И, как назло, остановились часы (забыл завести утром), стрелки замерли.
Остановилось время.
И только сердце в груди считает свое: тук-тук, тук-тук… Вдруг разом в черновине тайги, белым по глазам. Неожиданно так, внезапно – словно окрик. Мелькнуло и замерло, Чироня остановился.
– Вот они…
Перед нами, – выбеленный дождями да снегопадами тесовый навес, на черных, дубленных годами стропилках. Оградка, словно бы прихваченная огнем, обуглилась, оглаженная ветрами столетий. За оградкой рубленые смоленые колодины собраны в глухой оклад. Над окладом старой веры крест, тоже темный, копченый. Рядом еще оклад, но без навеса, крест обветшал, заметно, подменены крестовины. Надгробный оклад – голубец отрухлел, пророс мелким кустиком, тощей травою. Под ним бурундучок устроил себе лабаз. След проторил отчетливый, набитый. А вот и сам появился. Забежал за валежину, затрусил хвостиком. Беспокоится, не обобрали бы его. За двумя могилами в чащобке еще кресты. Как и у первых двух, вокруг окладов высечена мелкорослая тайга, чисто у могилок.
Постояли на погосте, сняв шапки.
Кто покоится тут? Чьи косточки источила холодная сибирская земля, чей прах истлел? Кто знает о том, кто ответит?.. От болезни ли, от голода, от лихой ли стрелы слегли под кедровый рубленый голубец русские люди. Непокорные, отчаянные, шли они в неведомые края, секли тропы, резали веслом бегучие шальные воды рек, орали землю, ставили в дремучих урманах острожки и зимовья.
О, эта вечная жажда русского человека к неизведанному, дальнему, жажда к беспокойной, полной опасностями и нелегкими дорогами жизни! Вечный поиск от пращуров наших – росичей до нынешних непосед – поиск чего-то нового, лучшего. Куда ты все спешишь, торопишься, неугомонный русский человек, к каким далям, к весям каким?!
Молчит, насупившись, черная тайга. Молчат старые кресты от подножья до титла, рубленые кедровые голубцы молчат, время молчит.
– Пойдем к жилищам, – предлагает Чироня и добавляет: – Эвенки, да вот и я, ишо доглядываем могилки-то. Так вот исстари повелось. Что ни говори, а могит то быть, что их кровь по нашим жилочкам бегит.
Снова продираемся в густой пустошá тайги, и вдруг заросли крапивы, малинника, кислицы. Пышно клубится зелень. Такая знакомая, домовитая, совсем как за погребами в родной деревне. Удивительны эти кустарники и травы, что вырастают на порушенных или сожженных людских гнездах. Пройдут долгие времена, загладят, затянут лесом или кустарником дороги, улицы, проулки бывших людских поселений, сотрут с лица земли пашни и огороды, но долго еще будет буйно и чисто расти на месте бывших жилищ домовитая крапива, пестрец да малинник.
Мы идем от одной бывшей избы к другой. Заросло все вокруг чистым сосновым лесом. Каждая сосна в обхват. Но все еще видны на земле ямы погребов, уклады. А вот и нижний венец сохранился, лежит он, проросший кустарником и молодым подгоном, в пыль истлевший, ровным четырехугольником. Внутри его вымахали в полтора обхвата сосны, а он все еще обозначает прежнюю рубленную в крест избу. А вокруг, куда ни глянь, такие же истлевшие, но задубевшие у корня высокие пни. Валил тут русский человек громадные деревья, сек их топором с одной стороны, с другой огнем спаливал. Пни до сих пор хранят могучий посек топора. Всласть рубили казаки дерево, с кряком, со всего плеча, всей недюжинной силой. Вот они, эти могутные казачьи засеки. Сохранило их время, не порушило ни гнилью, ни огнем, ни тленом.
– Ну, веришь теперича в байку мою? – спросил Чироня, когда свалились мы по крутому склону в набережную тайгу.
– Верю.
– Это место добрым у эвенков считается.
– А что, есть недобрые?
– А то как же! По тайге их сколь угодно. Возьми, к примеру, следующий мег, – и предупредил: – Только я тебя туда не поведу.
Пообедав у кочомы – многоводной таежной речки, мы с первой вечерней сутемью вышли к станку Таловенькое.
– Однако, паря, ночуем тут, а завтра до солнышка по кочоме двинем. Почогиры на ней стоят…