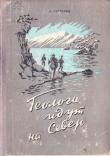Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Запись VII
Кочома
Вдоль широкой кулиги прошли берегом. Тайга тут далеко отступила от реки, вцепилась изогнутыми, скрюченными корнями в скалистый ярок, нависла над раздольем трав зеленым плотным козырьком. Деревья ветвями поддерживают друг друга, только бы не сорваться вниз. Весною кочома буйно заливает кулигу, подбирается к яру, точит скалы, оттого настороженно так, с опаской шумят над кулигой лиственки и сосны.
По песчаной косе ивняковые ослопицы кое-где занялись зеленью, на них развешан невод, рядом белеют чистыми доньями три лодки-берестянки. Легкие эти суденышки, сработанные из корья, дошли до нашего времени, не изменившись, минуя столетье за столетьем. Ни дать ни взять первобытная пирога с острым, загнутым кверху носом, вязанная гибким тальником. Умно, ловко сработана берестянка. Выдержала испытания веками. Ничего к ней ни добавить, ни отнять. Совершенство навигационной науки для здешних мелководных речек и озер. Охотник легонько кидает ее на плечо и идет многие километры, минуя реку за рекой, озеро за озером. Ходить на берестянках с анавупом – шестом – большое искусство. Познают его с детства. Встречаясь с эвенками, мне не раз приходилось удивляться многим их орудиям и вещам, так искусно приспособленным к жизни в тайге, пришедшим в двадцатый век из былинной дали. И всегда в каждой такой обиходной вещи удивляла гармония форм, завершенность, практичная, не броская, но истинная красота. Как можно понятнее объясняю эту мысль Чироне.
– Ну так чо?! Это, паря, от тайги, от природы. Она агикана[2]2
Агикан (эвенк.) – таежный житель.
[Закрыть] направляет. Вот, к примеру, олениха, та же коровенка. А молоко ее пил – кумни называется – масло маслом. Почему? А потому, что иначе нельзя – вымешко у нее с кулачок. Мал золотник, да дорог. А почему мал, да потому что несподручно ей с большим выменем-то по таежной глуши мотаться. Уразумел?
Идем медленно, по пояс в мокрой траве. Ведет нас едва заметная охотничья тропочка-путик. Лютует комар, мокрец занавесил солнце. Липнет к рукам, пробивается сквозь кисею защитных сеток, ползет в сапоги, жжет ноги. Чем выше поднимаемся путиком, тем легче становится дышать, с реки набежал ветерок, отогнал комара, мокреца тоже поуменьшилось.
Миновали скалистый приплечек, снова спустились к реке, на каменистую галечную отмель. Кочома тут переваливается через порожек, кипит белой продувной пеной, гудит, скатывает ослизлые, стального отлива валуны, оглаживает берег и, наигравшись ретивó, успокаивается широким плесо. По камням, не страшась стрежневых потоков, фонтанов брызг, скачут на порожке плисточки[3]3
Плисточка (мест.) – трясогузка.
[Закрыть]. Поскачут, порезвятся в реке и выбегают на отмель. Довольные, радостные. Стрекочут, знобко трусят гузками. Как метко это в языке – трясти гузкой – трясогузка. А плисточка? Вероятно, теперь и не узнать, почему ее так назвали люди. Легонькая, веселая, сысподу в белом пере, спинка пепельная, по горлу черный воротничок и черный же беретик на затылке.
Загляделся, стою у воды, Чироня по отмели далеко ушел, снова поднимается вверх по яру…
Нербоколо – высокое лобное место над рекой, рядом густой, черный бор. Пропал комар, исчез мокрец. Солнце припекло, выжарило травы, отогрело землю. Легкие не вмещают воздуха, с ягодников прянуло горячим духом малины, вздобрели, поползли по стволам янтарной сукровицей смолы, поздним цветом, крепок его запах, омыло, словно бы кто нарочно распушил вокруг тонкие, в пепел тертые пряности.
Три чума на нербоколо, одно чумище – связанные в ласточкин хвост голые жерди. Собаки привязаны в лесном подгоне (охотники в тайге держат летом собак на привязи; треплет собака еще не вставшую на крыло птицу, портит ондатру), пошумели недолго и улеглись повизгивая.
Во всех трех чумах ни души. Вокруг вещи разложены, домашняя утварь, обиходь. Над кострищем на таганке болтается до иезги прочерненный чайник. Вода в нем еще теплая. Чироня сбрасывает с ног бахилы, развешивает на солнце портянки. И босиком шлепает с чайником к родинку, что звенит где-то за крайним чумом в белых мшалых камнях. Потом, присев на корточки, раздувает костер, потягивается сладко:
– Охотники за сохатым пошли. Не добудут – амаку срежут. Женщины с оленя′ми. Ребята ягоду берут.
Все это он говорит твердо, будто прочел оставленную хозяевами подробную записку.
Из года в год бродя по тайге, я привык к этим вполне определенным объяснениям предполагаемого. И никогда оно не расходилось с действительностью. Таежники – люди необыкновенной, какой-то острооголенной наблюдательности. То, что кажется для человека стороннего просто стойбищем, для них – раскрытая книга, в которой подробно рассказано, что происходило тут день, два, неделю назад, в самых мелких подробностях. Не утерял этой способности и Чироня.
– Долго ли ждать хозяев? – спрашиваю я.
– Ребятишки, однако, часа через два прибегут, а потом старик придет – хозяин, Петра Владимирович.
– Он что, не ушел за сохатым?
– Нет. Уже не ходит. Тут где-то близко топчется. Цвет лекарственный сбират.
Береговой сва′лок зарос буйным мелким розовым цветом медвежьего ушка. Чироня, потягиваясь у костра, говорит:
– Яро медвежье ушко цветет – осень теплая будет.
– Чироня, скажи, почему ты решил, что ушли охотники за лосем?
– Э, сляпой, что ли? Мясо на стойбище кончилось. Дня как три не варили его. Пищу готовят в маленьком казанке – мало народу в стойбище, тозовок нет, медвежатников-собак ни единой нет, одни качеканки[4]4
Качеканка – молодая собака, щенок.
[Закрыть], оленьих сумок – потакуев, в чем мясо возят, тоже нет… Ишо чего надо сказать?
– Нет, понятно.
– Об остальном, паря, сам додумаешь. Гляди, в тайге без взгляду нельзя. Стряпаться будем или хозяев подождем?
– Подождем.
– Ну, – соглашается Чироня.
Напившись чаю – выдули целый чайник, мы залегли с Чироней в теньке. Забылись глубоким, после дороги, сном. В тайге спится здорово, вероятно, хмелит бражный сосновый воздух.
Солнце медленно обошло чум, сторожко подкралось к нам, помалу, неслышно изгоняя тень, и брызнуло в лицо, жарко, прилипчиво. Мы разом проснулись, пот заметал лицо, шею, волглые рубахи пристыли к лопаткам. Душно. Во рту сухо, будто и не пили чаю.
– Пойдем скупнемся, – предлагает Чироня.
– Пойдем.
Вода в реке прохладная, дно плоское, твердое, – слежавшийся крупный рудовый песок. И река рудовая – будто расплавленная медь. Чироня полощется подле берега. Вода не задерживается на его желтом мосластом теле, скатывается как с утки. Под левым соском красный в детскую ладошку паук раскинул змейкие хищные щупальца-лапки, впился в кожу, ушел хоботком глубоко в тело, обсасывает Чиронино сердце.
– Чироня, что это?
– Затесь от фашиста. Под Москвою влепили. Во, глянь – навылет, – он поворачивается ко мне спиной: в ладонь ниже лопатки узкой засекой зарубцевавшаяся рана. – Сюда вот вошла, – он загибает руку, тыча черным, заскорузлым большим пальцем в рубец. – Под титьку вышла. Фарт. В пяти миллиметрах от сердца прошила.
– Ты воевал?
– А то как же. «За отвагу» имею. А эта вот, – он щелкнул себя по красной отметине на груди, – еще одна. Другу обещались дать, что выжил, с победы двадцать лет. Да, верно, запамятовали. Один баял, что ищет меня орден. Дескать, медали всем, кого ранили, тогда давали. А орден особо – за подвих.
– А у тебя подвиг был?
– Какой там подвих! Я скрадом, до атаки в их штаб проник, ну и выпластал, может, семь, а может, и десять ихних офицеров. Есэсавский батальон супротив нас стоял.
Я в медсанбате уже ходилки отбрасывал, когда наши их поломали. Торкнулись к штабу, а в ем весь комсостав, как баранья, перерезаны. Наш комрот кричит: «Ребята, кто этот подвих совершил?» Это мне все тот же баял, можа, и врал. Командиру мои взводный: «Это не иначе как боец Кашмылов, посланный мной на задание». – «Где он? Орден ему!» – «Он навроде как убитый уже», – это наши бойцы отвечают. «Убитый?!» – кричит командир. «Почтим память героя – посмертный орден ему!» Вот как оно было, а я так думаю – брехал паря. Мы с ним вместе в госпитале лежали, мне баба нашего негского масла топленого с медом прислала. Надо быть, подмасливался.
Чироня выходит на берег и, не вытираясь, не сгоняя ладонями воду с тела, лезет в штопаные груботканые кальсоны. (Вредная баба Матрена Андронитовна – даже исподники упрятала от мужика!)
– Слушай, почему у тебя тела такая гладкая? – спрашивает Чироня.
– От белого хлеба, – шучу я.
– От хрукты да сладкого вина. У меня от этого твоего портхвея (так он упорно называет коньяк) другой день в брюхе щекотанье происходит.
– Вот вернутся охотники – выпьем, – обещаю я.
– Верна! – одобряет Чироня и крякает.
На стойбище радостно зашумели собаки.
– Ребятишки пришли, – говорит Чироня.
Ребят пятеро – два мальчика и три девочки. Одна, совсем маленькая (годика два), сидит у костра, играет угольками. Другие сгрудились в стайку, стоят рядышком, смотрят безотрывно на нас.
Чироня что-то быстро говорит по-эвенкийски, мне не разобрать, берет на руки меньшую, начинает гукать. Девочка смеется. Старшие мигом разбегаются по стойбищу. Кто, прихватив обеденный казан – по воду, кто тянет из тайги сушняк для костра, средняя девочка возится в чуме, старшая пошла к реке.
Я залюбовался ею. Девчоночья неуклюжесть и угловатость только-только покинули тело, уступив место необычайно яркой красоте просыпающейся в ней женщины. Все в ней первозданно, будто только сию минуту на наших глазах неведомый резец ваятеля-природы коснулся, убрав из фигуры все лишнее, подчеркнув все новое, свежее, вдохновенно-красивое. Вот так разом ошарашит «Волна» Эрзи или коненковская Ника, заставит задохнуться на миг от встречи с прекрасным, и только потом докучливо разберешься в неповторимых переливах красоты человеческого тела, а пока только восторг, только радость – чистая, высокая.
– Как ее звать? – спросил я Чироню.
– Асаткан.
– Подожди, но ведь по-эвенкийски «асаткан» – девочка.
– Да. У эвенков так. Родился ребенок. Отец вышел из чума, что первое услышал или увидел – тем и назвал. Ее отец вышел, а навстречу бежит девочка. Он ее первой увидел. Вот и назвал Асаткан. – Чироня снова подхватил ползающую у его ног малышку. – Бадялаки – отец лягушку первую увидел. А он – Тураки, когда родился, ворона крикнула. А этот – Холбан – отец увидел над чумом красный Марс. Ну а осредыша звать Агды – гроза была, когда родилась. У них и русские имена есть, но в тайге теми кличут, какими нарекли при рождении. Такой закон.
С реки вернулась Асаткан. Она принесла в плетенном из тальника силке рыбу. Серебряные сиги, юркие травянки, крупные ельчики, красавцы хариусы, выброшенные на траву, забились, заплескались у маленьких ступней хозяйки.
– Ой, бой! – весело закричала Агды.
И все, сгрудившись вокруг старшей, начали чистить рыбу.
Малышка подползла, уцепила что-то из рыбьих внутренностей, потянула в рот.
– Бувкэвун![5]5
Бувкэвун (эвенк.) – яд, отрава.
[Закрыть] – мягко обронила Асаткан, даже не повысив голоса, и Бадялаки замахала ручонкой, вытирая ладошку о подол исчерченного ягодным соком платьица.
Асаткан поднялась с корточек и пошла к чуму. Проходя мимо, из-под черных, прямых, словно бы лучики, ресниц бросила на меня в утайку стремительный, как у зверька, взгляд. И я снова залюбовался ею.
Маленькие, девически заносчивые груди обугрили легкое алого ситца платье, придав фигуре плавную легкость линий. Уже определившиеся округлости бедер подчеркнули стройность сильных нот, означили тонкую талию. Коротко постриженные волосы, в такую модную теперь скобочку, обрамили высокую шею, гладко легли вдоль ореховых, в теплом румянце щек, своей вороненой чернотой подчеркнув алость губ небольшого рта. Глаза у Асаткан чуть-чуть раскосые, миндалинками, такие, какие делают нынче, подкрашивая уголки век, городские девушки, цвета густой, застоявшейся на холоду смолки. Руки гибкие, с глубокими золотистыми ямочками в подлокотье, с узенькими ладошками и тонкими сильными, словно бы выточенными из дорогого дерева, пальцами с розовыми ноготками.
Алое платье Асаткан мелькает по всему стойбищу. Она уже заварила уху, вскипятила чай, накормила братьев, отправив их в оленьи стада, что пасутся по хребтинам; состряпала что-то для маленькой, тоже накормила и уложила спать в берестяную люльку, прикрыв от комаров сеткой. Собаки тоже получили свое, улеглись, сыто вздрагивая и зевая. Асаткан сбегала к реке, отмыла собранную ягоду. Ни минуты без дела. И наконец подошла к нам, что-то спросила быстро по-эвенкийски.
– Обедать, уху хлебать приглашает.
– Ты разве не говоришь по-русски? – спрашиваю я.
– Говорю, – быстрый, с золотинками, лукавый взгляд.
– Ну так садимся вместе.
– Садимся, – засмеялась, прикрыла уголки губ концами синего, линялого платочка.
Асаткан разливает уху по трем алюминиевым солдатским мискам. Сначала в мою. Гостю лучшие куски. Получилось так, что в моей миске почти одни головы (самое лучшее лакомство) и почти вся картошка. Наполнила до краев и миску Чирони. Выбрала из казанка рыбу, разложила на деревянной столешнице маленького, в вершок высотою столика. Сама пока не ест, следит за нами, как-то так сердобольно, по-хозяйски подвигает поближе колобу – крохотные печеные хлебцы.
Ем я с охотой. Подхваливаю. Охаю от удовольствия. Это очень нравится Асаткан. Она все время заливисто смеется, пряча глаза, а нет-нет и начинает рассматривать в утайку гостя.
– Амикан[6]6
Амикан – по-эвенкийски не только медведь, но и дедушка.
[Закрыть] идет.
Я оглядываюсь вокруг. Никого. Спит в берестяной люльке Бадялаки, рядышком на оленьих шкурах посапывает Агды, спят, уткнув острые морды в лапы, собаки.
– Где он? – спрашиваю.
– Идет, – игриво, даже кокетливо отвечает Асаткан.
– Откуда знаешь?
Смеется, дескать, вот глупый, не поймет откуда.
Минуты через три я слышу хруст валежника, легкий неторопливый шаг.
На поляну выходит высокий старик. Седые, черного серебра волосы упали почти до плеч, реденькая бороденка, вислые усы. Плечи у старика широкие, острые, на них плотно сидит двубортный поношенный, аккуратно латанный пиджак, перехваченный в поясе сыромятным ремешком. Широкие штаны у щиколоток прихвачены внахлест тоже ремешками, на ногах мягкие, с прочной подошвой чикульмы. Грудь у старика голая, под пиджаком нет рубахи. На левом бедре висит широкий охотничий нож. За спиной в большом березовом потакуйчике цветы, громадный пестрый букет прижимает он рукой к левому предплечью, так что цветы осыпали деду шею, запутались в реденькой бороденке, припали к нагой коричневой груди. Правой рукой опирается на пальмичку с острым, источенным до бритвенной тонкости лезвием.
– Авгарат бикэл[7]7
Авгарат бикэл – эвенкийское приветствие: «Будь здоров».
[Закрыть], – приветствует нас еще издали старик и, вероятно разглядев незнакомого, добавляет: – Сдравствуйте, сдравствуйте.
Асаткан помогает ему снять потакуй, принимает из рук цветы, пальмичку. Старик подходит к нам, подает руку. Я называю себя, пожимая его сухую ладонь.
Петра Владимрич! Однако, жив, паря. Маленько не сдох, Чироня, – шутит старик, пожимая руку моего проводника.
– Не сгорел ишо, – Чироня почтительно вкладывает в пальцы Петру Владимировичу ложку.
Молча хлебаем уху. Старик ест быстро, жадно. Ловко, одними губами выбирает рыбьи кости, сплевывает их в ладонь, складывает горочкой подле колен. Он иногда протягивает руку к столешнице, и тогда Асаткан, сидящая слева и чуть позади деда, с готовностью подает ему то крупный разварившийся кусок рыбьего мяса, то колобу. Поев ухи, мы начинаем пить чай. Чироня с надеждой глядит на меня. Ожидает добавку «портхвея», но я решил сохранить коньяк до прихода охотников.
За чаем можно и поговорить. Петр Владимирович помалкивает, и я для начала разговора рассказываю ему, откуда приехал, зачем. Говорю о том, что года два назад кочевал зимой с Макаром Владимирычом Почогиром.
– Э, паря, однако, моя брат Макара. Нет его, ушел к верхним людям.
Я уже слышал о смерти этого необыкновенного охотника и хочу нынче обязательно зайти к нему на могилу.
– Отсюдова, паря, недалече. Два оленьих перехода. Балдыдяк[8]8
Балдыдяк – место, где родился.
[Закрыть] Макаров, там и покрыли его. Может, сбегаешь?
– Обязательно, деда Петра.
– Оленей дам, беги, паря. Чиронька проводит. Можна моя мальчишка. Мяса дам. Колоба дам. Беги, паря. Шибко большой илэ Макара был.
– Какое имя было у него – эвенкийское?..
– Кароший имя, удачный был, шибко, паря, удачный – Ганалчи[9]9
Ганалчи – стрелок из лука, стреляющий, увертливый от стрел, ловкий.
[Закрыть].
В берестяной люльке зашевелилась Бадялаки. Асаткан проворно подбежала к сестренке, мягко, ласковым, как ручеек, голосом запела:
– Бэ-э-бэ-э, бэ-э, бэ[10]10
Б э-э – баю-бай.
[Закрыть].
– Что в тайге делали, Петра Владимирович?
– Э, дело, паря, шибко старика – трава, цвет собирал. В тайге многа доброй травы растет. Лечить будем. Шибко помогает.
Старик хорошо говорит по-русски, иногда только путая падежи и роды, пользуясь родными словами, речь его стремительна, так что приходится быть очень внимательным. Он вежлив, общителен, добр – это чувствуешь сразу же; смущает меня одно: мы ни разу не встретились с ним глазами, прячет старый охотник взгляд. Смотрит все время себе в колени.
– Слышь, паря, – говорит он Чироне, – нынче, однако соболь плодовит. Так и шастат, так и шастат.
– Где был то?
– На синем хребтике. Тайгою туда дотоптался, Алешкиным путиком.
– Белку слышал ли?
– Белку не слышал, паря. Белка нынче по Окунайке кормятся. Побежишь на Макаров Балдыдяк, послушай.
– Ну.
Солнце катится к закату. Длинные синие тени легли на стойбище. Оранжевые полосы высветили чумы, березовый олдокон[11]11
Олдокон – покрытие чума.
[Закрыть] затеплился жаром, заиграли на нем отсветы, словно бы язычки малого пламени. Возятся на поляне Агды и Бадялаки. Асаткан разбирает травы и цветы, принесенные дедом, раскладывает их аккуратными грудками. Тишина. Ровно потрескивает табак в трубочке. Чироня раскурил ее, вытер мундштук тыльной стороной ладони, передал Петру Владимировичу.
– Пойдем эаневодим, однако, – предлагает Чироня.
– Сбегайте, ребята, сбегайте, – соглашается Петр Владимирович. – Я к вам рекой попритыкаюсь, однако.
– Идем, ну. На тоню, что утром проходили.
– Идем, – соглашаюсь я.
Поднимаемся, идем к реке. Петр Владимирович сидит у костра, глубоко подобрав под себя ноги, чуть наклонившись вперед, задумчиво курит.
У реки за набережными тальниками плещутся и кричат девчонки, тайга откликается, играет, шалит их голосами.
– Чироня, а почему Петр Владимирович в глаза не глядит, все прячет взгляд-то?
– А зачем ему на нас глядеть-то? Сляпой он.
– Как слепой? – Я останавливаюсь и стараюсь задержать Чироню: не шутит ли?
– А так во и сляпой.
– А как же он по тайге, как же нас узнал, здоровался? Синий хребтик – это же далеко? И потом сейчас притолкаться на берестянке к тони обещал.
– Притолкаться, чего ему. По памяти ходит.
– А ежли зверь?
– Он его слышит…
Запись VIII
Бегалтан
Неводим. Чироня столкнул в реку погонку – маленькую, собранную из тесовых березовых досок лодчонку, приладил к одному крылу невода речник – крепкую плетеную веревку, захлестнул ее узлом под поперечницу, сложил сеть на корме и, приладив береговик, передал его мне.
– Пойдешь берегом, когда скажу, – и оттолкнулся шестом, выгоняя лодчонку на стрежень.
Заструился, мягко заскользил в реку невод. Чироня, ловко орудуя шестом, плавит лодку к противоположному берегу.
Вот и последний виток невода канул в воду. Речник натянулся. Пружинисто выгнулся анавун[12]12
Анавун – шест, которым толкают лодку.
[Закрыть]. Чироня выправил нос лодки по течению, напрягся и толчками погнал ее, увлекая за собой невод.
– Трогай! – крикнул он. – Не поспешай, не поспешай. Валко ходи.
Я захватил береговик правой рукой, перекинул конец его в левую, пропустив крученую колкую бечеву за спину по плечам, и медленно, валко, чуть отваливаясь, вспять от реки, пошел по галечнику.
– Страшай! Страшай! – командует Чироня.
Это значит, что надо, чуть ослабив натяжку бечевы, шлепать береговиком по воде.
За три тони взяли мешка четыре рыбы – крупные сиги, язь, травянка, хариус – громадного, в добрую полутораметровую колодину тайменя и еще всякой разной рыбы.
Я распалился, готов неводить еще и еще.
– Будя, – говорит Чироня. – Ежли бы ее сдать можно было, тады да. А так куда ее? Собакам на корм.
– А разве не заготовляют рыбу?
– Не. Ране заготовляли. А сейчас не, с тем, что на земле-то, не управляемся. Раньше солили, вялили, в город отправляли. Это при колхозе. А нынче всем все без антиресу.
Начало смеркаться. Чироня разжег небольшой костерок, настругал гладких палочек. Насадил на них, отобрав, рыбу, что помельче. Обрядил струганками костер.
– Сама скусна рыбка, что на рожне исделана.
Выледился в небе тоненький серпик народившегося месяца, закачался в реке, чуть размытый туманом. Чироня прислушался.
– Петр Владимирович, однако, идет.
Сверху доносились плеск и глухие удары шеста. Берестянка, белея высоким загнутым носом и бортом, ходко шла по стрежню. Петр Владимирович стоял в полный рост, охаживая реку то слева, то справа от лодки длинным шестом. Он был еще хорошо виден в сумеречном, синеватом полусвете. Собранные под тесьму волосы чуть растрепались за плечами, чуткое лицо чеканно застыло в сосредоточенном внимании; да и весь он будто рублен из одного кряжа, только руки работают, движутся легко, будто без усилий.
Тайга, синющая, почти черная, глыбь ельников по ту сторону реки, серпик месяца, вода, прибранная белой дымкой тумана, лиловый отблеск костра на ней и Человек с шестом в руке, на маленькой лодчонке… Так вот через столетия, через века вечные в беспредельность.
Вспомнился «Гонец» Рериха, и что-то еще шевельнулось памятью, не мною виденное, предками, чья кровь неслышно бежит в моих венах, колотится в сердце, будит забытое.
Берестянка Петра Владимировича, мягко прошелестев по борту нашей лодчонки, пристала к берегу. Петр Владимирович, легко выпрыгнув, вынес ее на галечник и пошел к нашему костру. Полноте! Слепой ли он?..
– …Я, паря, много земли истоптал.
Отсвет костра шарит по лицу Петра Владимировича, по недвижно открытым глазам. Он не щурится, не моргает голыми, в морщинистую сборочку веками. Сидит, подставив теплу и дыму сухое лицо, сосет трубочку.
– Глаза тайга выпила. Знаешь, как льдову росу солнце пьет? Однако, так же. Муску на руже не вижу – белку бью по слуху. Шибко плохо, паря. Ночь наступат. Кудо, совсем кудо. Брат приходит, Макар Владимирович, на семь зим старее, против меня. «Петра, меня видишь?» Не вижу, паря! Совсем, однако, кудой стал. Лечиться надо. Побежал в город. Долго бежали, олень бежали, самолет бежали, большая лодка – пароход бежали. Зачем? Врач смотрел. Свету нет, однако, ночь, паря. Домой бежал, как жить буду, думал. Макар говорил: «Где ты, паря?» – «Стойбмща моя, на Качома, – отвечал. – Качома помнишь?» – «Помнишь». – «Путик своя помнишь?» – «Помнишь». – «Ходи, за память крепко, паря, держись. Капкан ставь. Трава, цветы запах помнишь?» – «Помнишь». – «Трава, цветы собирай. Людей лечи. Олень стоит, слышишь?» «Слышишь». – «На ружье, стреляй олень!» «Жалко, паря!» – «Больной он, убить надо. Стреляй!» Лунул. Убил оленя. Макар говорит – в голова попадал. «Иди, говорит, снимай шкура с оленя!» Снял. Однова руку совсем маленько резал. Заживет. Лечил меня Макар. Вылечил. Зачем в город бегал – не знаю. Врач говорил – нет свет. Макар сказал: память держись. Слушай. Уши-глаза, память – все видит. Другой год сохатый убил. Бегал, паря, за синий хребтик. Маленько спал. Во сне все вижу, во сне нет ночи. Вижу: лежу под елкой, сохатый тайгою идет. Большой авлакан. Спокойно идет. Вижу – ноздря водит, туда сюда, вот так, – Петр Владимирович начинает медленно водить головой, поднимается в рост, настораживается, выгибает спину, ни дать ни взять сохатый перед нами. – Я сплю, однако, себе говорю, спи, Петра, все видишь. Проснешься, ночь будет. Не запривадил сохатый меня, на поляну выходит. Вижу, траву ест, шею нагнет и сбират, сбират под губу. На шее – во каки складки – жирный. Проснулся. Ночь. Слышу – сохатый, вот он. Выслушал. Ружишко со мной было. Поляну помню. Однако две сосны на ней. В соснах сохатый. Жду. Вышел, траву храмк-храмк. Я легонечко ворохнулся, он ко мне голову повернул. Тутова выцелил и лунул. На колени, однако, авлакан торкнулся. Я ишо лунул. Бьет задним копытом, встать не может. Я с морды ишо забежал, ишо лунул. Затих. Шкуру снимал. Мясо в потакуй кидал. Серса, язык, печенка. Туша прятал. Шкурой крыл, колдником хоронил. Домой прибегал. Курил. Сыну говорил: «Поди, Алешка, возьми из потакуя серса, язык, почка. Я авлакан убивал». Праздник был. Макар прибегал: «Малацса, паря!» – кричал.
Петр Владимирович замолкает надолго. Молчим и мы. Потом поднимает ладонь и долго держит ее, чуть приподняв, на уровне глаз, потом тихо шепчет: «Бегалтан»[13]13
Бегалтан – лунный свет.
[Закрыть].
Запись IX
Праздник медведя
Охотники вышли только на третий день. Привезли много мяса. Следили сохатого – амака вышел. Взяли амаку – вот он и сохатый. Взяли и сохатого. В стойбище шумно. В двух громадных казанах варится мясо. Сердце, печень, ночки, легкие и самые сладкие куски медвежьего мяса готовят отдельно. Голова медведя лежит нетронутой позади чумов, прикрытая ветловником. Собаки, сладко обожравшись, спят, посвистывая и похрюкивая во сне. Все женщины заняты разделкой мяса, подкапчивают его на большом костре, продымливают, чистят, обрабатывают шкуры. Жена старшего сына Петра Владимировича, мать Асаткан, Биракан[14]14
Биракан – река.
[Закрыть] готовит пищу. Ей помогает Асаткан, раскрасневшаяся, веселая. Мужчины, все до единого, и я вместе с ними, мозгочат – колют сырые сохатиные трубчатые кости, выедают уже немного подзавядший мозг. Лица, руки лоснятся, покрываются налетом сырого костного жира.
Алексей – старший сын Петра Владимировича – полон гордости и тщательно скрываемой важности. Это от его выстрела рухнул сохатый, и на него вышел озверевший от собачьей трепки медведь. Ему – фарт.
Мозгочить поначалу неприятно, даже подташнивает с непривычки, но, глядя, с каким наслаждением, благоговейной сладостью едят вокруг, начинаю потихонечку, поборов брезгливость, втягиваться в общую трапезу.
Хлопнуть бы перед таким блюдом разом стакан за стаканом спирту или коньяку, а тогда и трава не расти – молоти все подряд. В вещмешке у меня фляга коньяка и две плоские бутылки «Отборной старки». Я их берегу, знаю сегодня будет праздник медведя. А пока, чтобы не обидеть охотников, стараясь не думать ни о чем, обираю пальцами, губами, языком расколотые кости, которые то и дело подталкивает мне то один, то другой охотник.
Втянулся – и вот уже в удовольствие глотаю студенистые, холодные, иногда чуть-чуть припахивающие сгустки костного мозга. Мозгачим. Тымаксан[15]15
Тымаксан – завтрак.
[Закрыть].
После завтрака курим. Потом пьем чай, долго – до пятого пота. Охотники рассказывают, как брали зверя, быстро, по-своему, так, что не разобрать.
– Много лося, паря. Пожар горит – бадара. Сохатый прячется, сюда бежит. Шибко много.
– Где горит?
– Э, далеко. Двасать переходов, двасать пьят – оленя ходить будешь, – отвечает Алексей.
– Почему горит?
– Всяко разно быват. Агды – молнией зажигат, кудой место, там внизу, земля горит – выйдет огонь – горит. Кудой человек тайгу палит. Экспедиторы…
Экспедиторами эвенки и местные русские жители называют работников геологических, топографических и других поисковых съемочных партий.
– Шибко много кудой людишек по тайге бегат, – говорит Петр Владимирович. – Экспедитор больно кудой стал. Тайга – вредит, охотника – вредит. Кому польса делат, а?
Мне нечего ответить Петру Владимировичу. Я-то знаю, прав старый слепой охотник. Ох как прав! Много, очень много худых людей ходит по тайге.
Ежегодно в каждый полевой сезон в нехоженые, почти неизведанные и неисследованные края уходят сотни, тысячи, десятки тысяч экспедиций и партий. И у каждой на вооружении самолеты, вертолеты, новейших конструкций полуглиссеры, рассчитанные на мелководья, портативные, но мощные подвесные моторы, лошади, олени. В любой в самый что ни на есть глухой урман за несколько часов выбросят вертолеты целый десант, завезут продукты, рации – работай. Расширяются объемы работ, принимаются планы, ставятся новые задачи. И все это правильно, все это нужно. Но вот на одного специалиста, инженера, геолога ли, техника ли, топографа, приходится по десять, порой двадцать рабочих. Рабочих полевых партий. Но такой профессии нет, не в законе эта профессия, не в чести. Любой, кто бы он ни был, может в одночасье стать «экспедитором». Боже мой, кого только не встретишь среди рабочих полевых экспедиций! Все, кому не лень, хлынут в партии. Тут и такие модные в недавнее время туники (тунеядцы: очистили от них города, вывозили в Сибирь, возьми, боже, что нам негоже), алкаши (пьяницы, выброшенные из десятков учреждений и заводов), блатари (мелкие жулики, хулиганы с паспортами, выданными по справкам об освобождении), летуны (свободно передвигающиеся по стране люди в поисках рубля и приключений), романтики (срезавшиеся на экзаменах в институты и ушедшие в жизнь – это наиболее спокойная, но по неопытности тоже вредная часть великой армии «экспедиторов»). Да разве можно перечислить всех, кто ежегодно уходит в тайгу в казенной знцефалитке, добротных кирзовых сапогах, с казенным вещмешком за плечами, с казенным оружием, Постоянно меняющаяся текучая река судеб, характеров, лиц…
Есть, конечно, среди этого потока люди бывалые, честные, знающие тайгу, дело. Хорошие, настоящие помощники самоотверженным людям тяжелой, благородной специальности – геологам, топографам, ботаникам, географам, да разве перечислишь их всех, кто какое уж время простукивает, выслушивает, доглядывает, лечит, читает нашу такую знакомую и такую неизведанную землю. И, честное слово, сердце сжимается, когда уходит в тайгу, с неведомыми ему людьми, специалист. Каковы они? Не бросят ли в беде? Не сорвут ли работу? Не уйдут ли в тяжелую минуту, прихватив заодно продукты и вещи? Случается и такое. Убийства случаются.
И все-таки идут. А как же иначе, нет такой профессии – экспедиционный рабочий.
Я думаю об этом, слушая охотников. Незло говорят, тихо, а надо бы кричать, звать на помощь.
– На Окунайке (там раньше охотился Макар Владимирович), – рассказывает Алексей, – лабаз сладил. С лета мука завез, сахар, крупа. Зимой кушать надо. Шкура завез. Посуда. Чум ставил. Олень туда, сюда с барахлом гонял пять раза. Срубик – десять делал, привада соболю давал. Пусть кушает, привыкает. Зимой возьму. Карашо, отшень! Баякит[16]16
Баякит – место, богатое зверьем, рыбой.
[Закрыть]. Сезон подходил – детишка брал, жену брал, оленей гнал. Карашо будет – много зверя стрелям, говорил. Приезжал – ничего нет. Ни чум нет – сгорел чум, ни срубик нет – ломал, кудой человек, срубик. Лабаз – нет, жрать – нет. Все исгадил, все разбивал. Плакал шибко я. Отец плакал.
– Да, да, – покачивает седой головой слепой охотник.
– Да, да, – кивают остальные.
– Прошлый год было. Назад бежал. В Буньское ходил. Иван Иваныч кабинет забегал – плакал. Зачем так? Он меня жалел, мука, крупа давал – апанс. Назад бежал – снег глубокий падал. Пропал охота. Совсем мало белка брал, соболь. Кудо было, совсем кудо. Совсем многа кудой народ тайга пошел. Экспедитор…