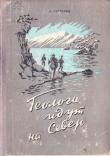Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Комлев лег на лавку подле стола, подложив под бок полушубок. Но сон не шел. Все смешалось: какие-то шаги, вздохи, потаенные шорохи, скрип ворот на ржавых вереях, слышался бабий шепот и даже возня собак во дворе. А потом явственно вдруг увидел село своего детства, речку Блажную, мужика Изота, который, хитро усмехаясь в бороду, грозил ему скрюченным в корень пальцем и говорил пришепетывая:
– А я знаю, знаю. Это ты, пащенок, о комиссаре-то все выболтал. Ты. Откуда бы тебе знать? A-a-а, узнал, пащенок. Везде, лис пошкодливый, пролезешь. А ну иди. Я те Москву покажу!
Комлев открыл глаза, тряхнул головой:
– К чему это Изот-то вспомнился? Ну, да это потому, что тогда рассказывал о нем…
2–3 октября, вверх по реке
Ночь и утро принесли Многоярову много огорчений. Ночью сильно захолодало. Под утро заладил дождь вперемежку со снегом. Комлев и Многояров лежали в палатке, тесно прижавшись друг к другу, чтобы чуть-чуть согреться. Вставать было не к чему. Идти в такую погоду в маршрут значило бы идти на верную смерть.
Комлев курил, и от этого становилось в сырой палатке как-то теплее. На таких вот вынужденных «лежках», а случаются они нередко (плохой тот геолог, кто в дождь пойдет по тайге), в голову приходят всякие, чаще всего мрачные, мысли. Вынужденное бездействие в тайге всегда вызывает к откровению, к желанию вспомнить былое.
– Я, Алексей Николаич, старый мужик, – неожиданно начал он, как бы продолжая разговор, и пощипывал мочку уха. – Старый мужик, – повторил он. – Всего-то на четыре года моложе нашей революции. Родился я, когда по Сибири, по Уралу и по всей матушке-Родине неспокой хлестал через край. Отца моего, стыдно сказать, в то суровое время уложила в могилу обыкновенная простуда. Остались мы вдвоем с матерью в таежном кержачьем селе. Жили тихо. Мать портняжничала. Отец у меня тоже путным был, копейка, стало быть, имелась. Село не так чтобы большое, но крепкое, старой веры. Мужики чинные, бородатые, сумели в разрухе да голоде сберечь хозяйство. Ни белым, ни красным не перечили и тех и других по возможности кормили и по возможности без шума убирали. Как? На то много средств у лесных людей имеется. Только один раз дали ошибку, выплыли концы.
Пришли в село красные. Приняли их, как водится, с хлебом-солью. Собрали сход, митинг. Единогласно взяли к себе комиссаром бывшего кузнеца из ближнего городишка. Хлебушек добровольно, а потому себе не в ущерб, отсылали отряду. С честью проводили до околицы, бабы платочками махали. Комиссара обласкали, а через три дня свели его вверх по речке к омуткам и пустили к рыбкам с камушком на шее. Река та чистая, глубокая, выристая, Блажной называлась.
Только комиссар живуч оказался. Каким-то манером камушек тот снял, да и вынырни посередь села у мостков, где бабы белье полоскали. Ухватился за свайки и скребется на мостки, ослизываясь руками. Страшненький был, с головы белее мела, глаза окровенились, лицо синее. Бабы от такого страха – в визг и врассыпную. Только сноха крепкого мужика Изота не побежала. Смекнула бабенка, какое дело на вырях сдеено, и ну комиссара по рукам валком, каким белье бьют, охаживать. Валки те тяжелые. Она бьет, а он держится и только гыкает горлом, а носом вода у него так и хлещет. Она бьет, а он держится… Спустила с рук кожу, мясо стесала, одни кости белые на руках-то, и те уже в ощепь, а он держится. – Комлев словно бы и забыл о Многоярове, лицо его напряглось, взгляд устремился куда-то в запредель, вытянулась шея, и он даже чуть приподнялся на локтях. – Силенок той бабе не занимать было, ахнула она комиссара по голове так, что раскрыла ему череп двумя долями. А комиссар и тогда все держался, висел все на мостках. И только когда уж все село к реке сбежалось, сполз в воду, а она густая от крови. Комиссара выловили. Повязали вожжами сноху Изотову, и сам Изот, который только-только с омутов воротился, всенародно иссек ее кнутом. А сноха потом призналася, что комиссар, дескать, ее донимал и всякие ей мужские притеснения делал. И, дескать, когда купалась она у мостков поутру, поднырнул и осильничать хотел, а она выскочи на мостки-то и валком его отважь. Так вот и убила. Все на себя приняла сноха Изотова. Ее в селе показательно судили.
Рос я в лесу. Кержачки-то, кроме хлебушка и охоты, еще золотишком старались – мыли по речкам. Там вот и начал я эту науку лоточную. Нас, парнишат, брали в утайные эти старания, костер держать, кашу да чай варить. И чтобы ни гугу ни дома, ни в школе, ни друзьям-товарищам. Я с Изотом летовал. Вот так, Николаич. Хоть отец-то мой и пришлым был, но ребятня сельская меня за своего считала, да я и был свой. В драках ужом ходил, где силой не мог взять, кусался. Ух и кусался же. Мужики и те боялись.
Комлев замолчал, прислушиваясь к чему-то.
Молчал и Многояров, ему было неловко от рассказа Комлева – от того спокойного тона, когда говорил он о страшной кончине комиссара, от того безразличия к судьбе бывшего кузнеца и совсем уж непонятной животной страсти, как он умел в детстве кусаться.
– А дождь-то, ку-ку! Глядите, Алексей Николаевич, развиднелось. – Комлев, встав на четвереньки, раздвинул полы входа, и в палатку хлынул сырой, но бодрый запах тайги…
Вода в ручье пахла свежезасоленными огурцами. Умываясь, Многояров все время ощущал этот запах. Чуть-чуть пахло укропом, смородинным листом и свежестью. Над тайгой густо шли темные, в белых подборах облака. Ветер гнал их, близко прижимая к земле. Было сумеречно. Комлев разжег костер, и желтое пламя казалось особенно ярким и добрым.
– Ну, как твоя грызь? – спросил Многояров.
– Давай, Николаич, рюкзаки опять делить поровну. Хватит, наишачились за меня. А грызь что? Подживляется…
– Шлиховать сможешь?
– А то как же! У кого спрашиваешь, Алексей Николаевич? Нам все равно, что санаторий, что крематорий, – хохотнул Комлев.
– Значит, так, Николай. – Многояров развернул карту. – Времени у нас с тобой мало, а надо пройтись по всем этим устьям. Ручьев видишь сколько? Двенадцать. И не только отшлиховать в устьях, а тут вот, тут и тут, – на каждой из тоненьких синих жилок Многояров отметил по три крестика. – Жуть работенка! Смотри, и забереги уже появились. Сможешь ли? А, Николай?
– Да что вы, Алексей Николаевич? Надо – сделаем! Разе когда подвел? Да мы потомственные «лотошники», дурачился Комлев. – С костерком да по′том так заработам…
– Ты пойми, Николай, это очень надо. Но если плохо чувствуешь себя, скажи. Через силу не надо. Слышь, Николай Борисович?
– Да что ты, Николаич! Сделаем! Сказало – железо. Чо вы надо мной как над дитем? Давай мешки потрошить поровну.
– Нет, мешки по-прежнему! Возьми себе на нынешний день – сахар, тушенку, сухари, крупу. Мы с тобой разойдемся сейчас. Встретимся на песчаной косе у Сосновой кулижки. Знаешь?
Комлев кивнул.
– Засветло выходи к Авлакану. А я по горочкам полажу. На водораздел поднимусь. В общем, двинем. Шлихани первый, я гляну.
Комлев работал быстро, подсучив до локтей рукава энцефалитки и сбросив телогрейку. От холодной воды руки его мгновенно покраснели, обозначив синий ход вен.
Многояров подумал, что такого вот цвета были руки у его мамы, когда она стирала. И пахли они не мылом, не бельем и даже не горячей водою, а теплым земляничным запахом летних полян. И теперь, когда он возвращается домой, она, как и в детстве, берет в свои ладони его щеки и тянется лицом к его лицу, и руки мамы, худые, с потрескавшейся кожей, с набрякшими, вялыми венами, с резко обозначившимися суставами и сухожилиями, все равно пахнут тем же радостным запахом детства…
В первом шлихе как-то очень крупно и нагло (так подумалось Многоярову) сидело золото. Но и среди этих мутных, невзрачных шелушинок ясно проглядывали его – «многояровские» знаки.
– С золотишком вас, Алексей свет Николаич, – сказал Комлев, скалясь и грея за пазухой руки.
– Не в новину, – Многояров улыбнулся. – Разве за этот маршрут не нагляделись на него, разве не шло оно в руки против Лебяжьего душана?..
– Тут, однако, погуще и покрупнее.
– Хорошо. Но не оно мне сейчас нужно.
Комлев аккуратно снял шлих. Разглядывая его, Многояров безразлично ворошил кончиком карандаша золотинки.
Второго шлиха он дожидаться не стал и ушел вверх по ручью, неслышным и легким шагом.
Комлев, собравшийся было идти к следующей точке, неторопливо снял с плеч вещмешок, постоял еще для верности, послушал тайгу, низко наклонился лицом над ручьем, улавливая по воде дальние звуки и шорохи, потом снова набрал породы из того же, что и при Многоярове, бочага и начал ее мыть.
В новом шлихе золото сидело еще гуще. Хоронясь за тоненькие чешуйки и песчинки, будто пугаясь света, плутался рыжий «тараканчик» – крохотный самородок.
«Двенадцать устьев промыть надо, – думал Комлев. – И еще два раза по двенадцать. Поначалу пройду все устья». Николай ловко, одним наплывом снял «хвосты». Шлих был загляденье. «А потом поднимусь выше… Сумею ли пройти все отметки? А может быть, оставить на завтра? До Сосновой кулижки – рукой подать, можно и завтра пополоскаться. А если мороз? Набросится как рысь!..»
Зимы Комлев боялся. Он уезжал из тайги каждый раз до больших холодов. Каждый раз осенью, когда мороз начинал выбеливать землю и определять тоненький припай на ручьях и реках, Комлева охватывал страх: а вдруг разом ляжет снег, завернут морозы и зимняя тайга, замкнув ледяной круг, не выпустит от себя? Вот и сейчас эта мысль холодом обожгла сердце. Нынешний полевой сезон не в пример прежним затянулся, а теперь вот Комлев сам рассуждает над тем, задержаться ли у ручьев еще и на завтра или закончить работу сегодня.
«Конечно, сегодня! Только сегодня! Работать, работать! Мыть и мыть. Как можно больше. Так надо. А зима что? Не будет рисковать Многояров. Уйдет к эвенкам… Тут до Уяна один день ходьбы… Выйдем! Не будет рисковать Многояров…» – думал Комлев, а сам все мыл и мыл породу.
Многояров спустился к Авлакану, прошел песчаной косой к Сосновой кулижке. На косу наваливались и оседали с хрипом темные волны. Авлакан тут был широк и свободен. Хмурое низкое небо не отражалось в реке, вода была густо-фиолетового цвета. Цвет этот еще больше оттенялся белыми барашками волн и густыми обмылками шуги. Угрюмо катил свои воды Авлакан, предсказывая близкую непогоду, а может быть, и приход зимы. За Уяном даль была затушевана косыми черными полосами. А сам хребет будто бы отдалился, вмазавшись в небо лохматой таежной гривой. У гольцов Многояров оставил рюкзак, подвесив его высоко на дерево. Сунул в полевую сумку банку тушенки, несколько сухарей, сахар и ушел налегке в тайгу.
Комлев мыл породу. Никогда еще не видел он столько золота. Ни на Алдане, ни на Колыме, ни даже на Голубых ручьях, где в руки ему дался самородок в сто двадцать граммов. Такого, как тут, нигде не было.
Здешнее золото с каждым отмытым лотком шло гуще и гуще. Отобрав шлих, замаркировав его и спрятав, Комлев снова начинал мыть породу. Он не чувствовал холода, ломоты в руках, он потел, и крупные капли падали с красного его лица в лоток, в золото. Комлев потерял счет времени, метался от одного ручья к другому, от одной точки к другой. Но везде, куда бы ни сунулся лопатой, везде было золото, много золота…
«Ишь ты, – думал он в пылу работы, – нашел Николаич дурачка. Что ж я, не понимаю, что слава и почет – геологу, может быть, и премию дадут. За премию можно… Но ничего, я ее, премию, сам возьму. – Словно в бреду проходили и гасли мысли, и только одна неотвязно стояла в мозгу: – Золото! Сколько его тут! Сколько!»
И он мыл и мыл в жару, в липком, застившем глаза поту, в бледно-желтом тумане. Такой вот туман окружал его когда-то в детстве, тогда он болел корью.
Всегда спокойный на людях, даже немного безразличный, когда в шлихах, отмытых им, появлялось золото, тут Комлев потерял всякий контроль над собой и самообладание. Может быть, давало о себе знать напряжение нынешнего сезона. Шлиховал он этим летом необычно много, и с конца июля почти в каждом шлихе были сначала знаки, а потом и само золото с крупным выходом.
Комлев мыл и мыл… И каждый раз, когда к уголке лотка вялым светом начинал тлеть песок, легкий озноб пробегал по спине к затылку. Он нервно проглатывал разом скапливающуюся во рту слюну и замирал, охваченный азартом. Такой удачи он еще не знал за все полевые сезоны.
Увлечение золотом, перешедшее потом в больную страсть, началось лет пятнадцать тому назад. Тогда, шлихуя один из ручьев, он отмыл небольшой, с ноготь, самородок. Повертел его в пальцах, покатал в ладонях, ощутив какой-то жар от прикосновения к этому невзрачному «камушку», и, оглядевшись вокруг, положил находку в нагрудный карман. Потом в тот же карман, но уже тщательно завернутый в тряпицу, попал золотой песок, а там удалось намыть «для себя» еще и еще…
Отмыв лоток, он присаживался на пятки, широко разводил колени и доставал из ширинки штанов кожаный мешочек. И снова к горлу подступала сладострастная слюна, и озноб катился по спине и затылку…
В таком положении и застал его Многояров, Комлев только-только вытянул кожаный раструб мешочка и двумя пальцами раскрыл его. За шумом воды (тот ручей падал, споткнувшись на каменном порожке), за шумом тяжело пульсирующем в висках крови Комлев не услышал легкого шага геолога. Золото отняло осторожность.
– Так… – сказал Многояров.
Комлев вскинулся и помучнел до корней волос, даже воспаленно-красных рук его коснулась бледность.
– Так!..
Первым желанием Комлева было схватить карабин, что лежал у ног, и разом выпустить обойму в лицо Многоярова. В ту снова кинувшуюся в глаза коричневую родинку у правого уха. Но он, сам не понимая для чего, вдруг улыбаясь и заискивая, забормотал о том, что отмыл уже тридцать четыре шлиха и осталось еще только два. И, окончательно теряя голову, глупо повел рукою.
– Вот маленечко решил и для себя отмыть… на память, – мелкий смешок забился в горле. – На память… шлишочек… От многого… немножко… да…
– Давай сюда, – Многояров протянул ладонь.
Комлев зашарился по карманам, сунулся за пазуху, подергал нервно плечами и запустил руку в ширинку штанов. Он попробовал сорвать мешок с опояски. Острой болью отозвались не поджившие еще натертые ранки, но он все тянул и тянул мешок, захватив его в ладонь и понимая, что не сорвет его и даже не вынет, для этого надо было снова присесть на пятки и широко развести колени. Точно так, очень давно, прятали в кожаных мешках под мошонкой золото зимогоры.
Комлев, унижаясь глазами, беспомощно посмотрел на Многоярова.
– Снимай! – Краска заливала лицо Многоярова. – Снимай штаны!
– Алексей Николаич… – одним горлом крикнул Комлев.
– Снимай!
Красные, вспухшие от холодной воды, с неживыми синими ногтями пальцы сами по себе отпустили ремень, расстегнули пуговицы. Комлев проводил ладонями до сапог брюки и только там, у колен отпустил их, и они соскользнули на сапоги, на землю, расстегнул пуговицы на кальсонах, повременил мгновение и, багровея лицом, выпустил из рук гашник.
– Вон оно что?! У тебя грызь-то золотая, Коля!
Мелко-мелко дрожали бледные, тощие ноги Комлева. И эта трусца, поднимаясь выше, уже била все его тело.
Стыдясь сейчас только своей наготы, Комлев поспешно распутывал хитроумные узлы опояски. Потом снял мешок и протянул его Многоярову. Тот не торопясь обошел разделявший их бочажок, перепрыгнул через ручей. Все это время Комлев стоял с протянутой рукой, мелко дрожа и пригибаясь, чтобы ухватить и подтянуть кальсоны. Но так и не подтянул. Брезгуя, Многояров взял меток и, круто повернувшись, пошел прочь.
Комлев кинулся за ним, запутался в штанах и упал…
– Иди к гольцам, – сказал Многояров, не оборачиваясь. В следующее мгновение, подхватив кальсоны и штаны, Комлев снова попытался бежать, но теперь уже споткнулся о карабин, снова упал, простонав:
– Николаич… Алеш-а-а-а. Прости! Прости меня! Только для памяти! Для памяти только брал, – уже кричал, и слезы душили его. – Прости-те-е-е, Алексей Николаич!
И вдруг завыл зверем, вытягивая вперед руки и пытаясь ползти за Многояровым.
– Прости-и-и-и-те-э-э-э!
Ровно и высоко горел костер, предрекая на завтра добрую погоду.
Многояров вытряхнул из мешка продукты. Если расходовать экономно, чуть-чуть подтянув ремни, до Ведоки должно хватить.
«Завтра надо обязательно быть на Уяне, – думал он, вороша прутиком угли в костре. Делал это без какой-либо надобности, машинально. – Прошел ли назад, к Буньскому, Глохлов? Вряд ли… А что с Комлевым? Как быть с ним? Столько лет в экспедиции!.. Шлиховщик экстра-класса! Вот тебе и экстра… – Вспомнил тощие белые ноги Комлева, давно не видевшие солнца. Ноги, которые тряслись мелкой дрожью, готовые подломиться. – Впервые или нет? – задавал в который уже раз вопрос и тут же твердо отвечал себе: – Нет, не впервые».
Вспомнилось, как лет пять назад один из экспедиционных рабочих сказал: «А ведь Комлев-то фармазонщик – у него к рукам золото липнет». Многояров тогда резко оборвал сказавшего, был тот человеком завистливым, подленьким и трепливым.
Пустых разговоров Многояров не терпел, не терпел он и полушуток, полунамеков. От них всегда рождаются сплетни, гадкие интрижки.
– Ну, бейте! Бейте меня! – голос прозвучал из темноты неожиданно. Многояров не узнал. Будто бы от этого голоса опал в костре огонь, и неуютно стало в мире, сырая темнота гуще, а ветер, что гнал в понизовье студеную воду угрюмой Авлакан-реки, холоднее. Комлев стоял в том неуютном мире, опустив к ногам рюкзак, чуть перекособочась плечом, на котором висел карабин, и бездумно, не отрываясь, глядел на огонь.
Где-то застонало под ветром больное дерево, и стон этот повторился многократно в гольцах. Многояров снял с тагана котелок; вода, забурлив ключом, выбрасывалась на угли и тоже вскрикивала. Ночь ловила каждый звук и повторяла его там, за светлым кругом.
Многояров кинул заварку, подгреб горячую золу и поставил в нее котелок.
А Комлев все стоял там, в темноте, за плечами, ни единым звуком не выдавая своего присутствия.
«Что с ним делать? – подумал Многояров и, разом разозлясь, словно оттолкнул от себя: – Пускай милиция разберется. Я-то при чем тут? Нет, нельзя отпихнуть от себя, если ты окончательно не сделался равнодушным. Как можно столько лет жить рядом с человеком, работать вместе с ним, делить хлеб и соль и не знать его, не знать – кто же он, этот человек?»
Многоярову вспомнились многие из тех, кого искренне уважал, перед талантом которых преклонялся, но вокруг них всегда вились маленькие людишки. Лезли со своей дружбой, входили в душу в «домашних тапочках», окружали непробойным кольцом. И их почему-то не гнали прочь, не замечали их двурушничества и подхалимства. Их принимали в семьях, шутили с ними и даже дружили, не находя времени пристальней приглядеться: «А кто же рядом?»
«Зачем тут, рядом, Комлев? Кто он? Чем живет? Неужели только тем, чтобы грабить, хватать, вот тут в тайге, что не заперто еще под десятью замками и не огорожено забором и колючей проволокой?»
– Алексей Николаевич, что мне делать? – Ночь повторила вопрос, «…мне делать…» – откликнулись гольцы.
Многояров, обжигая пальцы, налил в кружку чай.
– Шлихи взяли? Или не до них было?
«Было, было, было», – закричали гольцы, по-странному усиля голос Многоярова.
«Беспокойное местечко выбрал, надо было бы поглубже в тайгу, – подумал он. – Говорящие гольцы теперь всю ночь будут ловить и усиливать каждый, даже потаенный звук».
Цепляясь за слабую, вдруг народившуюся в сердце надежду, что все будет по-прежнему, Комлев поспешно вошел в круг света, опустился перед костром на колени и начал поспешно развязывать рюкзак.
– Я отшлиховал все ручьи. Во всех указанных точках. Я все, все сделал, – он торопился, вкладывая в голос всю искренность, на которую был способен. – Алексей Николаевич, не предавайте меня. Ей-богу, в первый раз… Случайно… – Комлев говорил и сам понимал: говорит глупо, неубедительно, и все-таки продолжал: – Алексей Николаевич, поверьте. У меня и дети есть. Двое – девочка и мальчик. С бабушкой живут…
Многояров молчал. В голосе Комлева вдруг начали закипать слезы, они уже навернулись на глазах, готовые брызнуть, и чем больше говорил он, тем больше ненавидел Многоярова, тайгу, эту вот ночь, и пуще дрожал его голос, готовый сорваться на рыдания.
– Забудем, Алексей Николаевич! Прошу вас, – отвернулся, не выдержав, долго сидел, вздрагивая плечами, заглушая рыдания.
Многояров по-прежнему молчал. На душе у него было гадко, будто он сам украл, стыдно было видеть Комлева, слушать. И он, сгорая от этого стыда, смущался, но твердость решения уже созрела в нем.
– Ну что, – глухо простонал Комлев, – что вам это даст? Что? Клянусь, гад буду, ногою больше не ступлю в тайгу, в экспедицию, – голос окреп, слезы пропали, и Комлев внешне был уже спокоен. Это так неожиданно пришедшее к нему спокойствие удивило Многоярова. – Поймите, Алексей Николаевич, – сухо говорил Комлев, словно щепу щепал, – от этого никому не прибудет. Ни вам, ни мне, ни государству. Выкиньте вы его… – Сделал маленькую паузу, колеблясь, сказал: —…Или себе возьмите…
– Ну-ну!
– Себе, как шлихи… В партию, как образцы… – спешно поправился и снова попросил, отчетливо сознавая, что Многояров ничего не забудет и не промолчит: – Не предавайте, Алексей Николаевич, – и снова слезами наполнился голос.
Костер затухал, и Комлев, поддавшись, ушел в тайгу, прихватив топорик, и долго стучал им в темноте, сваливая сухостой. Лесины падали, постреливая сломанными ветвями, и этот треск повторяли гольцы…
Ночь была беспокойной, долгой и холодной. На гольцах ходил медведь. Зверь подслеповато щурился на малый лоскуток огня, и в крохотных глазах его плавал кровавый всполох. Не страшась крутизны, он близко подходил к скальному срезу и пускал вниз камни. Они с грохотом срывались в расщелины и, как мячики, подпрыгивали на подножной осыпи.
Комлев несколько раз вылезал наружу, гукал на зверя, свистел. И наконец выстрелил наугад. Это раскололо тишину, выпугнуло из тайги птицу, и та долго кружила в темноте, над плесом.
Комлев попытался снова завести разговор, но Многояров буркнул:
– Я сплю.
И действительно скоро заснул.
Комлев забылся только перед рассветом, решив, что ничего не скроет начальник партии. И от этого, как ни странно, пришла холодная успокоенность и болезненная ненависть к Многоярову. Ненависть к его порядочности, к уверенности в своей правоте, к его честности. Уже засыпая, Комлев увидел себя как наяву там, у ручья, дрожащим, со спущенными до коленей кальсонами…
Многоярову снилось некогда виденное: было это на Дальнем Востоке. В тот год тайга стонала от нашествия мошки и гнуса. Не то чтобы новички, старые, задубелые таежники, даже олени и собаки, страдали от этого летучего несчастья. В иных местах невозможно было дышать, воздух зыбился и гудел, сетки накомарников разом покрывались густой живой щетиной…
Как-то на дневке, когда изнуренные олени легли у дымокуров, Многоярова подозвал эвенк – проводник Илько.
– Кляди, какой жрот и жрот, дявол, однако, – показывал эвенк рукою в багульник.
– Что там? – Алексей глянул в заросли и сначала не понял, на что указывает Илько, но, поняв, содрогнулся от омерзения: там, в зарослях, потеряв способность лететь, медленно шевелилось комариное месиво. Маленькие кровопийцы, слипшись друг с другом, рубиново светились в зелени травы. Это живое месиво разрасталось, вспухшие от крови комары падали в багульник, едва отвалившись от оленей. А животные смирно лежали у дымокуров, глядя на людей вопросительно и виновато.
– Раздави, бойе, – попросил Илько, сморщившись.
К горлу подступила тошнота, Многояров словно бы услышал пресный запах крови, почувствовал ее липкость и теплоту.
– Не могу, – и отвернулся.
– И я не могу, бойе, – признался Илько. – Шибко кудо…
Потом видел Многояров, как старик эвенк, что-то приговаривая, зло шаркал по тому месту ногами, и чикульмы его выше щиколоток были мокры от крови.
А Илько все просил и просил:
– Раздави, бойе, раздави. Кудой, шибко кудой дявол… Раздави, раздави, бойе…
Многояров проснулся. За стенками палатки брезжил рассвет. Комлев не спал, стоя на корточках, он тянулся к карабину.
– Опять ходит!.. Рядом… – хрипло прошептал он и, раздвинув стволом карабина выход, выполз из палатки.
Многояров недолго полежал с открытыми глазами, все еще ощущая гадливость от виденного во сне, потом резко поднялся, вылез из спальника и начал обуваться.
Комлева не было слышно, вероятно, он ушел к гольцам, с надеждой все-таки выследить медведя. И вдруг увидел его. За натянутым полотном палатки фигура была расплывчата и неясна. Затаившийся Комлев стоял со вскинутым карабином.
Многояров усмехнулся и, раздвигая полы выхода, насмешливо спросил:
– Это кого же стережете, Николай Борисович? Кто медведь… – поднимаясь во весь рост, Многояров не успел договорить: громыхнул выстрел. Что-то большое и темное шарахнулось в гольцах.
– Промазал, – сплюнул Комлев. – Что вы сказали, Алексей Николаевич?
– Попробовал сострить, но неудачно…
– А… Что будем варить?
– Вари себе…
– Брезгуете с одной посуды есть? – криво улыбаясь, спросил Комлев.
– Догадались. Брезгую. К чему в прятки играть – брезгую, – очень твердо и раздельно, почти по слогам, сказал последнее слово Многояров.
«Да что же ты сам в пекло-то прешь? Ну, пообманывал бы меня, поиграл бы. Надежду бы хоть дал. А то ведь: закон – тайга, медведь – свидетель», – едва сдержавшись, чтобы не сказать этого, подумал Комлев.
– А я, чтобы аппетит вам не перебивать, с лопушка кашу поем, отдельной посудой.
Многояров ничего не ответил, взял полотенце, пошел к реке.
Уже когда была собрана палатка и Многояров торопливо дописывал страничку в дневнике, Комлев спросил:
– Как нынче работаем, начальник?
– Пойдем маршрутом на Уян. Если встретим Глохлова, попрошу тебя на поруки до окончания сезона.
– А если не захочу на поруки?
– Не захочешь – кати с майором. Он давно таким вот мешочком интересовался.
– Сдадите все-таки?
– Сдам.
– А не напрасно ли, начальник?
– Ты что меня, пугать вздумал? Это ты брось, этим не возьмешь. Я не из пугливых.
Замолчали надолго.
Комлев вскипятил чай, кашу для себя варить не стал, буркнул:
– Чай готов.
Многояров кончил писать. Достал из мешка тушенку, поделил ее поровну, вынул сухари, сахар. Не глядя на Комлева, налил в кружку чай.
– Давайте рюкзаки поделим.
Многояров промолчал, но груз поделили поровну.
Шли берегом Авлакана, иногда углубляясь в тайгу и снова возвращаясь к реке. Прибрежные скалы тут несколько отступили, и образовавшаяся пойма густо заросла травою. Идти было трудно, путаясь в крепких, будто веревки, стеблях трав, но все-таки путь этот был значительно легче, чем тот, по калтусу.
Комлеву отчетливо припомнился весь тот день с самой побудки до ночевки у ключа Тунгус. Вспомнился соболь, которого гонял он, чай с кислицей, трудный подъем в скалы и тот страшный миг бессилия, и душный запах кирзы, шедший от сапога Многоярова, к которому прижимался он щекой, лицом, всем телом, вспомнился и страх, так запоздало пришедший там, у ручейка, и ощущение угрозы…
Вот она, угроза! Свершилось. Может быть, уже за этим поворотом встретят они Глохлова. И Многояров расскажет ему все. Передаст вещественное доказательство – кожаный мешочек с золотом. Озноб прошел по спине Комлева. А дальше? Дальше ясно – арест. Телеграмма спецсвязью в Москву. Обыск на квартире. Что они найдут на квартире? Что? – Комлев даже приостановился, слабыми от испуга стали ноги. – Найдут!.. Что найдут? Три собольих шкурки? Это ерунда. Камушки? Это коллекция. Они и лежат на виду. Три самородка? Но они крохотные, хранимые на память. Нет, это уже кое-что. Это ниточка. Достаточно установить, а это установят, где взято золото, и все… Черт дернул ввязаться тогда в эту историю, оказаться в «коллективе». Он всегда предпочитал в любом деле быть с самим собой, и только. А тут коллектив… Давно это было, сразу же на другой сезон за тем, когда спрятал в нагрудный карман первое золотишко. Он до сих пор не понимает, как мог вляпаться тогда в «мокрое дело». До сих пор бы шел розыск, если бы не случайный идиот, которого «замели» по подозрению в убийстве. На следствии он взял на себя их дело. Зачем? Так и осталось тайной. Но так ловко накрутил на себя, да так все точно разложил, что поверили. А своего убийства до конца на себя не брал – отпирался. Но в конце концов взял и свое и «до кучи» их на себе оставил. Отчет об этом деле – «Убийство геолога» читал Комлев в краевой газете, тогда модно было печатать «из зала суда». Помнил долго и фамилию этого, но вот забыл сейчас. Забыл. Нет, не должны докопаться до того дела. И тот, вероятно, давно уже где-нибудь сгнил. Не докопаются. Вот если бы только не Глохлов. Единственный человек, который страшен, по-настоящему страшен, – майор. Не то чтобы знает он что-то, но чувствует. Да и есть у него в руках небольшая улика. Получи в руки Глохлов этот вот кожаный мешочек, и все… Точно такой же обнаружили весной в год заезда их партии в Буньское. Была в этом мешочке малая щепотка золотого песку от прошлого сезона, оставленная для прибыли, – примета такая: на золото с золотом идти надо. Обронил он этот мешок в уборной, как, и не заметил. Нашли его ребята и сразу Многоярову, а тот в милицию, и Глохлову. Закрутилось дело. Глохлов весь район облазил; хозяина мешочка искал. С рабочими партии тоже беседы вел. Вот тогда и «повязались» меж собою Комлев и Глохлов. И слова меж ними не было сказано, а так вот сцепились взглядами. «Твой!» – сказал глазами Глохлов, и не смог тогда Комлев отвести от себя этот взгляд, не смог, как приковало…
И вдруг Комлева охватывает беспечная радость. «Не найдут! Ничего не найдут в квартире!» Он все-все перед отъездом в чемодане отнес Аркаше. Как же можно было забыть об этом? Ведь в квартире-то у них, и в его комнате, ремонт должны были сделать еще в июне. И сделали. Ничего нет в доме. Аркашу не найдут. Аркаша – тайна. Аркан вне круга. Никто и не знает об их дружбе. Все. Нет ниточки! Эх, жизнь, жизнь, сколько понавяжешь ты узелочков! Развязывать надо.
Комлев шел следом за Многояровым, заметно приотставая и уже не копируя его походку. Шел он, может быть, впервые по тайге сам, не ступая в след ведущего.
«Не-на-ви-жу, – твердил себе Комлев, шагая заросшей поймой, отстав от Многоярова. – Не-на-ви-жу».
Многояров – все! Комлев – ничто! Так ли это? Жизнь, она разные узелки вяжет. Может быть, это только кажется, что Многояров – все?! Может быть, это уже давно не так в жизни?! Может быть! Это так, пока не схлестнутся их дороги. А схлестнувшись, не разойдутся они, нет. Одна дорожка будет после встречи. Или – или! Кто сильнее, доказать надо! Жизнь разные узелки вяжет. Это еще неизвестно: кто – все, кто – ничто! Доказать надо! В жизни доказать, вот тут, в тайге.