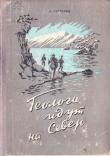Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Карабин оттягивал плечо, был он непривычно тяжел.
Снова выпал ведреный день, и солнце играло в небе. Нахолодавший за ночь воздух легок, тайга чистая, уютная. Сосенки карабкаются по скалистым крутоярам, лезут к вершинным останцам; с ветвей опадает и висит недвижимо серебристыми нитями мох. Сломился ветер, нет его, и только холода все скатываются и скатываются с сопок и тянутся к реке, припаивая ее к берегам. И Авлакан уже не умиротворенно ворочается в русле, хмурится старик, сводит суровые брови, гонит на берег тяжелую волну, плещет пеной.
Снова приостановился Комлев, всего на какую-то толику, а Многояров уже далеко впереди. Идет не спеша, но ходко, считает шаги, глядит цепко по сторонам – работает.
«Вот сейчас бы хлопнуть в затылок, – сухо разом стало во рту, мигом вспотели ладони, и ремень карабина в кулаке стал скользким. – А потом, потом что? Случайность… Стрелял по медведю… Патрон в патроннике… забыл разрядить…»
Трудно дышать Комлеву, горло окольцевала спазма. Многояров остановился, поднял лицо, разглядывает скалы. Все ближе и ближе подходит к нему Комлев, и шаг становится тяжелым, неуверенно ослизлым.
– Ну…
Лицо у Многоярова поднято к небу.
«Куда он смотрит?» – не может отвести свой взгляд Комлев от потного затылка Многоярова. Не может… Все застила, весь мир загородила непокрытая голова начальника партии. Волосы на затылке влажно слиплись, и в них матово рдеет редкая седина. «Сейчас… Сейчас или… – Комлев сглатывает набежавшую слюну, но странно – сухая она. – Сейчас! – решает и тянет с плеча карабин. – Вот он, Многояров, рядом… Сейчас… Чем ближе, тем больше веры в случайность. Окликнуть… и – в лицо».
Многояров услышал за спиной Комлева, сказал в полушепот:
– Видишь?.. – и оглянулся, почти наткнувшись на ствол.
Кляцнул затвор, патрон в патроннике…
– Вижу, – едва протолкнул слово и вскинул карабин наизготовку чуть выше.
Над ними, по скалистому срезу, медленно шел медведь.
– Не надо, – Многояров рукою отвел ствол, и Комлев опустил карабин. – На берлогу идет.
Медведь, высвеченный солнцем в пределе убойного выстрела, идет себе деловито, часто опуская к тропе морду. Комлева бьет дрожь. Во рту нет сухости, солоно и мокро во рту, из слабых десен сочится кровь, поют зубы и подергиваются желваки от пережитого только что напряжения.
Многояров присел на камень и, продолжая следить за медведем, достал из полевой сумки тетрадь. Сумка у него заметно припухла, в ней золото, кожаный мешочек с опоясками – улика…
День угасал, а они все шли и шли. Вырос и встал перед ними, рукою подать, синий, в фиолетовой дымке Уян. Белел он шапкой снежника, куржавился уже покрытой снегом вершинной тайгою. Перед заходом солнца остановились на очередной точке. Скалы тут ушли еще дальше от воды, освободив место тайге, и она, набежав с крутых спадов, остановилась вдруг, пораженная злой силой и простором Авлакан-реки.
Многояров присел под сосну, сбросил мешок и, упрятав лицо в расстегнутый ворот телогрейки от поднявшегося неожиданно понизового ветра, начал писать. Комлев присел в пяти шагах обочь его, привалившись рюкзаком к дереву и положив карабин на колени. Ствол карабина лег в сторону Многоярова. Комлев, заметив это, вздрогнул и переложил ствол на плечо. Но вдруг напрягся и почувствовал, что у него нет больше в теле ни дрожи, ни оморочи и в сердце нет боязни. Решимость вошла в него.
Как просто и ясно произошел несчастный случай. Многояров сел под сосну, и он, Комлев, тоже сел обочь начальника, положив на колени карабин. Потом, как это бывает на остановке, потянулся за кисетом, полез в карман и чем-то, наверное пуговкой, а может быть, и обшлагом телогрейки, зацепил спусковой крючок… Грянул выстрел (вот беда, он забыл вынуть патрон, который дослал на медведя). Комлев сначала даже не понял, кто стрелял, но пуля точно прошила висок Многоярову, и тот, не вскрикнув, мягко повалился на землю.
Жарко стало. Ну вот все и свершилось. Комлев, ощущая еще звон в ушах от выстрела, медленно повернулся.
Многояров, усунувшись лицом в телогрейку, писал, высоко подняв колено, на котором лежал дневник. Как белый глазок мишени, отсвечивал его висок. А чуть ниже темнела родинка, с белым завитком волоса.
«Мимо! Неужели мимо?! Но почему он не вскочил на выстрел?! Он не слышал выстрела, пуля прошла над головой! Надо взять ниже! Надо выцелить! Надо спустить курок. Ведь курок еще не спущен! Не был он задет ни пуговкой, ни обшлагом. Еще и кисет лежит в кармане. Выстрела еще не было! Но почему так звенит в ушах? А что будет после? Рухнет замертво! Надо будет закричать, подбежать к нему. Да, подбежать! Выхватить из полевой сумки мешок. И в тайгу, скорее в тайгу! К ручью! Обязательно к ручью! Нет, не к Авлакану – к ручью, в тайгу. Там, пробежав вверх по руслу, высыпать песок, весь до песчинки. Вымыть мешок. Потом сжечь! Обязательно сжечь. И пепел, и все-все уничтожить, уничтожить… А потом вернуться, стрелять в воздух, кричать и нести, нести на себе Многоярова к людям, к своему оправданию. Несчастье! Такое несчастье! Все поверят! И Глохлов поверит!»
Комлев не то чтобы встал на колено – опрокинулся. Весь он разом замерз, озябли руки.
«Надо согреться, согреться надо… Промаха не должно быть».
В прорези – мушка, на мушке белое пятнышко. Выцелил…
Комлев не слышал выстрела. Он только увидел, как вздрогнул Многояров и выпрямился. Словно бы ничего и не произошло, но Многояров вдруг откинул голову, обратив лицо к небу, и медленно сполз затылком по стволу сосны, ощелушивая сухую кору, потом мягко повалился на бок, прижавшись щекой к земле.
С минуту Комлев остолбенело глядел на него, сев на прежнее место и положив карабин на колени стволом к Многоярову.
«Пуговицей зацепился, пуговицей…» – твердил про себя. Потом встал, гулко ударился о землю карабин, скатившись с коленей. Комлев шел к Многоярову, ощущая всем телом усталость, такой усталости он не знал никогда. Ни страха, ни волнения, ничего не было сейчас в нем, только усталость.
Многояров лежал под сосной, на правом виске малиново сочилась взбухшая ранка, но левая щека уже подплывала кровью. Удивленный, нетронуто чистый живой глаз смотрел в небо, и в глубине расширившегося зрачка отражалась сухая былинка.
– Нечаянно я! Слышь, Алексей Николаевич, не нарочно. Случайно! – нагнувшись над Многояровым, громко прокричал Комлев и, сорвавшись голосом, уже теряясь душой, прохрипел: – Прости… Простите.
Ему показалось, что верхнее веко этого живого еще глаза чуть заметно дернулось и на зрачок набежала студеная дымка.
Нагнувшись, Комлев выхватил из полевой сумки до половины набитый кожаный мешочек и, не помня себя, кинулся прочь от этого места, в тайгу, к ручью, к свободе…
Уже уничтожив улику и возвращаясь к месту преступления, Комлев вдруг вспомнил о дневнике. Он знал о привычке Многоярова подробнейшим образом вести дневник, записывая все события дня. Да как же он сразу не подумал об этом! Вот еще одна улика! Показания самого погибшего. «Господи, где была голова? – страх и дурнота овладели Комлевым. – Надо немедленно уничтожить. Развести костер. Дневник выпал из рук в костер, когда прогремел случайный выстрел… Да, да, в костер. У костра писал Многояров, так это и было… Уничтожить, уничтожить…»
Комлев видел этот дневник, лежащий на земле рядом с начальником партии раскрытым и обрызганным капельками крови.
Смеркалось, когда, заплутавшись, Комлев все-таки вырвался из тайги. Тайга водила его никак не меньше трех часов, и в этом почувствовал он сердцем дурное предзнаменование. Гробовая тишина стояла вокруг, даже шум большой воды не нарушал эту тишину, а как бы углублял ее. Сосна, под которой лежал Многояров, издали была траурно-черной. Вырвавшись из чащобы и увидев чистое место – сосну, взлобочек, с которого стрелял, Комлев с трудом перевел дыхание и почувствовал даже какое-то радостное облегчение. Забыв сбросить рюкзак, он так и шастал с ним и теперь только ощутил, как лямки огненно жгут плечи.
Он не спеша шел к месту убийства, по-походному прихватив лямки большими пальцами и чуть оттянув их, но чем ближе подходил к черной сосне, тем быстрее и беспокойнее становился его шаг.
Многоярова под сосной не было.
Комлев замер, голова его словно бы разом вспухла, в нее молотом колотила кровь.
«Медведь! Неужели медведь? Ну, конечно, медведь! Вот и хорошо, вот и концы в воду». Беспокойный ток крови все еще не унялся, но Комлев снова почувствовал облегчение.
«Где дневник? Теперь все в дневнике…»
Дневника не было. Не было на месте и карабина, и рюкзака не было.
И вдруг Комлев ясно увидел в ночи улыбку Многоярова, спокойную улыбку. Геолог стоял за ближним оскалком медленно поднимал карабин, выцеливая его, Комлева.
Лицо Многоярова было в крови, и руки клейко пристыли к оружию, черному от запекшейся крови. Пуля, не причинив боли, навылет прошила горло Комлеву, и он, дико закричав, кинулся в тайгу, в чащобник напропалую, обрывая кожу на лице. Падая и спотыкаясь, бежал не разбирая дороги, только бы подальше от этих черных сосен и светлых в ночи скал.
2–3 октября, вверх по реке
К селу Нега Глохлов подошел на закате. Темный окоем, чернильно-синяя даль и холодная зыбь реки, переходящая в острую, стального цвета волну, не нравились Глохлову. На Авлакан ложилась непогода.
Как по речке
По быстрой
Становой едет
Пристав!
Ой, горюшко, горе,
Великое горе.
– Слышу, кто-то натуральным порядком оглашает окрестности стуком мотора. Вышел, однако, поинтересоваться, откуда этот звук. И вот, пожалуйста, – здравствуйте. Доброго здоровья вам, Матвей Семенович, – на берегу стоял Егоров, тот самый, которому вез Глохлов собольи капканы. Лодка с заглушенным мотором, но все еще ходко шла к берегу. Егоров, продолжая глядеть на Глохлова, ловко подхватил чалку и проворно вынес на скрипучий галечник.
– Здравствуй, Евстафий Данилыч, – Глохлов вышел из лодки, от долгого сидения ноги занемели, мелкими иголочками покалывало икры и берег чуть-чуть покачивался. – Капканы привез вам.
– Вот уж благодарю, однако, не стоило бы беспокоить себя по столь незначительным поводам.
– Как живете, Евстафий Данилович?
– Вполне определенно, Матвей Семенович. Как говорится, с переменным успехом и без потерь. У Клавдии Евгошиной, работника прилавка, двойня родилась.
– Об этом слышал, надо зайти поздравить. Как с порядком?
– Блюдем, Матвей Семенович, насколько позволяют наши способности и сознательность наша. Однако, конечно, бывают акцизы, но не так чтобы в полное нарушение законности, а по причине нрава и характера, а также потребления…
– Как с вином? – продолжал спрашивать Глохлов, по обыкновению внутренне улыбаясь на витиеватость речи своего добровольного сотрудника. Егоров десять лет исполняет должность общественного уполномоченного. И за ним уже прочно закрепилась новая «уличная» фамилия – Милиционеров.
– С вином хорошо. То есть в смысле продажи и выполнения государственного плана. По потреблению населением бывают, однако, некоторые сакраментальные излишки, приводящие к общественным и семейным порицаниям и нелицеприятным объяснениям, – будучи человеком в общем-то очень неглупым, рассудительным, работящим и обстоятельным, Евстафии Данилович Егоров страдал необыкновенной страстью к многословию. Порою он так загромождал свою речь случайными, ненужными словами и оборотами, что понять его было немыслимо. Особенно усердствовал он в этом на собраниях. – По силе возможности, в конкретных вопиющих случаях, совместно с нашей советской властью, то есть председателем Совета Глебом Глебовичем, – продолжал Евстафий Данилович, – стараемся привлечь некоторую необузданную и несознательную массу потребителей на сторону трезвости и ясного восприятия нашей советской действительности. Стараемся…
– Стараются, стараются, это точно, – прыснул в кулачок невесть откуда взявшаяся «необузданная масса» – Чироня, любивший в любом качестве потереться на глазах начальства. – Стараются, товарищ гражданин майор, будто сами с Авлакана черпают…
Чироня на всякий случай обращался к Глохлову «сдвоенно»: гражданин товарищ, так и не усвоив, в каком качестве какое обязан произносить обращение.
– Здрасте, с прибытием вас, Матвей Семенович, – приподнял над головой клочкастую (собаки рвали) шапку.
– Здравствуйте, здравствуйте, – Глохлов протянул Чироне руку, и тот, смущаясь, пожал ее, виновато кося глазами. – Ну как, больше не грешим? Урок на пользу? А? – Майор улыбался.
– На пользу, – стеснительность изнуряла Чироню, он краснел и словно бы от холода ежился.
– Запомнили, значит? – уже строго спросил Глохлов.
– Запомнили. Помним, гражданин… товарищ майор.
– Гражданин не надо. Товарищ майор, – поправил Евстафий Данилович.
– Лекция будет нынче? – поднимая виноватые глаза, спросил Чироня.
– Поговорим, – кивнул Глохлов. – Я к Глебу Глебовичу.
Собрались без объявлении и напоминании, хотя и постарался Чироня, обежал село, все уже знали – приехал Глохлов, а коли приехал, будет нынче разговор по всем вопросам: и международным, и внутренним, и личным…
Матвей Семенович умылся с дороги, расчесал набочок рыжий вихор, посетовав, что лысеет; почистил галифе, сменил защитную энцефалитку на китель, который всегда возил с собой. Подумал, поправляя погоны и одергивая полы: «Надо бы Алексея Николаевича попросить, чтобы новые колодки орденские прислал, эти-то совсем позатерлись».
Разговор затянулся допоздна – расходились уже к полуночи.
Вызвездило. Стоял крепкий мороз. Пока вели беседы, прошел дождь со снегом, и лужи под ногами ломко хрустели, матово белели крыши.
– Завтра утром уходить надо, – сказал Глохлов и прислушался. В ночи глухо шумела река, и к этому шуму примешивался еще и другой, новый звук, будто там на реке кто-то все вытряхивал и вытряхивал мокрую простыню. – Шуга идет.
Глохлов чуть умерил шаг, вслушиваясь.
– Однако, в верховьях снег большой выпал, – откликнулся Глеб Глебович. – Я баню наказал истопить. Идем?
– Ну так как же, пойдем! Но пропадать же жару, – и поежился от холода. – Ух, бежать надо, бежать. По дороге начальника геологов Многоярова, может быть, захвачу. Он к Уяну выходит…
Утром уйти из Неги Глохлову не пришлось. Рекою густо перла шуга, где-то в верховьях уже по-зимнему валили снега, но тут хлестал без умолку холодный дождь с льдистой, колкой сечкой.
– Погоди идти. Коль после такого разъяснятся, твое дело верное – добежишь домой рекою. Коли нет, иди тайгою, лодку по весне пригоним, – сказал Глеб Глебович.
Глохлов остался в Неге еще на один день.
Среди ночи кто-то сильно застучал в окошко и закричал:
– Начальник! Начальник Клоклов! Майор!
Глохлов не спал, пуще прежнего ныла старая рана, на крик поднялся разом, но Глеб Глебович опередил. Шлепая босыми ногами, пробежал через горницу к окну.
– Кто там?! Чего кричите?!
– Клеб Клебыч, начальник Клоклов поднимай. Шибко нада! Степа я! Почогир!
– Иди в избу, – крикнул Глеб Глебович и пошел в сени.
Глохлов, быстро натянув галифе и сапоги, вышел в переднюю.
Эвенк был до нитки мокр. Еще с вечера начал падать снег и валил по сю пору. Степа, не переводя дыхания, заговорил быстро-быстро, как умеют говорить только эвенки:
– Анатолий-брат олень бегал искать. Выстрел слышит. Может, экспедитор олень стрельнул? Побежал туда. Однако, стрельнул кто на Осином плесе. Прибежал. Человек лежит. Крикнул ему. Молчит. «Сдраствуй!» – шибко Анатолий кричит. Молчит человек, под сосной лежит, спит, однако. Подошел Анатолий, однако, убитый труп.
– Как убитый? Кто? – Глохлов прихватил Степу за плечи, усадил на лавку. – Какой труп?
– Анатолий говорит, однако, убитый труп. Дырочка правый сторона. – Степа пальцами, сторожась, потрогал свой правый весок. – Левый сторона большой дырка – выход. Карабин пять шаг вправо лежал. Сам стрелил, что ли? Анатолий убитый труп трогал – теплый. Рубашка с себя снимал, голова ему вязал. Все смотрел. Карабин лежал, тетрадка лежал, рюкзак лежал, убитый лежал. Больше ничего не лежал. Анатолий, однако, на чум бежал. Олень брали. На Осин плес бежали, на чум везли. Однако, труп везли. Умирал маленько он.
– Кто?
– Началник Многоярков, однако, – Степа шмыгнул носом, и Глохлову показалось, что глаза эвенка полны слез.
– Многояров труп? – Глохлов опустился на лавку, не веря сказанному.
– Труп, труп… Совсем убитый, – закивал Степа, и лицо его сморщилось. – Анатолий говорит – теплый был, а когда везли – холодный был. Бабка ему на чуме голова вязала – холодный, – тяжело вздохнул, и по гладкой щеке его, словно взапуски, побежали слезы. Степа отерся рукавом, не опуская и не отводя лица своего.
– Может быть, жив? – заставив себя собраться, о надеждой спросил Глохлов.
– Нет, – Степа сокрушенно покачал головой. – Много крови терял. – И тут он снова сторожко коснулся ладонью своего, теперь уже левого виска. – Дырка большой. В крови голова плавал.
– Кто с ним был?
– Никого не был. Амака рядом ходил. Мы его пугали, Медведь-амака мог началника кушать…
– Господи, – всхлипнула жена Глеба Глебовича, Она запалила лампу и теперь так и стояла, держа ее перед собою. Руки женщины дрожали, и от этого беспокойно метались по степам и потолку тени. – Господи…
– А где же этот? – силясь вспомнить хорошо знаемую фамилию рабочего, спросил Глохлов. – Он там был?
– Нет, не был. Однако, никого не было. Следы, Анатолий говорил, были. В тайга бежал. Спешил. Пугался. Где карабин лежал, он сидел там. Потом карабин ронял, к началнику шел и бежал…
– Откуда знаешь? – предвидя ответ, пересилил себя вопросом Глеб Глебыч.
– Анатолий след видел. Соображал. За мной бежал. До чума рекою близко, через камешок тропка есть.
– Собирайся, Глеб Глебович, поедем. Тебе тоже там надо быть, – сказал Глохлов, поднимаясь с лавки. – Евстафия будите. Скажи, в чем дело, будем, дескать, труп поднимать. Фельдшера Кузьму Иннокентьевича тоже надо…
Поспешно собираясь, Глеб Глебович спрашивал:
– Что же это такое, Семенович? Как твои соображения?
– Кто знает? Увидим.
Степа сидел тихонечко, посунувшись на лавке в угол, и глядел на огонь в лампе. Хозяйка поставила ее на стол, а сама, простоволосая, в накинутом на плече зипунишке, побежала булгачить Егорова и фельдшера.
– Не убийство ли?
– Может быть…
Через полчаса, не тревожа спящее село, пятеро отплыли к Уяну. Падал тяжелый снег, и по воде, шелестя, шла шуга.
Запыхавшийся Егоров (прибежал он к самому отплытию) говорил:
– Вот, однако, сакраментальным образом вы на меня юмор свой наводили, Семен, Матвей Семенович. Смеялись то есть. Когда настоятельно требовал я выдать мне для следственной практики наручные браслеты на случай утихомиривания опасных преступников. Островагантно нуждался я в них, в их присутствии у меня. А вы фешенебельно смеялись. Теперь вот и сгодятся, коли это убийство, и надо брать убийцу, – и показывал ни разу еще не сгодившиеся наручные браслеты.
Чтобы отвязаться от Егорова, отдал их майор ему под расписку еще года два назад, предупредив: «Ты смотри и впрямь не воспользуйся ими. Мужики тебя тогда, как кобеля, на цепь посадят». – «Только для порядку, только для порядку», – отвечал Егоров.
И вот теперь, сидя на средней банке рядом с худеньким старым фельдшером, Глохлов слушал гладенький полуголос Егорова и почему-то думал не о предстоящем следствии и даже не о Многоярове, в смерть которого все еще не верил, а о том, что Данилыч в общем-то неглупый, хороший мужик, только речь у него чудная, совсем никчемная речь. И к чему только человек язык корявит? Люди над ним из-за этого смеются. А кроме этой вот речи, есть и еще странность у Егорова. Ночами пишет он стихи, отсылает в Москву в газеты и журналы. И приходят оттуда ему государственные конверты с ответом, о чем и как надо писать, да что прочитать надо, как учиться, чтобы повысить образование. Из-за этих конвертов окружен Милиционеров этаким не совсем серьезным уважением. Глохлов вспомнил, как и сам ни с того ни с сего вдруг тоже написал стихи. Писал четыре ночи подряд. Стихи получились звучные, красивые. Таких хороших стихов никогда не приходилось читать. Даже стихотворение Пушкина, которое помнил с начальных классов, показалось детской забавой, настолько все было серьезным и значительным в его стихе. Глохлов долго крепился, прятал тетрадку с глаз, но наконец решился и прочитал стихи жене. Дуся слушала затаив дыхание, чуть приоткрыв полные губы, и в глазах ее стояли восторг и удивление.
Кто работал, кто учился,
А кто вел страну вперед!..
Читал громко, с выражением.
– Ой, Мо-о-тя-я, – только и сказала Дуся, когда Матвей Семенович закончил чтение. – Ой, Мо-о-о-тя! Неужели ты сам сочинил?
– Ага! – У Глохлова часто-часто колотилось сердце.
– Ой, Мотя, здорово как! Не списал ли?
– Ну вот еще!
И Матвей Семенович твердо решил послать стихотворение в журнал «Советская милиция».
Отправку письма задержало маленькое обстоятельство. Стихи, он слышал, надо посылать в журнал только напечатанными на машинке, а в районе в тот момент как раз был крайний дефицит на бумагу. Страдая от такого обстоятельства, Глохлов собственноручно перепечатал стихи на серых бланках допросов. К этому времени приехал в Буньское Многояров, и Глохлов решил прочитать стихи и ему. Долго не решался, все издалека наводил: «Как это, интересно, поэты стихи пишут? Много ли времени проходит, пока отошлешь и пока напечатают? А можно, например, стихи подписать другой фамилией? Твоя, например, Скамейкин, а ты ставишь Вайспапир?» (С войны еще запомнилась Глохлову эта звучная фамилия).
– Ты что, стихи написал, что ли? – спросил вдруг Многояров.
– А что?
– Да ничего. Написал, да?
– Написал, – вздохнул Матвей Семенович и покраснел.
– Ну и что, хочешь подписать Вайспапиром? Не советую, слишком длинно. Подпиши короче – Белобумагов, – пошутил Многояров.
– Да нет… Я тебе хотел прочитать их. Послушай, а?
– Нет, нет, брат. Дай-ка я их лучше сам прочту глазами. Не будешь же ты, когда напечатаешься, каждому своему читателю вслух декламировать?
Глохлов, радуясь, что не придется читать самому, протянул уже переплетенные тетрадочкой в обложке бланки допросов. Многояров читал стихи долго, внимательно, и все это время сидел Глохлов не шелохнувшись, большой, с красным лицом, неуклюжий в своем детском смущении.
Многояров отложил наконец в сторону тетрадочку.
– Ты когда-нибудь стихи-то писал?
– Нет, – покраснел еще больше. – Раз, один только, когда за Дусей ухаживал. В уме сложил и даже не записал. Вот нынче вспоминал, вспоминал, так и не вспомнил.
– А когда последний раз стихи читал?
– Так ведь в школе. А потом когда вечернюю кончил. Да вот уже сейчас в Высшей милицейской по программе литературы поглядел….
– Хорошие стихи-то?
– Да ничего, Есенин вот, ну Некрасов, конечно, Пушкин, Лермонтов.
– Ты мне экзамен-то не сдавай, – улыбнулся Многояров. – Ты мне честно скажи: твои стихи лучше их стихов?
– Дак ведь… навроде получше, Николаич.
– Вот так я и знал! Не обижайся, Семенович, стихи твои, брат, плохие. Очень плохие. Да и не стихи это…
Так неуютно, так больно стало Глохлову, как и не бывало никогда.
С тех пор больше никогда не писал стихов.
4 октября, вниз по реке, в урочище Уян
…Начинало светать. Впереди гремел, рвался на каменных цепях Большой порог.
Глеб Глебович выключил мотор, и этот гром и каменный звон вырос до небес, ему откликалась и вторила тайга.
– Пройдем? – напрягая до предела голос, крикнул Глохлов.
– Пройдем! Вода большая, – откликнулся Глеб Глебович, и голос его утонул в грохоте, только губы беззвучно шевелились.
Перед самым порогом, где бешено кипели волны, Глеб Глебович срезал лодку в ýлов, сплошь забитый шугою и всяким плавучим мусором.
Снова взревел мотор, и лодка стремительно промчалась узким каменным коридором, как на ухабах подпрыгивая на бурунах. От мелкой водяной пыли одежда мигом залубенела, а когда, щелкнув днищем по угонистой волне, вошли в мертвое плесо, чуть прихваченное тонкой пленкой льда, то лица и руки тоже залубенели.
От чума к берегу, радостно взлаивая, кинулись собаки. Как и тогда, вечером, на прежнем месте горел костер, и Глохлов, окинув все вокруг взглядом, вздрогнул. У чума, прикрытый выгоревшим брезентом, лежал Многояров. Отсюда, с реки, майор хорошо видел его большие растоптанные сапоги с крупными латками.
Степа, выпрыгнув на берег, чалил лодку.
– Что, получше и прикрыть нельзя было? – неожиданно выговорил Глохлов подошедшему Анатолию.
– Презент шибко маленький. Нашалник шибко большой. Сапсем кудой презент, – жалобно повинился Анатолий.
Тихонечко подошла и встала виновато рядом с внуками Дарья Федоровна.
– Сапсем кудой презент, – сказала тихо. – Голова больной, серсе больной, все плачет и плачет о Многояркове… Большой беда, Клоклов, большой.
Старушка вздыхала, качала головой, по лицу ее было видно, что немало и поплакала. И по всему получалось так, что это она не уберегла Многоярова.
Глохлов вышел на берег и, стараясь не глядеть в лица эвенков, переживая свой выговор Анатолию, разминал затекшие ноги.
Фельдшер Кузьма Иннокентьевич, бледный, – он плохо переносил реку, – прижимая к бедру старенький, вытертый до белизны саквояж, пытался выйти из лодки, но при каждом ее покачивании снова садился на банку. Ему помогли Егоров и Глеб Глебович, под руки вынесли на берег.
– Пойдемте, товарищ майор, – прошелестел он слабым заплетающимся шепотом, и Глохлов только сейчас заметил, как стар фельдшер.
«Старика ночью, в такую погоду тащили. Так и не уберечь можно! А что сделаешь?» – подумал Глохлов.
Пошли к чуму. Ледок на одежде пообтаял, и сырость подбиралась к телу.
Вокруг за ночь нападало много снегу, но брезент, под которым лежал труп Многоярова, был чистым. Дарья Федоровна стряхивала с него снег.
Кузьма Иннокентьевич приступил к осмотру трупа. Пуля вошла в правый висок и, раздробив затылочную кость, вышла над левым ухом. Выстрел был произведен сбоку и чуть снизу. Смерть наступила мгновенно.
– Разденьте, пожалуйста, – сказал Кузьма Иннокентьевич, тяжело поднимаясь с колен и худенькой ручкой растирая себе поясницу. Обратился он почему-то только к Глохлову. При его просьбе Глеб Глебович и Егоров разом отвернулись.
Глохлов присел над Многояровым и начал раздевать его. Делал он это осторожно, будто бы боясь причинить боль. Свитер и тельняшка, подмокнув кровью, пристыли к телу, и их пришлось разрезать. Пока Глохлов раздевал труп, Кузьма Иннокентьевич грелся, попросив у Дарьи Федоровны чаю. Он держал кружку двумя руками, с шумом прихлебывал из нее и, чуть скосив маленькую головку, по-птичьи наблюдал за Глохловым. Глеб Глебович с Егоровым ушли в чум и что-то бубнили там вполушепот, расспрашивая, вероятно, о случившемся Анатолия. Степа как мог помогал Глохлову, а Дарья Федоровна сидела на корточках, в головах трупа, курила, и по лицу ее часто-часто бежали слезы.
Когда уже Многояров лежал на брезенте раздетый, Глохлову захотелось прикрыть его, чтобы не мерз на ветру. Следов каких-либо повреждений на теле не было.
Глохлов досматривал вещи Многоярова. Егоров делал опись. Из нагрудного кармана гимнастерки вынул бумажник. В нем несколько фотографий, вложенных в целлофановый мешочек, плотно перехваченные резинкой, удостоверение, детский рисунок – маленькие кораблики плывут в синем море, четыре письма из дому: ровный, мягкий и крупный женский почерк, ломаный, еще не установившийся мальчишеский и совсем детский, с красивыми заглавными: отдельно отложено письмо старшей дочери – почерк похож на руку отца…
В полевой сумке топографические карты, карта аэрофотосъемки, график восходов и заходов солнца вплоть до декабря, тетрадь в клеенчатой обложке, исписанная до конца; колонки цифр; расчеты, чертежи, рисунки. Еще тетрадь, даже не тетрадь – крупный блокнот.
– Блокнот… Нет, запиши – блок-тетрадь в кожаном переплете… Чистая, – продиктовал Глохлов. – Книжка «Из записок революционера», автор – Кропоткин, издание 1928 года, «Прибой».
– Чего прибой? – спросил Егоров. – Папиросы?
Глохлов повертел в руках тоненькую книжицу. Ее вместе с другими принесли ему на память внуки умершего местного учителя Дрыгина. Многояров взял ее еще весною с собой в маршрут: «Почитаю в непогодь, на лежках».
– «Прибой»? – Глохлов еще раз осмотрел книжку. – Издательство, наверное. Пиши в кавычках «Прибой», Ленинград.
– Понятно, – откликнулся Данилыч, низко склонившись над листом бумаги.
В полевой сумке больше ничего не было.
«А где же дневник? – подумал Глохлов, переглядывая разложенные друг подле друга вещи. – Должен быть дневник».
– Евстафий Данилыч, позови Почогира.
Эвенки все трое вошли в чум, присели на корточки у входа.
– Тут еще должна быть тетрадь, – сказал Глохлов.
– Ест тетрад. Вот он, – Степа посунулся куда-то влево от входа и протянул Глохлову раскрытый, в черных капельках на развороте рабочий дневник геолога. – Он на ногах валялся, вот так валялся, – сказал Степа.
Глохлов взял тетрадь, пристально вгляделся в разворот. На полях стояло время записи и всего лишь несколько фраз. Одна незаконченная.
– Когда ты услышал выстрел? – спросил Глохлов Анатолия.
– Однако, сэсть часов и пять минут, однако.
– Почему так точно знаешь, однако? – удивился Глохлов.
– Я часы клидел, однако, – Анатолий вытянул руку, показывая золотую «Ракету» на запястье. – Там стрельнул, а я часы клидел. Запомнил…
В дневнике стояло время – 18.00.
– Ты на выстрел сразу побежал?
– А то как!
– Сколько туда бежал?
– Двасать минут. Ясно, однако!
– И никого там рядом с Алексеем Николаевичем не было?
– Не было, однако.
– И ничего ты не заметил!
– Почему не заметил? Заметил. След заметил. В тайгу след бежал, шибко бежал. Шибче меня бежал. Ошен боялся, так бежал.
– А ты откуда знаешь?
– Соображать надо! След был! – Анатолий попробовал раскурить загасшую папироску, и Дарья Федоровна, согласно кивая головою, поднесла ему спички.
Глохлов перелистывал странички дневника. Запись к записи без помарок, без вырванных страниц, ровным, уверенным почерком. Каждая запись, как близнец, похожа на другую. Кое-где меж страничек раздавленные комары, расплывшиеся капельки на бумаге – пот с лица.
«Что же произошло там, у Осина плеса?! Что! Нет, не случайность этот выстрел. – Глохлов сразу же тогда, ночью, когда стучал в окошко Степа, решил: что-то случилось с Многояровым. – Почему так решил? Ведь тогда же сразу подумал о Комлеве: подлец, ах подлец! Почему так подумал?»
Глохлов, опустив руку с дневником, невидяще глядел за откинутый полог чума. Там белел снег, и на нем у костра чернели две фигуры – фельдшера и председателя Совета. Они грелись у огня, ожидая его, Глохлова, распоряжений. Каких распоряжений? Надо идти к Осину плесу. Что там найдешь? Снег за ночь завалил все следы. Да и не увидит он больше, чем увидели эвенки. Соображать надо!.. Ах подлец! «Подлец, точно, – снова неожиданно подумал о Комлеве. – Где он?»