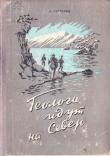Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Ну что ему ответишь. Как расскажешь ему, чистому, как ребенок, бескорыстному, доброму человеку – охотнику? Очень уж просто да легко стало в тайгу попадать.
Тайга горит. Охотник плачет. Геолога привозят из маршрута с ножевой ли раной под сердце, с пулей ли в затылок.
За разговором не заметили, как и время прошло. Собрались все вокруг. Ждут. Петр Владимирович знак рукой сделал. Все встали. Прошли в чум. Старик первый. Меня за ним направили, следом все остальные. Сели в чуме. Женщины по правую и левую руку от входа, место «бе» называется. Алексей принес голову медведя. Перед Петром Владимировичем казан с лучшими кусками мяса, медвежье сердце, печень, почки, легкие. У каждого в руках нож. У меня тоже – Чироня свой сунул, мой слишком велик (не обеденный), сам у кого-то тоже ножом разжился.
Я поставил перед стариком по бутылке коньяка и старки. Распечатал. Мигом появились кружки. Чироня кивает – разливай. Весело засветились глаза у охотников, женщинам тоже кружки, и Асаткан тоже, и двум парнишкам, только для Агды нет.
В чуме костерок, рыжие уголья, а сверху гнилье – дымокур. Петр Владимирович нашарил свою кружку, чуть отгреб гнилье, поставил греться в уголья. Подхватил из казана сердце амаки, полоснул ножом, заговорил быстро. И все вокруг заговорили. Праздник медведя начался.
– Что говорят, Чироня? Молятся – камланят?
– Нет. Закон такой. Слушай, не обижайся только.
Петр Владимирович говорит быстро-быстро, вежливо, почти ласково, чуть наклонившись вперед, обращаясь к голове медведя. И все вокруг тоже к лохматой амиканской морде:
– Амака, амака! Ты самый добрый, амака, самый умный, самый сильный! Амака, это не я тебя убил, это люча. Мы тебя любим, амака. Ты не видел, кто тебя убил. Ты не думай, не думай, амака, я тебя не убивал. Амака, амака, это не я тебя убил, это люча. Ты должен быть справедливым, добрым. Ты хозяин, амака…
Лежит посередине чума громадная, с короткими ушами дремучая голова медведя, будто слушает, прикрыты подслеповатые, маленькие глазки. Все понимает голова.
А вокруг едят чукин[17]17
Чукин – недоваренное мясо.
[Закрыть] – полакомились сердцем, мозгами, печенью.
Алаке! Алаке! Ой, как вкусно! Ой, как сладко! Много мяса. Далеко бегали за ним охотники. Хорошо потрудились. Хорошо кушают.
– Кусай, кусай, – Алексей протягивает мне розовый дымящийся сытным паром кусок. – Чукин сила многа Кусай, кусай, бойе[18]18
Бойе – друг.
[Закрыть]. А я![19]19
А я – хорошо.
[Закрыть]
– Наливай, бойе, сладка вода, шибко горячий вода, веселый. Алаке! Алаке! – Глаза у охотников блестят, лица в улыбках. Даже у Петра Владимировича в выцветших, прозрачных, размытых горючей росой глазах затухающим, огоньком заполошился свет.
– Алаке, бойе! Наливай.
– Живи у нас, бойе. Все бери, бойе.
– Ходить нада – олень бери. Холодно – парка бери.
– Гурумы[20]20
Гурумы – высокая расшитая обувь.
[Закрыть] шить будем, солнцем украшать, бисером. Нигде такой гурумы не найдешь.
– Живи с нами, бойе!
Аси[21]21
Аси – жена.
[Закрыть] бери. Вот аси – сахар. Добрый аси! Красивый. Любить будет. Алаке. Аяват-ми![22]22
Аяват-ми – любить друг друга.
[Закрыть]
Шумно, говорливо в чуме. Весело. Много еды, много мяса. Праздник медведя.
– Шибко кудо, водка мало. Ой, бой – своей нет. Шибко кудо…
– Ах, бойе, бойе, – будто тихонечко вздохнул кто-то там у входа. – Аявун[23]23
Аявун – любовь.
[Закрыть], бойе, аявун.
Шумно вокруг, весело. Может, и послышалось. Тихо так прошелестело, будто травы.
Я вышел из чума. Рассыпчатые звезды едва наметилась на темной бусове неба, медленно покачивался, залег в сосновой хвое кумачовый Холбан – Марс. Дремлют меж белых стволов тоненьких, как струйки березок, олени. Вышли из тайги на праздник медведя, слушают голоса людей.
– Ах, бойе… Аявун, бойе, – пролепетала тайга, тихо, страстно, теплым чистым-чистым дыханием коснулась захолодавших сразу щек.
– Ты добрый, люча, ты справедливый, люча, ты самый умный, люча. Иди ко мне, бойе, – шепчет, зовет тайга. – Все возьми. Живи со мною, радуйся…
Хорошо. Праздник медведя.
Первая охотаЗапись X
Стрелок из лука
– Бур-бу-лен, бур-бу-лен, – поет на шее учага звонкий колокольчик.
– Бур-бу-лен, – покачиваются легонько облака в голубом небе, тайга шумит, долго-ровно, словно бы большой морской прилив. Волна за волною, в берег, в окатистую говорливую гальку. Волна за волной – в берег.
Нет берегов у тайги, разметалась, разлилась она на тысячи, тысячи километров, шумит вольно зеленым девятым валом, волна за волною. Услышал раз в жизни привольный, без берегов шум – до последнего вздоха помнить будешь. Не отпустит тайга, будет звать, докатывая, где бы ни был, до слуха широкий зеленый плеск.
– Бур-бу-лен, бур-бу-лен, – поет колокольчик.
Теперь-то я знаю, почему в эвенкийском языке два разных слова, обозначающих колоколец. Бурбулен – лето. Бражные запахи тайги, говорливые ручьи и родники, шиверистые реки, цветы на паберегах, листва, травы, солнце в небе – золотым колоколом – бур-бу-лен. Спелая ягода сыплется на гулкое дно берестяного туеска.
– Бур-бу-лен, бур-бу-лен, – колокольчик на шее мудрого учага.
Впереди идет Чироня. Просекает временами пальмой уже заросший, едва различимый путик. За ним три белых оленя; их подарил Петру Владимировичу перед смертью Макар Владимирович.
Следом Асаткан. Она поведет обратно на стойбище оленей, а мы с Чироней, сокращая путь, тайгою выйдем к Неге. На Асаткан черные плотные шаровары, легкие дорожные чикульмы, платье-сарафан (руки у девушки по плечи голые), туго по самые брови повязан красный платок.
Путь наш лежит по сухим чистым борам, по самым вершинкам хребтиков. Тут нет комара, идти легко, закинув за плечи черные защитные сетки. Платье у Асаткан в талии узко перехвачено ремнем, небольшой нож в деревянных ножнах у бедра, в руке легонькая пальмичка. Шаг у девушки легкий, стремительный. Кажется, плывет она меж стволов, не касаясь земли.
Мы идем на Балдыдяк. К месту, где родился и где покоится в тяжелой сибирской земле Макар Владимирович Почогир – мудрый человек. Охотник. Ганалчи…
Макар Владимирович…
Ганалчи…
Стрелок из лука…
И пришли воспоминания…
– Ну, здраствуй, здраствуй, паря! Однако, издалека прибежал?.. Из Москвы?! У-у, шибко далеко Москва. К нам из Москвы не прибегали давно. Знаю вас, знаю. Геологов тайга водил. Шибко много народу шло. Шибко много. Дорогой камень искали. Алмаз. Шибко долго искали.
Макар Владимирович улыбается, по лицу бегут морщинки, словно бы рябь на спокойной глубокой воде.
В мире ночь. Глубокая, с черным студеным небом, над черными лесами, над белыми хладными снегами с прозрачными, в ладонь, проталинами звезд.
Трое суток назад вышел я из Буньского с каюром Степой, с четырьмя оленьими упряжками вниз по Авлакану в урочище Коняк, с надеждой разыскать стойбище Макара Владимировича Почогира и остаться у него на сезон соболиной охоты. Степа – молодой парень, внук Макара Владимировича, – без лишних разговоров согласился сбегать со мной к деду.
Весь день перед отъездом мотались мы с ним по селу. Заходили то в магазин, то в аптеку, то зачем-то в райисполком и райком, и даже в собес, и в клуб, и, наконец, по бесчисленным знакомым и родным Степы. Везде он помногу здоровался и задерживался всего на несколько минут, чинно присев на краешек стула, скамейки или просто на порожек перед дверью. Визиты эти носили какой-то благоговейный характер и, честно, немного меня раздражали. Я всегда волнуюсь перед дорогой, это уже в крови, этого не изживешь. А тут особенно. С утра Степа собрал в тайге сильных оленей, свел их в огород, подле избы, обладил нарты, загрузил их. Наконец впряг оленей. И в тот момент, когда я был уже готов предложить выпить на дорогу, стойя в громадной, до пят, волчьей парке, вдруг начались эти странные, на мой взгляд, визиты. Путаясь в длиннющих полах своей неуклюжей одежды, я едва поспевал за стремительным, одетым в одну нараспах стеганку каюром.
– Степа, когда побежим? – то и дело спрашивал его и получал вполне определенный ответ:
– Чичас, чичас, маленько все готово. Маленько бежать будем.
Наконец, выбившись из сил, я потерял своего каюра и возвратился к месту нашего отъезда. В огороде стояли запряженные тихие олени, повесив долу заиндевелые ласковые морды. Они безропотно ждали своего хозяина, прикрыв веками теплые глаза. И только маленький олененок, тыкался по огороду, фыркал, копытил землю, проявляя беспокойство. Сбросив в сенцах опостылевшую, всю прожженную жаром моего тела парку, я прошел в избу Степиных родителей.
По случаю вот-вот открывающегося сезона соболиной и беличьей охоты из Буньского ушли все, кто мог стоять на лыжах и держать в руках ружье. (Мне повезло. Степу только что выбрали депутатом сельского Совета, и он считал своим долгом уйти на охоту последним, проводив каждого, кто уходил на промысел).
Я сидел в пустой, но хорошо протопленной избе и ждал своего каюра. Быстро смеркалось. Зимний день на Авлакан-реке короче носа синицы. Не стаяли еще утренние голубые сумерки, как уже начинает густеть синий вечерний помрак. Я не знал тогда одной особенности, бытующей у этого народа, – в дорогу выходить с первой большой звездою. Я просто волновался, уверенный в том, что придется задержаться в Буньском еще на одни сутки. Не был я уверен и в том, что сумеем мы в неоглядной глыби тайги найти охотничий чум Макара Владимировича. Я уже дремал на лавке под шорох тараканов в запечье, когда гулко, как выбитое из бочки дно, ухнула дверь и на пороге появился Степа.
– Давай, давай, однако, некогда! Быстра нада! Олень совсем зазяб. Кушать хочет. Бежать хочет! Быстро надо, – заторопил он меня, заметался по избе, что-то разыскивая.
Степа был заметно навеселе, но от посожка отказался.
– Непьющий, – сказал он и откровенно дыхнул на меня легким запашком недавно выпитого спирта. – Бежим!
Мороз под пятьдесят. Деревья над Авлаканом будто бы остекленели. Кажется, крикни в эту безмолвность – и мигом рассыплется мир на тысячи звонких льдинок.
Пар от нашего и оленьего дыхания висит позади длинной-длинной нетающей полосой. Точно так же высоко в небе оставляет за собой след самолет.
Степа иногда останавливает оленей, и мы осторожно обламываем с их ноздрей и губ лед.
Пробежали высокий окатистый холм, густо поросший лиственницей, елью и березой, с лысой вершиной. Место это зовется Крест. О нем Степа рассказал легенду.
Давно-давно с первым льдом направился в тайгу жадный купец, решил опередить своих конкурентов: «Всю пушнину заберу, в барыше буду». Да только встал на пути Авлакана могучий холм. Бросились на него стрежневые волны, начали льдины на берег выпирать. Захороводилась вокруг вода, закрутилось крошево. Сверху еще льдины сбежали, заторило ледоход, река силу набирать стала. И в самую круговерть с крошевом и льдинами занесло купеческий шитик. Опрокинуло, раздавило, как гнилой орех. Купец тонуть стал. Был он мусульманин, стал на помощь аллаха призывать, не помогает аллах – не слышит.
Взмолился купец: «Помоги мне, русский бог, коли аллах не слышит! На холме тебе крест поставлю». Но и русский бог купца не услышал. Он уже ко дну пошел, да увидел его с берега эвенк-охотник. Спас купца. Говорил ему: «В тайге человек к человеку идет. Человек человеку помотает. Будешь так жить – хорошо будет. Нет? Не поможет тебе ни аллах, ни бог».
Купец охотника выслушал, ухмыльнулся. Крест все-таки на холме поставил – большой, деревянный. А вот человеку навстречу никогда не ходил. И погиб скоро: съел его амака, а крест сгнил и рухнул.
Синяя, безмолвная ночь. Старый месяц умер, новый еще не народился. Звезды осыпали небо, теплятся, перемигиваются, путаются в рогах оленей. Молоденький олененок жмется к моим нартам, заглядывает в лицо, отогревая его своим дыханием.
Мороз крепчает. И звон конгилона наполняет всю ночь.
– Эй, паря, – кричит Степа, – однако, курить надо, кровь греть надо! – Он останавливает оленей.
Закуриваем.
– Степа, а ты можешь спеть песню каюра? Свою песню эвенка?
– Однако, спою. На-ка, паря!.. – Он протягивает мне дорожную хлорвиниловую флягу. Делаю несколько глотков острого горячего спирта. Закусываю, как и Степа, снегом. Мы смеемся, и смех наш раскалывает тишину.
– Еще маленько – и дом. Садись, побежали! – командует и трогает свою упряжку.
– Песню каюра спеть не забудь! – кричу, падая в нарты.
– Однако, спою…
И заводит высоким чистым голосом:
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная —
И нету других забот…
Я вслушиваюсь в песню, улыбаюсь и, не вытерпев, подхватываю.
Бегут олени, бегут звезды в небе, бежит тайга, бежит белый аргиш. Бежит в ночи наша с каюром песня…
И снова точно через полчаса, словно по хронометру:
– Эй, паря! Однако, курить надо! Кровь греть надо!
И снова бегут олени, тайга, звезды, и песня каюра поспешает за ними.
Я не пою. Лежу, поплотнее укутавшись в парку, слушаю голос Степы – его каюрскую песню:
Была бы страна родная…
На следующей остановке Степа сказал:
– К нартам, однако, привяжись. Заснешь – не учуешь, как в снег скатишься. Закалеешь. У верхних людей только и проснешься.
– Выпаду – подберешь, – улыбаюсь.
– Нет, – качает головой Степа. – Я, когда нартами бегу, назад не оглядываюсь. Я вперед гляжу. Чего мне позади надо? Проехал – все видел. Вперед гляжу – так вот надо.
Он отхлебывает из фляги спирт. Приседает на корточки и, открыв рот, ловко кидает под язык снег. С шиком так словно деревенская модница семечки.
– Случай, однако, был, – закуривая, говорит Степан. – Прокурора в тайга вез. Большого, как ты. Тяжелого, оленей два раза ему менял. Устают олени. Шибко весу много. Прокурор кровь грел. Нарту ложился, стал ночевать. Аргиш ровный был, быстрый. Всего-то час бежать нам осталось в Инаригда. Прокурор – депутат, на собрание ехал. Прибежали. Я без парки был, в стеганке, заколел очень. Сразу в избу бежал. Брата просил: «Распрягай оленей, прокурора на собрание привез». Потом курил. Чай с братом пили. Вдруг приходит Алешка Попов. Говорит: «Товарища и гражданина прокурора привез?» – «Привез, говорю». – «Народ его в красном чуме ждет. Пора собрание начинать». – «Пора, говорю, чего не начинаете?» – «Прокурора нет». – «Как нет? Час вот уже прошел, как прибежали». Брат говорит: «Он к нам не заходил. Мы отдыхаем, чай пьем». – «А ты, когда оленей распрягал, его видел?» – спрашиваю у брата. «Он на нарте спал». – «Нет, – говорит брат, – не видел прокурора. Ты его, Степка, потерял. К нарте привязывал?» – «Нет. Я думал, прокурора привязывать нельзя!» – «Дурак, – говорит брат. – Тебя за большого этого человека народ теперь не заметит. Плохо тебе, Степка, будет». А Попов уже в клуб побежал, говорит каждому: «Степка гражданина-товарища прокурора-депутата потерял».
Мы тайга бежали, оленей ловили. Пять нарт запрягали. Спирт, водка, мяса брали, назад бежали. Прокурор под елкой сидел. Живой, но шибко замерз. Идти по аргашу не мог, шибко много на нем всякой лопатины надето было. А раздеться, чтобы налегке по следу идти, боялся. Что, если теряет след. Замерзнет налегке-то. Умный был человек. Под елкой сидел тихонечко. Ждал. Некурящий, а то бы костер завел. С костром лучше ждать. Меня не ругал. Замерз шибко. Потом ругал. Собрание на след день было. Всю ночь прокурора грели. Так что привяжись, однако, – советует Степа, заканчивая рассказ.
И снова через полчаса, как по хронометру:
– Эй, паря! Курить надо! Кровь греть надо!
Совсем непьющий у меня каюр. Даже странно.
Вот так и добрались мы до стойбища Макара Владимировича. Степа, едва успев отпрячь оленей, завалился в дальний угол чума и, сладко зевнув, объявил:
– Болеть буду.
Жена Макара Владимировича – худенькая, маленькая, сухая старушка с удивленно-поднятыми бровями на гладком не по летам лице (время так старательно стругало его, что и морщинки сняло, обтянув скулы и лоб тонкой орехового цвета продубленной кожей), вздула огонь в маленькой переносной железной печке, запалила керосиновую лампу без стекла и вышла на волю разложить костер подле чума – сготовить гостю какую-нито еду.
Я было запротестовал, ссылаясь на поздний час, на усталость, но Макар Владимирович погрозил пальцем:
– Нельзя этак! Нельзя.
И вот мы сидим с ним подле раскалившейся печки, курим. В чуме жарко. Я сбросил с себя одежду, оставшись в одном тельнике. На Макаре Владимировиче только черные «чертовой кожи» брюки. Тело его все исхлестано витыми жгутами мелких мускулов и сухожилий, в иных местах кожу исполосовали рваные рубцы заживших ран. Рубцов много, и кажется, что они тоже налились скрытой неброской силой, превратились в мускулы.
Хозяйка внесла и поставила перед нами маленькую столешницу, стряхнула ладонью пристывшие снежинки. Улыбнулась мне по-матерински ласково, по-детски застенчиво.
– На Усть-Чайку завтра побежим, там промышлять будем, – говорит Макар Владимирович. – Жена – Дарья Федоровна тут побегат с ребятами. Тут соболя довольно, и белка за Авлаканом жирует. А мы на Усть-Чайку.
Я говорю, что весь припас, продукты, палатку и даже два спальника привез с собой и не буду в тягость охотникам. Даже камусные лыжи купил в Буньском.
– Человек человеку в тайге не в тягость, – говорит Макар Владимирович. – Хочешь жить с нами – живи. Мы каждому люду рады. Ружье у тебя хороший?
У меня казенная тозовка. Выписал майор Глохлов. Новая. Пристреливал в Буньском, чуть обвышает. Говорю об этом охотнику. Макар Владимировиче качает головой.
– Ружье есть. Пристрели. Возьми, какой понравится.
Он берет в руки сброшенный мной ремень, на котором купленный в Москве охотничий нож. Нож – загляденье – в кожаных лакированных ножнах, с тяжелой пластмассовой ручкой, с широким, чуть загнутым к жалу лезвием, с бороздкой для стока крови. Точенный московским точильщиком (взял с меня два рубля).
Макар Владимирович пробует жало пальцем, проводит по лезвию. Раз, другой. Кожа на пальце словно бы облуженная, кажется, улавливаю звук металла по металлу.
– Плохой, – говорит охотник. – Шибко плохой. В тайге ненужный. Отдай мальчишке играть. Что делать им будешь? – спрашивает. И сам отвечает: – Ничиво.
Дарья Федоровна ставит на столешницу деревянное блюдо. На нем тоненькие, в лепесток розы, кругляшки сырой сохатиной печенки, в центре блюда горочка темной крошеной горной соли. Печень промерзла так, что не успела оттаять под ножом хозяйки. А может быть, была настругана и загодя, только каждый кусочек от центра и гуще к краю словно бы припудрен выморозью. Из невесть откуда появившейся бутылки Макар Владимирович плескает тяжело падающий в кружки спирт. Мне и Дарье Федоровне всклень, себе чуть на донышке. Прежде чем пригубить, оба старика греют спирт на печурке. Хозяйка только так, за компанию, Макар Владимирович основательно. Кивает нам:
– Пейте.
– За здоров гость, – говорит Дарья Федоровна и пригубливает свой «бокал».
Я делаю два глубоких глотка обжигающей и тут же согревающей, кажется, всю грудь влаги. Закусываю заметно порыхлевшей в тепле печенкой, густо посыпав ее солью. Надламываю хрусткую парную колобу.
Макар Владимирович пьет теплый спирт маленькими, экономными глотками. Каждый глоток дается ему с трудом. Ест он тоже с большим усилием, какое-то перетертое в жидкую кашицу кушанье. Его поставила перед ним в алюминиевой миске жена.
Макар Владимирович болен. Болен давно. Уже четверть века прошло с тех пор, как впервые свила в нем гнездо то утихающая, то снова возникающая, валящая на землю боль. Четверть века борется с ней человек. Что это? Разве смогли бы ответить на этот вопрос тогда, когда впервые вошла она в охотника, даже самые уважаемые местные доктора?
Бессильна наука, бессильны клиники и операционные перед той болью.
И только он один на один ведет с ней неравную борьбу. Четверть века ведет один на один.
Подлая эта боль ищет самого сильного, самого крепкого и валит навзничь, втаптывает в небытие, отнимая все. Сгорает человек за зиму ли, за лето ли, за скоротечную весну, за одну ли осень, за год ли, за три, а тут четверть века. Двадцать пять лет постоянной борьбы. То в лежку лежит человек, иссыхая в палую желтую хвоинку. Но не сдается, крепко держится за жизнь, сжимает в упрямо стиснутых скулах стон ли, крик ли. Уходит от людей, чтобы страданиями своими не омрачать им жизнь. Уходит в тайгу с единственным свидетелем страданий его – Дарьей Федоровной. Уходит, как в клинику, в безлюдную тайгу. Пьет желчь медведицы, обязательно убитой в определенное время и обязательно той, что принесла в мир двух медвежат-мальчишек. По первому году одного и по второму. Пьет эту желчь, особо настоянную и приготовленную на кореньях и травах, на таежной силе. И лекарство это больнее боли, что сушит его в хвоинку. И может, другой, приняв такое, решился лучше уже помереть, а он четверть века делает людям добро, живет для них со своим опытом, со своим знанием и удивительным пониманием всего, что происходит на земле. Восемьдесят зим за плечами, восемьдесят листопадов и ледоставов, восемьдесят раз ломала лед Авлакан-река в его жизни. И за это время прожил он века, эпохи…
Отец его, Аланчан, – мудрый старейшина рода Почогиров – впервые вложил ему деревянный лук в руки, когда едва-едва встал он, словно бы орокон[24]24
Орокон (эвенк.) – олененок.
[Закрыть], на неокрепшие ноги. И потом, когда впервые вышел один на один с тайгою, стрелял он из лука и белку, и соболя, и разную птицу, пока не получил от отца своего в наследство мудрое кремневое ружьишко и право вести с купцами торг на ярмарках в Буньском. Какая сила заставила его отвернуться от огненной воды, понять язык и нравы народа, с которым вот уже столетия живет его маленький народ, не дать обмануть себя, а значит, и близких своих в тяжелом для каждого жителя тайги и непонятном к тому же деле – торге? Ведь един закон для каждого живущего под свободным небом по справедливости, но тому, как было среди них с давних-давних пор. Каждый приходит в мир не обижать другого. Каждый живет добротой земли, а значит, и своей добротой к ней, живой и мудрой. Земля – мать… Ее нельзя обидеть так же, как нельзя обидеть сына ее – илэ – человека. Какая сила повернула его к людям, несправедливостью загнанных сюда от родных домов и семей, от привычной для них обстановки? Позднее он водил их по таежным урманам, от Авлакан-реки до большой воды Енисея и Лены. Партизаны. Это слово пришло к нему в сердце как понимание справедливости. А потом первая школа в далеком их стойбище. Первый торг по справедливости, по давнему их закону – нельзя украсть, нельзя обмануть…
Осторожно, словно боясь каждого глотка, ест свою пищу Макар Владимирович. Исходит передо мной сытым густым паром сочная глыбка сохатиного мяса, словно ледком подернулся крутой навар таежного супа в глубокой миске, пышет сладким запахом румяная колоба, тяжело-загустело падает в кружку крутая струя чая.
Я здоров. Я воздаю славу пище человеческой. Я радуюсь горячему току крови в своем теле. Макар Владимирович улыбается. Он победил осенью последний страшный, пуще всего, что испытал, приступ боли. Он здоров. И только нервно взлетает и стремительно падает кадык при каждом сторожком маленьком глотке.
Он победил болезнь. Человек улыбается отцовской скупой и детской доверчивой улыбкой.
Завтра мы уйдем с ним в тайгу за шесть оленьих переходов, в таежное урочище Усть-Чайка.
…Ночью я просыпаюсь от тишины. Поворачиваюсь на спину и долго смотрю в небо. Круглый пятачок хонара, в который уходит дым от печурки, сейчас чист. Смолье давно прогорело, и в хонар нападали звезды. Голубые, с льдистым отливом, они медленно плывут в небе.
Я вслушиваюсь в ночь, и мне на мгновение чудится, что я слышу далекий-далекий шорох. Шорох миллионов звезд в морозном небе. Сейчас они кажутся мне такими близкими, что только поднимись, протяни руки, и их голубые венчики медленно соскользнут в ладони.
Я высвобождаю руки из-под горячей медвежьей шкуры, прикрываю пальцами глаза, и тогда звезды почти касаются моих ресниц. Так я лежу минуту, час, а может быть, и всю ночь. Время оставило меня, я не ощущаю его…
В хонаре поблекшие, но все еще яркие звезды, полог в чум приоткрыт, и ближний рассвет обозначил в нем белый квадратик. И кто-то ходит и ходит там снаружи ровными сторожкими шагами, немелодично звучит в ночи конгилон на шее старого оленя.
Утром в чуме гудит печурка, заваливая хонар голубым мягким дымом, горьковатое сизое облачко от трубочки Макара Владимировича висит у входа, пыхтит на огне чайник. Дарья Федоровна месит тесто для колоб.
Я сбрасываю с себя шкуру, здороваюсь с хозяевами и чувствую во всем теле, в каждой клеточке буйную радость жизни. Руки мои, лицо, одежда пахнут свежим запахом еловых ветвей.
Хозяин улыбается.
Одеваюсь, натягиваю унты, шарю вокруг себя, пытаясь найти шапку. И куда она запропастилась? Разбираю груду шкур, и вдруг они начинают шевелиться, пыхтеть, и передо мной появляется кругленькая, чуть раскосая потешная рожица с черненьким хохолком.
Рожица таращит на меня глаза, а в них так и прыгают хитринки-озорники.
– Ты кто? – спрашиваю.
– Гошка! А ты?
– Дядя.
– Я спал, ты приехал, да?
– Да.
Гошка вылезает из-под шкур. Ему лет шесть, глазенки быстрые, веселые. Он улыбается белозубо, задиристо.
– Пойдем умываться, – предлагаю я ему.
– А ты снегом моешься?
– Да.
– Снег помягче, смотри, выбирай. Порезаться можно. Понял?
– Понял.
– Ну пошли.
Мы выходим из чума. Тайга стоит белая, неподвижная. Молоденькие лиственки и березки гнутся под белыми копешками снега. Горит костер. На тагане в котле булькает варево. Гошка заглядывает в котел.
– Бабушка похлебку готовят. Вкусна-а…
Где-то в чаще сухо потрескивает валежник, шуршит снег – олени копают ягель.
– Кухтой умываться будем, – говорит Гошка и начинает трясти березку. Я помогаю ему.
С дерева на нас падает мягкое облако снега. Мы смеемся, захлебываясь холодной искристой пылью.
Пригоршнями черпаем снег, трем руки, лица. Капельки влаги застывают на ресницах.
В чуме Дарья Федоровна накрыла стол – маленькую, гладко выструганную столешницу на крохотных ножках.
Мы пьем густое, прохладное кумни – оленье молоко, закусывая пахучей, поджаристой кодобой.
Степан что-то быстро по-эвенкийски рассказывает деду. Гошка подсовывает мне надкусанный им кусок сахару. Мы друзья, и я принимаю подарок, в свою очередь угощая его моим надкусанным куском.
Мы с Гошкой в тайге. Пока старшие готовятся к охоте, Гошка посвящает меня в таежники.
– Амаку не бойся, – строго говорит он. – Амака зимою спит. Летом я его сам боюсь. – И предлагает: – Давай на тот берег уйдем, а?
– Зачем?
– А там у меня мамка и отец. Я тебя проведу, туда тропочка есть.
– А как звать твоего отца?
– Валентин Манго.
Я много слышал о нем. Валентин охотится вместе с женой, дочерью Макара Владимировича.
– Дядя, мамка моя белую белку добыла.
– А почему она белая? – спрашиваю.
– Не знаю… Папа говорит, что так редко бывает. Очень хорошо глядеть надо, чтоб белую белку убивать!
Я поражаюсь памяти и смышлености этого мальчонки. В тайге он ведет себя так же, как его сверстник-горожанин в своем детском саду. Гошкины игрушки – белая кухта на деревьях, следы белки, охотничьи собаки, оленята и еще сотни интереснейших «игрушек».
Еще год-два, и дед или отец возьмут его на охоту. Стрелять он уже умеет сейчас.
– Дядя, пойдем, я что-то покажу, – таинственно говорит Гошка.
Мы идем глубокой оленьей тропой. Мальчонка впереди, я за ним. Неслышно опадает с деревьев кухта. Косые лучи поднявшегося над тайгой солнца золотят верхушки деревьев.
Гошка останавливается у широкого распадка. По склону сбегают вниз редкие деревья, молоденькие белые сосенки и елки, снег тут глубок и как-то необыкновенно легок. Каждый сугроб будто упавшее на землю облако.
На самом дне распадка поблескивают и искрятся голубые наледи родников. Их очень много, они буравят снежный наст, подтачивают сугробы, блестят меж негустого марника, а над ними покойно покачивается сквозная дымка пара. На ветвях больших деревьев, на лапах сосен и елок длинные пушистые нити инея…
– Видишь, дядя? – шепотом спрашивает Гошка.
– Что?
– Это звезды, у них тут дом…
Запись XI
На Усть-Чайку
И снова дорога. И снова мы уходим в тайгу с первой звездой, что медленно поднялась над тайгой, над белыми снегами.
Аргиш стремительно сбегает в распадок, выносит нас на широкое выполье Авлакан-реки. Прозрачно вызвенивает конгилон, всхрапывают олени, и недвижимый доселе воздух разом омывает лицо, упруго набиваясь в ноздри мелким, из-под полозьев нарт, снежным свеем.
Я оглядываюсь. На юру среди хвойного чернолесья крохотной ранкой кровоточит костер. Кажется, в плотной синей сутеми различаю маленькую фигурку Гошки и темную, словно бы копешку сена, фигуру Дарьи Федоровны. Они там, на юру, машут нам руками, желая доброго промысла. А может быть, это только кажется мне, но я все-таки тоже машу рукою, желая им удачной охоты. Степа провожает до устья Демы. Прощаемся, хлопая друг друга по спинам, пожимаем руки.
Аргиш покидает гирь – торный, уже осевший путь – и медленно уходит вверх по речке Деме к охотничьему урочищу Усть-Чайка. Степа бежит в обратную на Конек, в одной легонькой стеганке, пешком. Семь с лишним километров, что успели проехать, для него не крюк. Мы остаемся вдвоем с Макаром Владимировичем.
Олени, тайга, ночь…
Мы в ночи, в безмолвной оснеженности, и только тихонечко поскрипывает под нартами снег, тяжело дышат олени да звенит и звенит, катится, перегоняя упряжки, серебряный тонкий голос конгилона. О чем ты поешь, серебристое эхо севера?
Кон-ги-лон – кон-ги-лон – кон-ги-лон… Медленно поднимаются в небо звезды – одна, другая, третья, десятая, сотая… не сосчитать. Покидают свой дом в распадке за Гошкиным чумом. Перемигиваются друг с другом и с теми, что еще на земле, в лесах и за лесами, кажут дорогу путникам, откликаются на голос колокольца…
Все больше и больше звезд в небе – легла млечная дорога мироздания накатанным нартовым путем за черный краешек белых лесов в беспредельность.
Кон-ги-лон – кон-ги-лон – кон-ги-лон… Притомились олени, с трудом тянут легкие нарты. Продукты и всю обиходь еще по лету развезла по стоянкам Дарья Федоровна; с собой мы взяли только то, что необходимо в дорогу и на черный день.
Собаки (их четыре) – две Макара Владимировича и две отныне мои – вывалили языки, прихватывают на ходу снег, трусцой бегут за последней нартой. Порой встрепенется где-то под обрывом задремавший заяц, сиганет в чащобу. Взовьются собаки, пуганут для острастки косого, отбежав ненадолго, и снова вернутся к аргишу. Снова спешат позади, попыхивая парком из горячих пастей, прихватывая языками взбитую холодную пену снега.
Макар Владимирович оставил нарты, жалеет оленей, идет впереди скользким проворным шагом. Иду за своей нартой и я. Сбросил парку, сбил на затылок ушанку, скинул с ладоней вачаги, болтаются они, крепко привязанные к запястьям. Идти легко, снег еще не глубок, самое время начать промысел с собакой. Через месяц-другой навалит сугробы, только что «вплавь» перебирайся. Собакам тогда делать нечего, по глубокому снегу не загонишь зверя – вся надежда на капкан, на «пасть», на «кулемку», на «плашку»…