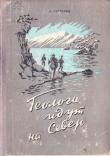Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Юрий Николаевич Сбитнев
Костер в белой ночи
Роман и повести
…Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
А. С. Пушкин
Костер в белой ночи
Роман
Стрелок из лука
Книга первая
Один деньЗапись I
Нега
Нега – деревня, домов сорок, на песчаном, красном яру. Избы по склону стоят вразброс. Рублены они в лапу, с тесовыми впрозелень крышами, с белыми распахнутыми ставенками у черных глазниц окон. Ставенки кое-где пообрывались, кое-где зачернели от дождей и непогоды. Но издали видны только те, что белеют ясно, отчего и кажется Нега нарядной. Вокруг деревни заливные луга густой, в пояс травы, на паберегах желтым теплым огнем цветет девятильник, розовым дымком кудрявятся соцветия мухоморчика да синеет меж ними тихая набережная ромашка.
За лугами – густые наволоки мелкого леса, а дальше по хребтикам, все выше и выше к широкому белому небу тайга – рудовая сосна, черный ельник, кедровники в серебряной хвое. В наволоки из тайги, в сырые куговины, приходят телиться лоси, неслышно пробираясь сквозь ивняки и ольховники. Туда же правит свой след амикан-дедушка – медведь, попробовал раз мягкого лосиного мяса и охмелел на всю жизнь от сладостного для него мгновения убийства.
По хребтикам жирует соболь, кормится белка, а на ягодниках видимо-невидимо сытой в тяжелом гладком пере боровой дичи.
По лугам широким вороненым плесо разлилась Авлакан-река, и там, где впадает в нее тихая, вся в теплых, живых комочках кувшинок, в зеленом шелке травы-орон речушка Нега, золотистая, будто бархатная, песчаная коса. В стародавние времена, когда – и не упомнил никто, пришли сюда русские люди. Пришли, да, знать, и ахнули от баской яви. От раздолья и ясности окрестных мест, от того, что и не сыщешь лучшего жительства по всей Авлакан-реке. Потому и название само пришло – Нега…
Нега, знаешь ли ты, как захолонуло сердце, когда вынес меня шитик на вороненое плесо Авлакан-реки, когда заплясала под днищем рябистая угонистая волна и закачался красный яр с избами вразброс, с белыми радостными ставенками у черных глазниц окон, когда выплеснулась в глаза и душу вся красота первозданной природы и что-то мягкое подкатило к горлу и тихонько, будто теплой рукой, сжало сердце?
Нега…
Я плыл сюда, минуя одну шиверу за другой, промокал до костей под сыпучими ливнями, замерзал ночами у тощего огня сырого таежного костра, слушал, как печально и тягуче ноют оборванные двери в брошенных навсегда людьми авлаканских деревнях, страдал в безлюдье, силясь понять, почему так несправедлива жизнь к этим весям. Почему ушел отсюда кряжистый, упорный, многотерпеливый сибирский мужик, почему бросил с таким трудом обжитые прадедами гнезда.
Тяжело, страшно ночевать в пустых деревнях. В избах, где смолистые иссиня-темные и лаково-гладкие бревна стен упорно хранят домовитые запахи, где глиняные битые печи все еще пахнут хлебом и холодом давно простывшего уголья, где ветер, задувая в трубы, разметал по скобленому полу, словно прах, серую золу…
И вот передо мной ты – Нега. Первая обетованная за многие-многие километры и дни пути по Авлакан-реке деревня.
Я иду к тебе, слушая, как радостно скрипят – нет, поют – уключины моего шитика…
Запись II
Чироня
Чироня – бывший колхозник, потом рабочий, а нынче никто – сидит на полу, широко раскинув тощие ноги. На грязном, давно не мытом полу ноги кажутся аспидно-белыми, будто стебли травы-сочивицы, выросшие без солнца. Серая рубаха разорвана с ворота до подола единым, от полноты душевной, рывком. Штанов на Чироне нет, и он прикрыл стыдное место бабьим латаным фартуком, повязав его по узким мослатым бедрам. Жена его, Матрена Андронитовна, еще третьего дня упрятала штаны, надеясь этим самым предупредить запой мужа. Чироня нашел выход – повязался фартуком и утек к старым баням пить с дружками мутный, еще не остывший от перегона первач. Пил до тех пор, пока ошалевшие от сивухи мужики не выкинули его из бани в крапиву.
Чироня не обиделся, не стал шуметь, отоспался малость в жгучей постели, выполз, почесывая все в розовых пятнах лицо и шею, матюгнулся в слепящую пустоту июльского дня, скрипнул зубами, рванул на себе рубаху и наладился к своей избе, выводя горлом странные звуки. Они не были похожи ни на плач, ни на песню, ни на что другое, что может издавать живое существо. Звуки эти, на одной только ему ведомой ноте, ведет и сейчас, сидя на полу, раскачиваясь из стороны в сторону. Чироня верит, что поет красивую долгую песню. Она трогает до глубины темной, непонятной ему самому собственной души, и по щекам не переставая катятся и катятся не по-мужичьи обильные слезы.
Чиронина песня никого не удивляет. К ней привыкли, словно бы к плеску Авлакан-реки в непогоду, к шуму тайги, к тому, без чего не может жить Нега. Только иной раз не от интереса – от болезного участия спросит соседка Матрену Андронитовну:
– Чо – поет?
– Поет, – откликнется и махнет рукой, будто отводя от себя не похожий ни на что живое мужнин голос.
Стекла в окнах Чирониной избы по причине летнего времени все до единого выбиты и не прикрыты ни пестрядью, ни газетными листами, ни каким другим «подсобным средством», как это делается с наступлением холодов. Довольно просторная изба лишена переборок и заборчиков: года два назад в лютую здешнюю зиму, оставшись без дров, пожег их Чироня и не соберется поставить новые. Одно неудобство от них: по темному да хмельному времени мордой тыкаться. А морда, она хоть к тычкам и привычная, а все-таки жаль… своя…
Как залился Чироня к старым баням, так жена его Матрена Андронитовна все до тряпки разнесла по соседкам, попрятала, покидала, чего-нито в ветхий, давно не смоленный и не конопаченный шитик, забрала детей и уплыла вниз по Авлакан-реке в село Буньское, к начальнику милиции. Будет опять слезно просить там, чтобы выселили мужика ее или в тюрьму бы определили. И конечно же майор Глохлов разведет руками перед глупой бабой. Не жулик Чироня, не бандит, не драчун, не хулиган даже. Ни под одну статью закона подвести его нет возможности. Есть, правда, закон о пьяницах, совсем недавно приняли, чтобы принудительно лечить от водки. Так ведь если по нему действовать, всю Негу под корень вывозить надо.
В лучшем случае соберется в дорогу Глохлов. Сядут они в дюральку, заведут мотор «Вихрь» и прикатят в Негу на третьи сутки. Будут ходить по деревне с управляющим отделением промхоза Иннокентием Кирьянычем, он второй год в Неге держится. Приехал гладкий, упористый, работу ладить. Теперь отощал, замаялся. Грудью страдать стал. Мужики его жалеют. Когда трезвые, даже в глаза стыдятся глядеть, обещают за ум взяться. А попадет шлея под хвост – загорчат на неделю, а то и больше, и дела никакого.
Так вот, приедет Глохлов, будет ходить он по дворам, срамить, на чем свет стоит, мужиков. Разобьет, искурочит донельзя самогонный аппарат.
– Чей он?
– Обчества! Обчественный, стал быть…
– Кто гнал?
– А нихто. Обчество.
Заколготят бабы.
– Мой гнал, – одна.
– Мой, – другая.
– Мой, – третья.
А потом рассорятся, и выходит, что один мужик другого совратил, а другой первого. Поди разберись, кто виноват.
Дня через два наведет Глохлов порядок. Собрание соберет. Иннокентий Кирьяныч скажет тихо, так жалостливо поначалу, а потом до слез в голосе сорвется, зашумит, чтоб скрыть, что лопнуло его терпение.
– Да что же это, товарищи? У всех косьба, а у нас гульба. Ни стожка сена не накошено, ни плахи дров не заготовлено. Детей бы пожалели, школу-то топить надо. Гляньте – трава что тайга густющая. День-другой пройдет, ляжет. Чем скотину кормить будем? Зимовейки по угодьям охотничьим как решето. Где зимой охотиться будете?
И долго еще в этом духе говорить Иннокентию Кирьянычу, загибая пальцы да похудевших руках: то не сделано, это, другое…
Но все впереди, все еще будет. А пока сидит Чироня на грязном полу, и тянет горлом свою песню, и плачет чистыми слезами от музыки и слов, что слышится ему в его воспаленном, душном, оглушенном мозгу. И леденеет сердце от этого голоса, и хочется бежать к Авлакан-реке, к тайге ли, к лугам ли, к людям.
Я иду от избы к избе. Будто вымерла Нега, ни души; И только гремит, рушится, терзает сердце, преследует меня в июльской знойной тиши песня Чирони.
Старуха встретилась. Прикрылась от солнца костистой, будто из глины лепленной ладонью. Пробежалась по мне стариковским прищуром глаз. «Одежа вроде бы казенная (на мне защитная штормовка, резиновые с подворотом охотничьи сапоги). Не здешний, не авлаканский. Надо быть, начальник (скользнула по пистолету-автомату, навязал мне под расписку в райотделе милиции Глохлов – в тайгу едешь, надежнее, чем карабин)».
– Нельзя ли водицы, мамаша?
– Можна, можна. Чичас, чичас. Проходите.
В избе душно. Мухи черной тучей роятся на столе, кишмя кишат плотной завеской по стеклам. На полу, раскинув руки, спит молодой парень. Лицо его, в черной шерсти, дергается, гримасничает, как у больного тиком. Пригляделся – не борода, это мухи, черные, липкие, копошатся на мокром от пота лице.
Принял из рук старушки кружку, зеленую, с побитой эмалью.
– На здоровецко.
Выпил теплую, чуть пахнущую гнилью воду.
– Может, цаю? Я чичас шправорю.
– Спасибо.
– Шпашибом шыт не будешь. Ну?
– Где люди-то ваши, бабушка?
– Мужики, которы гулят в штарых банях, которы шпать жалегли. Бабы с детишком ягоду, однако, брать ушли, которы по тайге шастут, шкот ишат.
Парень на полу охнул, то ли икнул, то ли что-то сказал во сне. Над ним недовольно загудели, заныли мухи.
– Внучок, иж армии. Отдыхает маленько, – будто извиняясь, сказала старуха.
– Где у вас тут сельский Совет или промхоз?
– Промхож у наш. Промхож эвон, на горушке. Што помене хоромена, то и промхож, а поболе – скола.
Старушка говорила быстро, извиняюще-ласково, упорно заменяя все звонкие «з» и «с» на шипящие, одним из бытующих по Авлакан-реке говором.
– Только в промхоже нынче нет никого. Иннокентий Кирьяныч ш бабами шкотину шукат.
Я не стал расспрашивать старушку, почему шукают скотину и почему, по какому случаю пьет нынче вся деревня, и, поблагодарив ее, вышел. Над деревней стояла июльская медовая духота. Тайга дышала горячими смолами, налитыми упругими соками хвои и листвы, запахами устоявшейся и начавшей подсыхать травы и чуть-чуть горьковатым дымом лесного пожара. Этот сразу неразличимый дым задернул солнце, и оно растеклось, расплавилось, будто воск, и небо лежало над землей вязкое и горячее.
Я пошел к школе в надежде встретиться с местным учителем. Вспомнилось, как советовали мне в селе Подвеличное, что в самом верховье Авлакан-реки, пройти мимо Неги.
Нега. Да как же было не зайти сюда, когда столько слышалось за этим коротким, но таким полным и объемистым словом!
По случаю начавшегося сенокоса мне не удалось найти провожающего. И я отправился вниз по реке один. Плыл и почему-то все время думал о Неге. Я даже пел какую-то светлую песенку всего с одной строчкой:
– Посмотри-ка, Нега, сколько снега…
Запись III
Снова Нега
Я уже почти что выбрался на яр и был недалеко от довольно нового здания школы, когда услышал тихий, с причитаниями, плач. У небольшого, с белыми чистенькими ставенками домика (наверняка я его видел с реки) на приступках крыльца, уткнувшись лицом в колени, плакала женщина.
Высоко поднятые плечи оголили ее шею, и в прорези глухого ворота ситцевого платья увидел я острые, как у девочки, ключицы и коричневую ямочку у горла, куда скатывались сырой дорожкой слезы. Плотно повязанный платок сбился, и на виски, под сведенные сухие пальцы, выбились русые волосы с чуть заметными паутинками седины. Женщина плакала так безысходно, так призывающе-горестно, что я не в силах был пройти мимо. Я подошел и безмолвно стоял над ней, не зная, что делать. Чувство какого-то стыда, совестливости за слезы, чувство непричастности к ее горю, жалость и нежность – все это сидело у меня в груди, в сердце, в кончиках пальцев, которыми хотелось пригладить выбившиеся из-под платка прядки волос… Я стоял, страшась того, что вот сейчас она оторвет от лица до белизны стиснутые ладони, глянет на меня полными отчаяния и злости глазами, закричит и обязательно топнет ногой: «Пошел отсюда! Что тебе-то еще надо от меня?»
И я, как побитый, как захваченный на месте в каком-то нехорошем деле, пойду прочь от ее горя, от нее самой, горбясь и негодуя на себя, что помешал женщине выплакаться до дна, до оскребышка в сердце. Буду идти беспомощный, неуклюжий, ощущая всю свою непричастность к людям, к которым тянет, влечет меня всю жизнь.
Я стоял над плачущей женщиной и смотрел на нее так, как смотрит, проснувшись в пустой комнате, ребенок, – зацепенев на мгновенье, он не может сообразить: то ли ему расплакаться сразу, то ли позвать к себе мать.
Вдруг женщина перестала плакать. Отняла руки от лица, вытерла его синим с белым прошивом фартуком и спросила, не поднимая глаз:
– Вы ко мне?
– Простите, может быть, я не ко времени?..
– Чего уж там, ко времени, – уже тверже сказала она и подняла на меня еще влажное лицо.
Там, где лежали руки, где пальцы сжимали до боли кожу, образовались красные полоски, словно бы зарубцевавшиеся раны. Она была широкоскула, чуть по-северному раскоса. Безвременные морщины, не сходящий загар от летнего пала и зимней стужи состарили лицо, и только глаза, коричневые, цвета смолистого кедрового ореха, хранили утраченную молодость.
Она нелегко поднялась с приступков. Вытерла о фартук ладони, проведя ими по едва заметным округлостям бедер, и про тянула мне правую руку:
– Нега Власьевна. Вы ко мне от кого? От Иван Иваныча?
Я, почему-то смутившись, пожал ее плоскую, шершавую, словно бы вырубленную из елового корья, ладонь и признался, что завернул сюда на плач.
– Выходит, к учителю шли. Ага? А я решила, что от Иван Иваныча – секретаря райкома нашего. Он всегда у меня стоит, когда тут бывает. Да и другие командировочные; у меня навроде почище, чем у других. Да и мокрец сюда не залетывает. Чисто тут от мокреца, а ниже, – она повела рукой в сторону убегающих под яр домов, – страсть как лютует.
Я поспешил изъявить желание остановиться у нее:
– Думаю отдохнуть денек-другой от дороги, неделю целую таежничал один.
– Ну что ж, вставайте, я не против. Проходите, – к пропустила меня вперед в узкие рубленые сенцы.
В передней горнице было чисто. По сибирскому обычаю, глухие нераспахивающиеся рамы были чисто побелены, а стекла тщательно вымыты мелом, кое-где в пазах он белел тоненькими полосками. Большой, вероятно, сработанный еще прадедами стол выдвинут почти на середину комнаты и опрятно холодел выскобленной до блеска столешницей. Две крашеные лавки со спинками (их почему-то называют в деревнях диванами) стояли по обе стороны стола и два табурета по торцам. Пол был прикрыт мягкими цветными пестрядинными ковриками, а под лавками затейливые половички из оленьих шкур. В горнице пахло топленым молоком, таежной свежестью и хлебом. Вспомнив о том, что прусь в дом как был, в сапогах, я попятился в сенцы, чуть было не столкнув хозяйку.
– Чо вы? – удивилась она, посторонившись.
– Разуюсь. Ишь как чисто у вас.
– Да какой чисто. Три дня не метено, не мыто.
Разувшись и скинув в сенцах штормовку, я снова вошел в избу и присел на диван. Хозяйка стряпала за ситцевой занавеской в маленькой кухне.
– Отдыхайте. Я чичас перекусить схлопочу чиго нито.
– Спасибо, спасибо, – только и мог что сказать и снова принялся оглядывать нехитрое убранство передней горенки.
В красном углу по обе стены были развешаны в крашеных рамках почетные грамоты и свидетельства. Убранные под стекло и развешанные так, что на них не падал прямой солнечный свет, были они словно только что снятые с типографского станка. Ярко горели на плотной бумаге знамена с тяжелыми золотыми кистями, колосились снопы, ясными были портреты Ленина и Сталина на тех, что поправее в самом углу, полевее только с одним портретом, а совсем левее только с серпом и молотом, без портретов. Одна рамка, особенно большая и праздничная, занимала весь угол, где обыкновенно стоит в старых деревенских домах икона, и, как икона, была в окладе чистого вышитого затейливым узором полотенца. Я поднялся и подошел к этой особо чтимой грамоте. С нее в ярких знаменах, в снопах зрелой пшеницы, под золотым серпом и молотом, в простом, аккуратно застегнутом френчике улыбался Сталин. «Свидетельство», – прочитал я не выгорающее золото букв. И вдруг повеяло на меня от этого хранимого документа какой-то необыкновенной свежестью, чистотой. Будто бы сохранился в нем по сей день тот детский трепет перед великим, незыблемым.
– Это первая, когда сельхозвыставку открывали в тридцать девятом, – послышался за моей спиной голос хозяйки, и я снова уловил в нем нестерпимо скрываемые слезы. – В Кремле вручали.
– Интересно, – как-то обязательно, по-казенному прогнусил я и продолжал смотреть на свидетельство, не видя ничего, только чтобы не встретиться с глазами хозяйки.
– Я тогда из нашего угла в Москву два месяца добиралась. Все-все впервые видела – и пароходы большие, и поезда, и дома каменные, – она тихонечко позвякивала посудой, накрывая на стол, – а было мне тогда пятнадцать. Правда, председатель наш два годочка накинул. Прошло. Я рослая была, спелая. Никто меньше восьнадцати мне и не давал. Я с четырнадцати лет в доярках и по се время. Ох, ежели вам рассказать, чо в Кремле-то было. Чо было-то, чо было, – вдруг как-то задористо, по-молодому выкрикнула она и неожиданно горько: – Неучена. Не расскажешь.
– Простите, вас так и звать Нега Власьевна? – спросил я ее, когда мы, отобедав свежеприсоленной рыбой и кислым молоком, пили чай.
– Меня все Негой зовут, без отечества. Так и вы кликайте, – не поняла она вопроса.
– Нет, я не о том. Деревня у вас – Нега, и вы тоже…
– А, вот вы о чем! Это имя наше – здешнее. Корень наш еще от казаков. У нас и речь своя. Слыхали, верно. Только я после тридцать девятого года много на разных слетах и съездах бывала. От речи-то своей отбилась. Одно только, что гладко говорить стала, а так всю жизнь у коровьей сиськи. Я и сейчас план даю.
Она положила на столешницу свои натруженные, словно бы еловым корьем покрытые руки, с сильными бугроватыми в суставах пальцами и вдруг заплакала так же безнадежно и горестно, как давеча на ступеньках крыльца.
Я растерялся, безнадежно силясь найти какие-то только ей нужные слова, чтобы поняла – не напрасно прошла жизнь; вот такие, как она, выволокли на своих плечах всю тяжесть лихолетья, кормили и обогревали солдат невиданной на свете войны, обули, и одели, и снова накормили голодную, голую, истерзанную пожарищами битв, свою, да и не свою, землю, и до сих пор еще несут на плечах трудную обязанность матерей и кормилиц. И каждый, кто понимает, что добрый хлебушко и хрустящая в румяной корочке булочка и самое что ни на есть деликатное пирожное создаются не в белой кафельной электрической печи фабрик-кухонь и заводов, не среди крахмальных халатов и снежно чистых цехов, а вот тут, этими вот коричневыми, жесткими руками, каждый честно, умерив и осадив в себе горделивость и никчемную спесь, каждый обязан поклониться ей, как богине, потому что нет на земле более святого, более достойного поколения, чем она – терпеливая, многострадальная русская баба, – жизнь продолжающая и творящая.
Я думал об этом, а Нега плакала, чуть отвернувшись от стола и собирая слезы кончиком платка, как это умеют делать только наши деревенские женщины.
И вдруг жалость, не сравнимая ни с какой рассудительностью об уважении и величии Человека, защемила мне сердце, и я почувствовал, что тоже могу заплакать. И как ни странно, от этой человеческой жалости стало мне легче, что, дескать, я понимаю, жалею ее и готов разделить слезами, по крайней мере, ее печаль. И еще сознание того, что не утратил этого вот чувства и, может быть, один среди эгоизма и черствости друг к другу так вот чисто могу жалеть далекого человека, согрело меня. И кажется, те самые нужные слова родились в душе, и я понимал, что от них станет легче Неге.
– Не надо плакать, – как можно ласковей сказал я и даже потянулся к ее руке.
– Да как же не плакать-то?! Как не плакать-то! Коровок жалко…
– Почему коровок? – немало удивился я.
– Вторые сутки пошли, как не доены. Я ног лишилась, днем и ночью по тайге металась, кликала. Вернулась в деревню, а их все нет. Четверта дойка подходит, а их нет. Как же не жалеть? Жалко-о-о…
Не знаю, было ли когда-нибудь так стыдно мне, как в тот момент, когда я, готовый пожалеть ее, вдруг услышал причину горя. Не себя, коровок жалела она, как можно жалеть только родное дитя, кровного, близкого тебе человека. «Коровок жалко!»
– Пастух наш, бесстыжие его глаза, угнал стадо в тайгу, потерял, напившись до гыка. Лошадь самого к вечеру приволокла в деревню, по сю минуту пьян. Мы на вечернюю дойку приплыли – нет стада. Заладились искать. Бабы по теми вернулись, а я до солнышка по тайге металась. На утро в деревню – нет коров. Собрала наших доярок, скотниц, Иннокентия Кирьяныча – завотделением – и снова в тайгу. Перед вашим приходом возвернулась, сейчас заново побегу. Жалко ведь коровок-то, горит у них молочко. Не ровен час – захворают.
Я высказал предположение, что коровы сами должны выйти.
– Оно конечно, выйдут. Да когда? Может, их зверь застращал, ушли далеко. Четверта дойка подходит. Вы уж извиняйте, побегу я, нет мне покою.
– Я с вами, Нега Власьевна.
– Заблукаете один-то. А вдвоем рядом нет никакой пользы бродни трепать. Отдыхайте, в горнице я постель постелила, а ежли жарко – лягте на полу, перинку с постели снимите и лягте.
Она было уже подалась к дверям, но замерла, приложила руку к сердцу, чуть откинув настороженно голову, и вдруг охнула:
– Пришли, пришли. Слышите, плачут?
Она так и сказала – плачут. Где-то под яром тягуче и жалобно мычали коровы. И, слушая их, я вдруг вспомнил, как мычали коровы на дорогах сорок первого года, как шли они некормленые и недоеные, заглушая своим ревом людское горе. Страшно услышать, как плачет доброе, мирное животное, увидеть, как катятся по теплым коровьим мордам слезы.
Нега убежала. И через несколько минут до меня донеслось уже совсем другое мычанье. В нем звучала надежда и, честное слово, радость. На миг я представил, как коровы тычутся мокрыми губами в ее тяжелые руки. И каждой из них она закладывает за мягкую губу сладкий мякишек печеного хлеба. Я и не заметил, когда прихватила Нега со столешницы каравай.
А потом я сидел на диване, отвалившись спиной на жесткую спинку, и считал грамоты, развешанные в красном углу. Их было ровно сорок три, столько же, сколько лет моей хозяйке.
Запись IV
Главный по скотной части
Я стучался в маленький, аккуратно срубленный подле школы дом. Дверь была закрыта изнутри, но на стук никто не откликался. Я обошел вокруг. Четыре окна без наличников и ставенок наглухо закрыты газетами. Снова вернулся на крыльцо и снова постучал в дверь.
– Напрасно стараетесь, не отворится. – Позади меня стоял мужчина. Он, вероятно, спал где-то в теньке, и стук мой разбудил его. Лицо изрядно помято, веки подпухли, год глазами мешки. – Не, не откроется. Он у нас ученый, целыми ночами пишет, а днем налимом дрыхнет. Избу поджигай – не проснется. Одного карасину сжигает бочку в месяц. Карасин-то казеннай, школьнай, чего жалеть. Куревом не побалуешь?
Мы присели на бревнышко в тень подле школы.
– Один иль с начальством нашим?
– Один. Иду по реке в Буньское.
– Далече. На моторе?
– Пока на веслах.
– Далече до Буньского-то.
– Отсюда на моторе пойду.
– Ну, это ладно.
– Что у вас деревня-то гуляет? Праздник?
– А у нас завсегда праздник. Народишко тут дерьмо. Пьяницы все. Мы вот приезжие. Скоро год, как сюда забрались. Таково не видывал нигде.
И хотя от него изрядно разило винищем, и руки ходили трусцой, с трудом удерживая самокрутку, он начал пространно и основательно осуждать пьянство, корить местных.
– Водка в каждом дело отрава, – солидно закончил свой рассказ. – Видимо ли дело – в страду четвертый день пьют. Ужасть, прямая линия нарушения всякой законности.
– А вы нынче где работали? – поинтересовался я.
– Я-то? Толичко из тайги. Я навроде сейчас за главного по скотной части, – осклабился, кинул на землю окурок, ловко плюнул на него, растер сапогом. – Я пастух.
– Что же, стадо из тайги пригнали?
– Паут одолел. Скотина побесилась. Вроде бы на отдых пригнал. Скажу вам откровенно: скот тут весьма бесполезное занятие. Так, для работы рук держат. Ну, ребятишкам молочишко. Никакого с этой твари рентабельства.
– Говорят, что тут лучшая по всей Сибири сметана. Травы здесь особые.
– Смятана, оно да – ложка стоит. А насчет травы не скажу, трава она везде растения. Было бы поболе. Потравили в округе-то. Конечно, за рекою пастбищ много. Но большие неудобства. Плавить скот надо, а некому. Пьяницы кругом…
Мы еще недолго поговорили с пастухом и разошлись. Я пошел вниз к реке, где на луговине виделись похилившиеся срубы коровников, он направился по ту сторону яра, вероятно, к старым баням.
Запись V
Такой вот хартус…
Дедушке Луке Спиридонычу восемьдесят четыре года. Сидит он на низко пиленном кедровом чурбачке, сучит дратву, латает бахилы. Чурбачок служит «креслом» ему не первому. Седельцем высидели в нем предки углубление, так что удобнее венского стула чурбачок. Работает дедуся без очков, проворно, легко.
Лицо у Луки Спиридоныча бритое, без единой щетинки, голова стрижена, с мелким впросолонь волосом. От мочки левого уха к правой негустой брови по всему черепу лег глубокий рваный шрам.
Сидит дедушка прямо, не горбясь, спина лопатой, по шее, щекам, у висков и глаз кожа собрана в мелкую, не дряблую, упружистую морщинку. В углах губ глубокие бороздки, оттого что постоянно сосет Лука Спиридоныч крохотную, до черноты обуглившуюся трубочку.
– Спрашиваешь, встречался ли я с медведем? Ну а как же не встренешься с ним, коли его жизнь в тайге. Сколь было, теперь и не упомню. Третий раз, когда с им встренешься, ило он тебя погубит, ило ты. Это уж беспременно. Иначе быть не может. А вот у меня на сороковом как вышло. Пошел капканья ставить по Тунгушонке. Собаки залаяли это километрах в трех. Пошел туда. Слышу: гу-гу да гу. Решил – сохатый. При мне, конечно, тозовка, вот таканька пальмичка, для посошка. Подхожу. Полный рот пуль набрал. С ноготок всего снежку, ночью бусенец прошел, чуток прибелил землю. Глянул я по сторонам. А он вот он, ух какой, паря, слежище. Медведь. Он же голоднущий. Учуял и летит на меня. Слышу, как ломится. Он летит, собаки по сторонам. Вымахал на задни лапы. Вижу, шерсть у него как сквозняком шарахает, сердце, значит, молотом ходит. Я – чик туда ему. Осеклась. Расстроился, ничего не вижу. Ни дерева толстого, чтобы хотя б на миг упрятаться, ни пальмы… А вот она. Тозовку бросил и пальмушку хвать. Он хотел с головы взять. Ухо надорвал, – дедушка Лука, увлекшись, отложил работу, поддел левую мочку скрюченным пальцем, повел по черепу. – По правому глазу вывел. Кровь хлещет. Оботрусь: где медведь, нету яво. Не живой ли? А он три перевертки сделал, тут и лег в пласт. Я скорей успел – в само сердце пальмичкой угадал. А покамест не знал, жив ли, нет ли? А ежли матка? Тогда ишо с парнишами драться. А кровиша с меня так хлешет, так и хлешет. Пораскинул умишком – навроде мертвый. Взял ножик, разрезал брюхо. Глянул: господи, господи, сала-то сколько, это тебе, Лука, на похороны, стал быть, столько салиша, что на него однова человека похоронить можно. Заладился к дому. Однако, километров тридцать – сорок идти. Соберу пригоршней снежинок, думаю, на голову под шапку, а шапки-то и нету…
– А ружье-то, дядя Лука, с тобой? – перебиваю я.
Лука Спиридоныч как несмышленышу:
– Разе я ружё брошу? Однако, прошел до зимовенка десять километров от медведя. Тут и собаки на мой фарт прибежали, бросили зверя теребить. Иду, подсохло вроде на голове-то, в сон клонит. Шлеп-шлеп броднями, и так это меня вдруг поведет да поведет. И будто бы сладкий голос: ляг, Лука, отдохни, ляг, я тебя покрою. Ан нет, думаю, шалишь. Покрывать меня, матушка, рано. Это, стал быть, тайга меня зыбит. Пришел на дом. Мокрый, что баран резаный, в крови. Сына вышепчиваю, чтобы мать не пугать: «Глеб, иди сюда».
Вышла из кухни Анна Ивановна, жена Луки Спиридоныча, сцепила под грудью полные, все в мелкой сеточке морщин руки. Включилась в рассказ.
Сердце у меня залилось. Слышу, мой-то пришел, должон на шестые сутки ходить, а вот он, ночью.
– Не пужайся, мать, меня медведь подрал, – словно бы в пьесе, вставляет реплику Лука Спиридоныч.
– Да что же это?! Да какжеть это?! – всплеснула руками Анна Ивановна. – Я к ему. Вздула огонь. Закалело все на нем. Не вспух ли, Лука?
– Не вспух.
– Наутро вертолет припыхал. Увезли в Буньское. Там с носилками ждут. А он своим ходом сиганул да в полуклинику, тропочкой для укороту пути через тайгу. Валентин Степанович, хирург, встречает: «Ну что, медвежьи объедки, сам пришел?» Было это в сентябре, как, однако, три года прошло. Ходил на ондатру ставить капканья. На след день наши за медведем поехали. Он им говорил: жирнющий, дескать, сала-то на похороны хватит. Приехали, глянули – худющий, на нем крохи жиру не было.
– Вот те и сало. У меня, стал быть, по тому времени в глазах побелело. А вокруг – во, кака сосна стояла, не обхватишь, а я их-то и не приметил. Ежли бы она, – Лука Спиридоныч машет рукой в сторону тозовки, что висит на стоне, – лунула, тут я его и уложил. Вот такой хартус. Ешо скажу тебе, паря, от медведя не пялься. Коль шаг сделал назад, он на тебя попрет.
Лука Спиридоныч снова берется за работу.
Я рассматриваю семейные фотографии. Они занимают весь простенок от окна к окну. В двух громадных, крашенных охрой рамах свадьбы, похороны, старики, дети, солдаты, офицеры. Рядом с Лукой Спиридонычем, что чинно восседает на завалинке, положив на каждое колено по ладони и удивленно и ждуще устремив глаза в объектив, портрет-открытка Инны Макаровой, а в соседстве с бравым капитаном (сыном старика) – старший лейтенант Гагарин. В отдельной резной рамке, в простенке красного утла над тумбочкой, прикрытой кружевами, фотография молодой, очень красивой женщины. Гладкая прическа, коса переброшена через плечо и по груди сбегает на колени. Большие глаза, тонкие черты лица, крохотная родинка над чуть пухлыми в улыбке губами. В портрете столько чистоты, столько открытого людского доверия и доброты, что нет сил, чтобы не позавидовать ей, неизвестной. Снята женщина, вероятно, в конце прошлого или в самом начале нынешнего века.