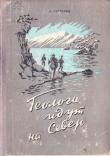Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Алексей Николаич, кушать подано.
Комлев подвинул котелок с кашей, с густо замешанной в ней свиной тушенкой, сел, по-восточному поджав ноги, и вдруг сморщился вроде бы от неожиданной боли.
– Ого, нынче гречневая.
Ели из одного котелка, соблюдая очередь, степенно, без разговоров. И чай был нынешним утром на славу – душистый, чуть-чуть вяжущий от распаренной кислицы. Пили много, чтобы хватило на весь день, чтобы не застала жажда на ходу.
Нынешний день не обещал Комлеву ничего хорошего. В маршруте он должен был отбирать металлометрические пробы, бить шурф, делать береговую расчистку – работу эту он не любил. В таких маршрутах мрачнел, становился раздражительным. Другое дело, когда предстояло шлиховать, отбирать самые дисперсные «хвостики», с утра до вечера полоскаться в ручьях и реках. Тут его никто не мог перещеголять.
– Моя стихия – вода, – говорил Комлев, выбивая дробь на легком, лаково отполированном лотке.
Был Комлев действительно экстраклассным шлиховщиком, другого такого не сыщешь. За этот талант брали его в любую партию, где предстояли работы на ручьях и реках. В экспедиции Николай Борисович Комлев появился давно, около двадцати лет назад. Тогда он был молод, красив в своей необыкновенной бороде. Очаровал ребят лихой игрой на гитаре. Пел Николай чужие песни, выдавая за собственные:
Словно глупый ребенок,
Я за сказкой пошел.
Золотой самородок
Я нигде не нашел.
Никого не осталось —
Ни друзей, ни врагов.
Моя жизнь затерялась
Среди белых снегов.
Жизнь его, такая вот веселая, с гитарой, с необычной по тому времени и нещадно критикуемой всей общественностью бородой, действительно как-то затерялась. Он очень быстро превратился в этакого пустослова-чудака, к которому в общем-то все относятся несерьезно и держат только за удивительный талант шлиховщика. К тому же в те далекие годы Комлев обнаружил еще одну способность – говорить в рифму. Пошло это от придуманной им скороговорки: «Вы не Настя, но все-таки здрастя. Вы в Италии бывали? Едва ли. Но у вас костюм в полосочку! Одолжите папиросочку?» Как хорошего мастера взял его четыре года назад в свою партию Многояров.
Позавтракали, сняли палатку, уложили рюкзаки, залили костер и поднялись на береговой скалистый срез, в тайгу. Подъем был трудным. Пришлось, вжимаясь в камень, выискивать пальцами каждую трещинку, каждый крохотный надлом и выступ. Впереди Многояров, за ним Комлев. Всего каких-то двести метров подъема по прямой, но ушло на него два часа. Уже возле самой вершины, где корни деревьев, порушив камень, вызмеились, внахлест обняв скалы, Комлев почувствовал, что нога, на которую только-только перенес всю тяжесть тела, потеряла опору и медленно, очень медленно поползла по камню. Каждой клеточкой своего тела ощутил он это движение, а ощутив, понял разом – это все – это смерть. Руки, занесенные высоко над головою, сами по себе нашаривали опору. Царапая и обжигая кожу на ладонях, неумолимо уползал вверх гладкий камень скалы. Сухо, и тесно стало во рту. Комлев лежал на крутоспадающем взгорье и слышал, как глубоко внизу, в таежной низине, плещется и хохочет на перекате Авлакан.
«Разобьюсь, найдут, – высверком пронеслось в мозгу. – До смерти не убьюсь, все равно найдут… Пропал… Крышка…»
Он пытался вжаться в камень, приклеиться, пристыть…
Каким-то только ему присущим чутьем Многояров угадал опасность. Ухватившись за корень, сдвинув рюкзак, он повернулся на спину.
– Держись, Коля!.. – И обмяк, повис на руках, вытянув к самому лицу Комлева ногу. – Держись!.. Хватай сапог!.. Ногу хватай! Ну!
До предела напряглись мускулы, налились кровью глаза, отчаянно заныли скулы (Комлев удерживался и подбородком), бросок… Нет, не бросок, короткий, отчаянно трудный мах руками.
И – снова движение, только теперь камень медленно уползает вниз. Шершавое тепло кирзы в ладонях. Сведенные судорожной хваткой пальцы. Перебирая ногами, находя опору, Комлев все ближе и ближе подтягивался лицом к шершавой кирзе сапога и наконец прижался к ней щекой, обняв ногу Многоярова.
Во рту по-прежнему было сухо и тесно, две слезинки скатились по щеке.
Выбравшись на вершину, заметили, что солнце поднялось над тайгою. Снова парило. Растирая ногу, Многояров пошутил:
– Чуть было с корнем не выдернул.
Комлев ничего не ответил, лежал, окунувшись лицом в сухую траву, плечи его дрожали, шевелились крупные уши – он всеми силами удерживался от подступающей к горлу тошноты.
– Чертова горочка, – хрипло, стараясь не выдать слез, сказал Комлев.
– Бывает хуже, – ответил Многояров.
– А я ведь, Алексей Николаевич, мог вас поздравить с трупом, – голос прозвучал отчужденно, с надрывом.
– Ладно уж, – Многояров тронул Комлева за плечо. – Кури, – протянул свой кисет.
Комлев взял кисет, все еще не оборачиваясь к Многоярову, присел, скинув с плеч рюкзак. Многояров попробовал свернуть папиросу, волглая бумага расползалась, и махорка сыпалась на брюки.
– Бумага есть у тебя?
– Есть, – Комлев протянул газету, разрезанную и сложенную в аккуратную книжицу, и снова прилег. Прилег и Многояров, подставив солнцу, «на просушку», мокрую спину. Молчали долго, пока не выкурили цигарки «до губ».
– Надо бы воды во флягу набрать, – сказал Многояров, приподнимаясь, но Комлев опередил его, быстро вскочил на ноги.
Фляжка была одна на двоих, Комлев пошел вдоль скального среза к развалу, по которому, прыгая и пенясь, падал ручей, над срезом три натоптанные медвежьи тропы. Одна из них проходила по самой скальной закраинке, до мелочей повторяя контур обрыва: медведь, как бы испытывая себя, проходил, видимо, над пропастью, открыто и гордо. Другая тропа лежала в полшаге от первой и была натоптана лучше, третья шла меж деревьев.
Чтобы наполнить фляжку, пришлось немного спуститься к месту, где ручей бегучей струей падал с ровных, оглаженных плит. Подставив под струю горлышко фляги, Комлев посмотрел туда, где совсем недавно лежал он, распластанный, беспомощный, сползающий по гладкому взгорку скалы.
И тут страх охватил его. И он, целиком отдавшись этому чувству, ощутил вдруг пустоту внутри себя; задрожали ноги, дурнота подступила к горлу, и он мешком опустился на камни. Такого еще никогда не было. За все долгие годы работы в экспедиции только нынче почувствовал Комлев реальную опасность, угрожающую жизни. Он вдруг понял, что все эти годы угроза потерять жизнь всегда была рядом, следовала по пятам, в любую минуту готовая разразиться крахом. За это долгое время он не раз видел чужую смерть. Даже привык к этим смертям, не раз участвуя в поисках пропавших в тайге. Однажды он сам нашел труп не вернувшегося на базу геолога. И был удивительно горд этим. Долго потом рассказывал в подробностях о находке: «Меж камушками лежал. В расщелинке узкой такой. Сто человек мимо прошли и не заметили. Я отыскал. Забежал по нужде за скалу. Мяса оленьего объелся, – с лихой циничностью рассказывал он. – Забежал. Сижу, глядь, передо мной мысочек сапога, ну самый маленький. Справился. Глянул в расщелину, коряжкой поворошил – он. Порченый уже был, но по зазимку запах-то не оказывал. А так разве найдешь, вот ведь куда заполз – в щелку каменную. Насилу вытащили…»
Его слушали молча, не расспрашивали. Качали головами, и на лицах было одно – глубокая неподдельная печаль, скорбь об ушедшем, и только.
Любил Колька рассказывать об этом в Москве и, распалившись от сознания необычности рассказа, всегда с жаром все испытавшего человека завершал: «Вот какова наша жизнь! Каждый день за плечами Сама с косою! Вот на что идем, сознательно идем!»
Но сам этих слов не принимал всерьез, считая, что с ним такого произойти не может. Почему? Нет, не задавал себе такого вопроса. И вот только сегодня, сидя на мокрых камнях, растерянный, пустой, словно из него, как из мешка, вытряхнули все содержимое, вдруг отчетливо осознал и даже реально почувствовал угрозу своей жизни, как будто эта угроза стояла за плечами. И Комлев, робея, опадая сердцем, пересиливая страх, оглянулся.
«Неужели могло?»
Солнце катилось над тайгой, обирая с хвои и травы влагу. Шумел, упруго сбегая с плит, ручей. Многояров сидел на юру в пятидесяти метрах, в обычной своей позе, склонившись над раскрытой тетрадью. Комлев бессознательно смотрел на Многоярова, не ведая и не понимая его. Геолог поднял лицо от страничек и, задумавшись, долго смотрел поверх каменного развала, туда, в ясную даль над головою.
А Комлев уже медленно приходил в себя. Страх оставлял, и чем дольше смотрел он на Многоярова, тем спокойнее и полнее становилось на душе.
«Нет, Алексей – мужик классный. За него надо держаться. С ним надо держаться», – думал он, наполняя водой фляжку. Руки Комлева заметно тряслись.
Многояров сидел все в той же позе, привалившись спиною к деревцу. На коленях лежала раскрытая карта. Над ним в огненно-рыжей, но все еще густой хвое лиственок стрекотали и суетились птицы. Их было много, и крик их был громок.
– Чего они? – спросил Комлев.
– Гаички. Мы с тобой на самую медвежью лежку выползли. Они с миши всякую живность обирают. Ищутся в шкуре. Они нас поначалу за медведей приняли. А теперь вот кричат, недовольные. Пора, Николай, запозднились мы нынче. Давай карабин-то мне. Мешает. Говорил – не надо брать. Не послушал.
– Да уж сам я, – отмахнулся Комлев, приноравливая на спине мешок.
Медвежьей тропой они ушли в тайгу. Шли молча. Многояров считал про себя шаги, от одной точки до другой, от одной записи до другой, и так – день, два, десять, месяц, три, весь полевой сезон. По бурелому, по колоднику, по болотам, чащобам, стланикам – каждый шаг на счету. Сколько сделано этих вот шагов, по тайге, тундре, пустыне? Сколько сосчитано их среди голых скал Памира, Тянь-Шаня, в диких развалах, заросших щетиной тайги Джугджура, тут, в Авлаканской тайге… И так всю жизнь, от крохотной точки на карте до другой точки, от одной записи до другой.
Многие из однокашников Многоярова – кандидаты, доктора наук, «остепенились», сидят в министерстве, и главках, читают на кафедрах, а он после защиты кандидатской диссертации не остепенился.
Комлев брел за Многояровым след в след, копируя его походку, и дремал на ходу. Эта редкая привычка доставляла много веселых минут ребятам в маршрутах. Над ним смеялись, строили каверзы, он не обращал внимания, находясь как бы в летаргии.
Комлев не то чтобы действительно спал, он обладал редкой способностью ни о чем не думать во время ходьбы. Внимание сосредоточивалось только на движении, на том, чтобы не упасть, не споткнуться, не налезть на сук. Обычно он становился как бы одним целым с впереди идущим, его продолжением. Это дремотное хождение за спиной во многом облегчало трудные маршрутные километры.
Нынче Комлев долго не мог погрузиться в это состоящие. Ему казалось, что опасность, которую так явно почувствовал там у ручья, до сих пор висит за плечами. Раздражало еще и то, что потаенный ремень, охватывающий его крестец, бедра, ослаб в пахах и натирал кожу.
Кончился ельник, вильнула и ушла в сторону хорошо натоптанная медвежья тропа.
– Шли как по улице Горького, – сказал Многояров, не сбрасывая рюкзака, сел, сдвинул на колено полевую сумку, достал карту, сказал: – Возьми образец.
В душе негодуя, на что – и сам не мог понять, но внешне оставаясь спокойным, Комлев скинул рюкзак, принялся сначала молотком, а потом руками сдирать упругий слой мошевины. Закопушка получилась глубокой, но, кроме живых корней, мха и перегнившей падалицы, под руки ничего не попадалось. Комлев вынул из мешка штыковую лопату, вырубил черенок, насадил его и стал копать. Копал осторожно. Лопата была сделана специально для отбора проб при шлиховании, края к черенку была сильно закруглены. Служила лопата Комлеву уже многие годы, и он берег ее.
Все время, пока Комлев копал, Многояров писал.
«Хорошо тебе карандашиком чик да чик, – с досадой думал Комлев и тут же тушил это чувство, понимая, что Многоярову ничуть не легче в маршруте, чем ему. – Да ладно. Он мужик фартовый, классный… Спас меня нынче… А рюкзачина у него потяжелее моего, – уговаривал себя, но в голову лезло другое: – А коли найдет месторождение, золото к примеру, вон оно как перло все эти дни, премию загребет. А мне – Карле, который корячится, шиш. Ишь ведь дотошный – то ищет, чего не терял… Всегда так – им все, нам – ничего…»
Шурф получился глубоким. Рыть было трудно. В пахах жгло огнем. И все-таки добрался до каменного выхода. Сел, отдуваясь, вытирая тяжелый пот с лица, подумал: «Надо было с реки пару камней захватить. Что там, что тут одинаковы они, а так и пупок сорвешь». Покурил, выбил молотком сырой ноздреватый песчаник, вылез из шурфа, протянул два образца Многоярову.
Тот, никчемно глянув на камни, разбил один из них молотком и выбросил, на другой даже не глянул, пропустил меж пальцев и отряхнул ладони.
– Попусту, значит, копал? – буркнул Комлев.
Не ответив, Многояров, снова склонившись над тетрадью, стал безразлично напевать:
– По-пусту, по-пусту. По-пусту, по-пусту.
Досада душила Комлева. Он ненавидел сейчас Многоярова. Все было вызывающим в облике геолога, но особенно крупная родинка у правого уха. Это коричневое пятнышко с белесым колечком волоса всегда было неприятно Комлеву, а сейчас будто бы нарочно лезло в глаза. «Ишь ты, в родинках, счастливый! Хоть бы волос остриг этот! Тошно глядеть!» Он лег в траву. Земля была холодной, и злость немного поутихла. «Будто я ему и не человек, будто и нет меня здесь».
Многояров, кончив писать, спустился в шурф, повозился там недолго, оглядывая стенки и обстукивая дно, присвистнул.
– Если на каждой точке по такому шурфу бить, немного мы пройдем сегодня.
Вылез, отряхнул с колен мокрую землю, поднял на плечи рюкзак.
– Двинули, Николай!
Комлев мигом вскочил, нашаривая еще с закрытыми глазами рюкзак. Многояров пошел вперед не оглядываясь.
Снова остановились на голой вершине сопки. Тут песчаный плиточник был рассыпан меж белого налета ягеля – нагибайся и бери образцы.
– Куда дальше двинем? – спросил Комлев.
– А вот на ту сопочку. До ключа Тунгус, там и заночуем. А утром к реке и по ручьям со шлихами пойдем. Придется руки-то тебе, Коля, поморозить…
– Сделаем, – Комлев поглядел туда, куда указывал начальник, потом мельком на карту. Маршрут их, прочерченный на двухверстке, лежал поначалу по склону сопки, потом по громадному коричнево-желтому болоту – калтусу, в ржавых окнах гнилой воды, по зарослям стланика и ползучей березки. Все это просматривалось отсюда, сверху, уменьшенное и чуть затушеванное далью, зыбкими испарениями, поднимающимися с болот, и солнечной пылью.
К истоку ключа Тунгус был и другой путь – легкий, доступный. Это сразу увидел на карте Комлев, стоит только снова подсечь медвежью тропу и, не теряя ее, по водоразделу, минуя болота, выйти к намеченной ночевке. Но Многояров из всех маршрутов выбрал этот, самый трудный, самый что ни на есть непроходимый. Он шел туда, где наверняка никогда не ступала нога человека. Именно там, так казалось Комлеву, в этой желто-коричневой чуме болот должно произойти что-то страшное, непоправимое.
«Сказать об этом Многоярову! Просить, уговаривать, чтобы не шел туда! Нет, не послушает. Хоть плачь, хоть ложись, хоть вой волком. Пойдет молча один вперед. И ты, страшась одиночества, шелудивым щенком побежишь за ним. И потому будешь, заискивая, заглядывать ему в глаза, зализывать свою вину. А он будет идти и идти вперед, не обращая внимания, словно и нет тебя рядом, словно ничего и не произошло…»
Комлев удержался, не попросил Многоярова идти другим маршрутом, а удержавшись, вдруг почувствовал в себе животную, темную тоску. Он шел покорно вперед. Засаленный многояровский рюкзак мотался перед глазами, и Комлев вместо того, чтобы настроить себя на обычную полудрему, думал о том, что заставляет Многоярова так работать. За ним никто не следит, никто не может проверить его, как и каким маршрутом шел геолог, и что для поиска, для составления геологической карты какой-нибудь один маршрут. Ничто не изменится от того, заложит ли начальник партии на километр или полтора маршрут в сторону от гиблого места. А он закладывает в самом что ни на есть гиблом месте. Зачем это ему? До славы он неохочий. Деньги те же. Зачем? Уж коли надо ему знать, чем болота пахнут, – пошли любого геолога, проложив ему маршрут. На то ты и начальник! Пусть телепаются, на то они и подчиненные, чтобы начальству угождать. А то что ж это получается, все сам да сам…
Шли калтусом – неохватно-широким болотом, с редкими островками густо растущих чахлых лиственок, с частыми, словно бы оспины на старческом лице, ямами озер. Эти, совсем небольшие озерца поблескивали среди жухлых зарослей; берега их будто втекали в воду, растворяясь в ней, и ядовито зеленели. Ступи на такое вот прибрежье – и канешь в зловонную пучину. Над калтусом, опыленным жарким солнечным светом, звенела тишина. Этот звон, надоедливо утомительный, был бесконечен и пронзителен. Шли тяжело, поминутно выверяя дорогу срубленными стежками. Податливая почва легко оседала под сапогами, спружинивала. Болели икры, ныла спина.
Остановились на крохотном твердом островке. Садясь, Комлев сморщился так же, как утром. И Многояров снова заметил это. Закурили. Комлев прилег в сухую, пыльно потрескивающую траву.
– Николай, обойди островок. Сделай две закопушки, – сказал Многояров, пристраивая на колене тетрадь. – Возьмешь две металлометрические…
Не ответив и даже не взглянув на Многоярова, Комлев поднялся и раскорячисто пошел прочь. Промокшая, потная гимнастерка прикипела к спине, обозначив худые лопатки и и под каждой из них густую бороздку выступившей соли.
– Николай! – позвал Многояров.
Комлев остановился, постоял, горбясь, нехотя оглянулся.
– Что с тобой? – Многояров указал пальцем на согнутые, широко расставленные ноги Комлева.
Тот вздрогнул, заметно бледнея лицом, выпрямил ноги, растерянно, не то чтоб улыбнулся – осклабился, пробормотал теряясь:
– Грызь у меня вышла, Алексей Николаевич.
– Чего раньше молчал? Сказать надо была. Отправил бы тебя с майором…
– А как же шлиховать? – нежданно выкрикнул Комлев.
Многояров улыбнулся.
– Шлихи, шлихи, – сказал он. – А если свалишься, что делать будем?
– Не свалюсь, Алексей Николаевич, не свалюсь, – Комлев прижал руки к груди, и глаза его влажно наполнились преданностью. – Мне бы только отсюда выбраться. Уж больно мягко идти. С ней-то тяжело, калтусом… А там, – он махнул рукою за сопки, – вправится.
– Вправится, – недовольно проворчал Многояров. – Надо было тебе по водоразделу пойти. Вышел бы к истоку ключа. У Тунгуса и ждал бы меня. Я один бы прошел тут. Эх, чудак, чудак!
Многояров как-то совсем по-домашнему журил Комлева, а тот стоял, виновато опустив голову, все пытаясь вставить слово.
– Ладно, Николаич. Я пойду, – повернулся и, заметно косолапя, скрылся в ветхом чащобнике.
– Стежок возьми, в чарусь угодишь!
– Тут вырублю.
По-прежнему было ясно в мире. Солнце стояло в зените, осыпая калтус солнечной звенью, но из-за окоема уже надувало облачками. Они, табунясь, сбивались в темную тучу. День был заметно холоднее вчерашнего, и даже на калтусе ощущалось, как дышит Север. Остывая после ходьбы, мерзла спина, и по ней пробегал озноб. Многояров сел так, чтобы солнце чуть просушило взмокшую гимнастерку, раскрыл рюкзак и стал разбирать его, откладывая в сторону носки, запасную тельняшку, теплое белье, свитер, шапку.
Комлев, зайдя в чащобник, остановился прислушиваясь. Было тихо, и только надоедливо и нудно звенел покой мертвого калтуса. Не спеша отпустил ремень, расстегнул брюки, спустил их на колени и, сторожко поводя головою, зашарился по гашнику кальсон, спустил и их, обнажив тощие ноги. Оголившееся тело было призрачно-белым, давно не видавшим солнца, с черной опояской по крестцу, бедрам и пахам. В пахах опояска до крови стерла кожу. Комлев туже стянул ремешки в надбедрии, заложив ранки лоскутками порванного носового платка…
Выйдя из листвяка, Комлев вздрогнул. Прямо перед ним парило кровавой дымкой озерцо. Из озерца, отразившего бездонь неба, смотрели два больших мучительных глаза. Ужас сдавил череп.
Сохатый, высоко откинув красивые рога, застыл в аспидно-черной гнили. Только сейчас заметил Комлев, что в озерце нет воды. На черной зловонной глади вспухали и лопались, словно гнойники, пузырьки. Зверь вдруг тяжело простонал, и дрожь прошла по его телу. Холод ожег затылок, и Комлев, пятясь, подумал: «Вот и я так когда-нибудь».
Повернувшись, он кинулся прочь от этого места, спиной ощущая взгляд выпитых орланами глаз сохатого и, кажется, снова слыша трудный его стон.
Комлев сделал несколько закопушек, отобрал пробы грунта и вернулся к Многоярову.
– Вот, – сказал Многояров, – вещи эти возьмешь в свой мешок. Мне давай все – образцы, консервы, крупу, прибор, радиометр тоже мне и карабин… Пойдешь налегке.
– Да зачем, Алексей Николаич? – запротестовал Комлев.
– Никаких! Делай что говорю!..
– Да как же так?! Как же – одному все, другому ничего, – бормотал Комлев, развязывая свой рюкзак. – Так нельзя!
– Можно. Что с пробами?
– Отобрал. Там вот озерцо черное, вонючее. В нем сохатый завяз. Вроде б еще живой…
– Как живой?
– Ну да. Только глаза у него побиты и сам уже на издыхании.
– Где это?
– За листвячком!
Многояров взял карабин и, неся его на опущенной руке, ушел в чащобник.
Гулко, на весь калтус, грянул выстрел, и эхо еще долго катало его от лиственничного сколка на болоте до тайги и обратно.
Как ни пытались выйти на дневку в тайгу, пришлось зашабашить среди болот, на сухом островке. Поискали пригодную для варева и питья воду, но не нашли. На малом огне вскипятили чаи, аккуратно слив воду из фляжки в котелок. Каждому пришлось по кружке. Пили экономными глотками, размачивая сухари и закусывая тушенкой.
– Ничего, – улыбался Многояров. – У ручья отопьемся, каши наварим – за две варки.
– Что готовить будем?
– Давай гречку, а?
– Точно.
Многояров опрокинул кружку и долго держал ее у губ, откинув голову.
К вечеру выбрели на выходы известняка. Работая молотками, выбивали образцы, каждый Многояров рассматривал тщательно, не то что те, утренние из шурфа.
Комлев, отвалив от глыбы крупный осколок, тоже долго разглядывал его, даже понюхал и понес Многоярову.
– Николаич, глянь-ка, какой занятный камушек я добыл.
В холодной глубине камня холодели и мерцали останки первых земных существ, крохотных жителей великого океана, шумевшего тут миллионы лет назад.
– Фауна! Фауна, черт возьми! – выдохнул Многояров. – Она! Честное слово – она! – Глаза его были горячими и влажными. – Наконец-то. Да, понимаешь ли, Николай свет Борисович, что ты нашел сейчас! – Многояров поднес образец к губам, дыхнул на него, морозцем задернулось светящееся оконце в неизмеримо далекое прошлое, Многояров рукавом осторожно протер его, и снова замерцал нездешний свет ВЕЛИКОГО ОКЕАНА.
То незначительное, что призрачно чернело в камне, заслонило сейчас от Многоярова весь мир.
Комлев вспомнил, как рабочий Трусов, ходивший с Многояровым несколько лет подряд по Приохотью, рассказывал: «Лезем мы по осыпи, лезем. А она вся живая, дышит. Того гляди сбросит с себя; кое-как вылезли на вершину, а она – нож. Позади осыпь крутая, долгая, вниз глядеть страшно, а впереди того хуже – подрез и пропасть, жуть – в горле холодно, как туда глянешь. Сидим мы верхом на этом самом ноже, смекаем, как тут быть. И вдруг Алексей-то Николаевич ка-ак начал из-под себя камни вышвыривать. Копается под собой, швыряет и швыряет. Осыпь ожила, гудит вся, поехала-а-а. „Николаич, кричу, что вы?! Осыпь сдвинется, погибнем!“ А он мне: „Погоди, брат, я, говорит, фауну нашел!“»
Было это уже лет восемь назад, а вот запомнился трусовский рассказ.
А Многояров уже не то чтобы объяснял, втолковывал Комлеву:
– Понимаешь, в этом районе еще ни разу не было найдено ни флоры, ни фауны. Но было ни одного свидетеля тому, что утверждаем мы своей экспедицией. А это, – он снова дыхнул на образец, – это уже ниточка, прочная ниточка. По ней и весь клубок распутывается…
Он еще что-то говорил, но Комлев не слушал, занятый грустной мыслью: «Теперь целый мешок этих камней набьет. И при их…»
8 октября, вниз по реке
– …Ты что?! – Глохлов в момент проснулся, будто и не спал. Заслоняя все вокруг, над ним нависло лицо Комлева.
– Больно кричали во сне-то. И жар вот навроде у вас, – дыша запахом нездоровых зубов, говорил Комлев.
Глохлов, отстранясь от этого запаха, повернулся на бок и почувствовал в голове непривычную тяжесть: «Это что же, он меня, что ли, по голове огрел?»
– В жару вы, Матвей Семенович, я вот полушубником вас прикрыл. А сам-то у огонька. А вы вот все кричите и кричите во сне-то. Бредите. И вчера с вечера вон чего наговорили. Помните?
– Помню. Ты что такой сладкий, аж липучий? – Глохлов попробовал подняться с лапника, но тяжесть в голове вдруг перешла в резкую боль, разлившуюся по всему телу. «Что же это? – подумал. – Заболел?»
– Вы лежите, лежите, Матвей Семенович. Я счас чайку сворю. Чайком-то согреетесь.
Поборов боль и ломоту во всем теле, Глохлов поднялся. Чуть подташнивало, и кружилась голова.
– Полежали бы еще, вон ведь как вас жаром обметало. Ровно в бане были.
– А ты рад, что ли?
– Это с чего же рад-то? Вы мне, Матвей Семенович, роднее родного сейчас. Куда я без вас? Я и реку-то не знаю! – И рассмеялся дробненьким, заискивающим смешком.
Глохлов тяжело пошел к реке, заставил себя раздеться и вымылся, как обычно, по пояс.
– Не одобряю я ваши действия. Таким образом воспаление какое-нито схватите, – сказал Комлев. – Садитесь, кушать подано.
– Не надоело придурничать? – Глохлов присел к костру.
Есть не хотелось, но он заставил себя проглотить несколько ложек постной ячневой каши. Налил в кружку чаю, размешал сахар и стал, обжигаясь, пить.
Сначала Комлев ел вроде бы тоже с неохотой, соблюдая очередь, но, когда Глохлов отложил ложку, вдруг заторопился, жадно и быстро черпал кашу, роняя на брюки и подбирая пальцами. Эта неаккуратность в еде была неприятна Глохлову, и он сказал:
– Не ешь, а бежишь будто!
– А я подбираю, подбираю, – невнятно, с полным ртом, ответил Комлев, глотая и в то же время роняя с губ полупрожеванную пищу. – Это еще у меня с голодных лет. – Он отчаянно скреб ложкой по дну котелка.
Комлев сидел у огня, не надевая полушубка, которым прикрыл Глохлова под утро, страшась, что тот наденет его на себя.
– Костер загаси да погляди, чтобы углей не осталось, – сказал Глохлов и, натянув стеганку, пошел к реке, прихватив мешок с продуктами.
Радуясь ласковому теплу овчины, Комлев думал про себя: «Здоров майор, ни черта с ним не будет. Ну и сволочь, ах, сволочь, вот куда вчера заглянул, аж под самый черепок. Нюх у него, что ли. Пес, как есть пес. Только я тебе, дядя Мотя, не дамся, не дамся. Не на того напал. Вчерашнего не будет. А если что, так мы и сойдемся на тропочке с тобой. Здоров боровик, да внутрях червивый. Вон уже и расхворались, ваше благородие…»
Утро было морозным… И опять стремительно бежала река. Игольчато кололись брызги, на одежде намерзал ледок. Первый зимний мороз догнал убегающую от него реку, над водой стынул пар. Авлакан парил, отдавая последнее тепло. Круг замкнулся. Но река все еще бежала вперед, ярилась на перекатах, но задыхалась от этого бега на плесах, все более и более забивая протоки и уловы шугою, и, наконец, умаявшись, устало приваливалась к берегам, покрываясь пока еще ломкой пленкой льда, И чем тише было течение, тем глубже в реку уходили белые наплывы заберегов.
Продрогнув на ветру, Комлев лег на дно лодки, долго поворачивался с боку на бок, пока не заполз в носовой багажник. Затих там, посасывая сахар и хрумкая сухари, украденные ночью.
Оставив позади уже покинутую людьми Инаригду (жили тут с семьями только летом), Глохлов вел лодку узким, порою в ширину казанки, коридором чистой воды. Кое-где приходилось уже и проламываться. Тогда Комлев вылезал из своего логова, вставал на носу и колом рушил перед лодкой ледовые спайки.
Тайга цепенела. Не слышно было ни птиц, ни зверя, вокруг студеное дыхание смерти, жила только река. Но жизнь эта угасала на глазах. Кончался третий день их пути. Дни не уходили, а словно бы погружались в морозную пустоту зимы.
Ночевать остановились в брошенном людьми Даниловом селе.
Глохлов выбрал над берегом избу поменьше, всего в одну горенку, с большой битой печью посередине. За недолгие морозы бревна в стенах успели настыть, и холодом так и несло из черного чрева русской печи. У заплота за двором Комлев обнаружил поленницу лиственничных дров. Плахи расщепливалисъ с сухим треском, и топор то и дело увязал в колоде, на которой он колол дрова. Стук топора отдавался под каждой стрехой брошенных домов, и эхо ходило по селу от околицы до околицы. Тайга, близко набежавшая, откликалась этому стуку, роняя с ветвей мелкую, еще непрочную снежную опушь.
Быстро темнело, и с наступлением темноты из-за окоема торопились к Данилову селу низкие тучи, обремененные снегами. Эти тучи как бы прикрывали землю от лютых морозов, давая возможность жить реке и двигаться по ней людям.
Комлев занес в избу пять вязанок поколотых дров, растопил печь. Все это время, как поднялся с реки в избу и сел на лавку в угол, Глохлов не двинулся с места. Был он в том состоянии, когда все вдруг становится безразличным, пустым и незначительным, даже собственная судьба, собственная жизнь.
Растапливая печь, низко наклоняясь над челом (хозяин бил печь по росту своей маленькой хозяйки), Комлев думал: «Только бы пройти до Ярманги… Только бы пробиться туда. Там прямая тропа на уволок, с него лесная дорога до Буньского…»
– Что ты ко мне вяжешься! – слабо отбиваясь, еще во сне бормотал Глохлов. – Отвяжись, сказано! Ну!
– Матвей Семенович, проснись. Чего сидя-то спать! Счас лягете. Я вот ужин сварганил, – и тянул за телогрейку.
Глохлов пришел в себя, с трудом разлепив веки, глянул мутным взглядом на Комлева, поморщился.
– A-а! Это ты?
Поежившись, запахнул телогрейку, в избе уже было тепло, но Глохлова знобило.
– Вот поешьте, – ставя на стол горшок с варевом, сказал Комлев.
– А ты что? – Глохлов снова поморщился.
Комлев улыбнулся:
– Чо? Боитесь, стравлю? Не! Вот, – и неряшливо зачерпнул из горшка ложкой, соря пищей по столешнице. Зажмурился, поднося ложку ко рту, и вдруг яростно задвигал челюстями. Так и ел – стоя, торопливо, жадно и неопрятно.
Глохлов съел несколько ложек разваренного и замотанного в гречневый концентрат гороха, выпил кружку чаю и полез на печь. «Печь от всего вылечит». Под потолком было душно, но он не ощутил этой духоты, лег на горячие кирпичи, прикрылся стеженкой и не то чтобы заснул, а словно бы потерял сознание, окунувшись в какую-то липкую мглу.