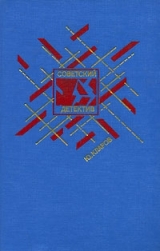
Текст книги "Розыск. Дилогия"
Автор книги: Юрий Кларов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Лучшего гида для депутации Соборного совета, чем ювелир патриаршей ризницы Федор Карлович Кербель, разумеется, не было. Он бы воспел потиры Валентиана III, рассказав архиепископу Антонию и протоиерею Восторгову подходящую к случаю легенду, и золотой с эмалью енколпий Бориса Годунова, и серебряную свечу времен Ивана Грозного, и шестикрылых золотых херувимов на украшенной жемчугом рипиде Филарета…
Но Кербеля, по некоторым соображениям, пришлось заменить Карташовым.
Профессор истории изящных искусств, сумрачный и задумчивый, сидел в углу кабинета и курил, сосредоточенно наблюдая, как струя серого дыма, извиваясь и клубясь, рассасывалась где-то под потолком. По его брюзгливому лицу было видно, что ему здесь все не нравится: давно не ремонтированный кабинет со шпалерами, покрытыми пятнами, беспрерывно входящий и выходящий Волжанин, с его косой челкой, тельняшкой и золотыми зубами, и, само собой разумеется, я.
– Может быть, еще раз осмотрите ценности? – предложил я.
– Я уже смотрел.
За те дни, что я его не видел, Карташов сильно сдал. Серыми и тяжелыми слоновьими складками обвисла кожа с недавно еще круглых щек, одряб тугой живот, поскучнели глаза. Даже золотая цепочка на жилете и та не блестела… Похоже, на нем стал сказываться продовольственный кризис, который в последние дни приобрел в Москве особую остроту.
– На хлебный юг не думаете податься?
– Уже думал и уже раздумал.
– Что так?
– Опасаюсь, батенька, – почти весело сказал он. – Я же круглый… Покачусь на юг, а там, глядишь, не удержусь и окажусь где-нибудь в Константинополе или Неаполе, а то и в Париж нелегкая занесет…
– И что же? – поддразнил я. – Ни талонов на продовольствие, ни революции, ни холода. Тепло, солнце. И водопровод небось работает.
– Да нет уж, увольте. Это для вас интернационал, а для меня – одна Россия. Кондовая, лапотная да сермяжная…
– Россия велика.
– Для кого как. В Москве мне привычней. Право, привычней.
Передо мной сидел прежний жизнерадостный Карташов.
– Анекдот вспомнил. Мне один примерный сельский хозяин, кулак по-нынешнему, душу раскрывал. Когда я часы на сало обменивал… Свиньи, говорит, и те предпочитают, чтобы их не на бойне, а в собственном свинарнике закалывали. Вот как!
– Рискованное сравнение…
– Со свинками?
– Вот именно, – подтвердил я и посмотрел на часы – приближалось время визита.
Карташов засмеялся своим булькающим смехом:
– Ханжеством изволите заниматься. После того как Чарлз Дарвин доказал, что хомо сапиенс происходит не от бога, а от обезьяны, – извините… Не все ли равно – свинья, обезьяна или какаду? Надеюсь, вас не шокирует, что Сократ, Ньютон, блистательный Наполеон и глубокомысленный Гегель – родственники гориллы или шимпанзе, что их пращуры держались за ветки хвостами и искали у себя блох! А свинья – тихое и добродушное животное. Особенно, когда сыта.
Карташову, как всегда, везло. Он относился к тем счастливцам, которые так и не создали своей философской системы, потому что те или иные обстоятельства всегда мешали им довести до логического конца мимоходом высказанные мысли. Вот и сейчас он вынужден был прервать себя на полуслове. В дверях кабинета во всем своем великолепии стоял иерарх в клобуке.
– Архиепископ Антоний – товарищ председателя Совета милиции Косачевский, – сказал Карташов, представляя нас друг другу.
– Весьма приятно, – густым баритоном сказал Храповицкий, и его белоснежная борода широким веером легла на грудь. В клобуке с бриллиантовым крестом и осыпанной драгоценными камнями овальной панагией он был иконописен, красив и величествен.
Так вот он какой Антоний Храповицкий, мечтавший стать банщиком при всероссийской кровавой бане!
Теперь я понимал честолюбивое стремление архиепископа возглавить русскую православную церковь. С такой импозантной внешностью, конечно, обидно было уступать патриарший престол невзрачному Тихону. Но что поделаешь? Судьба.
В сравнении с Антонием остальные члены депутации Поместного собора изрядно проигрывали. Нарочито мужиковатый, неряшливый Восторгов в сапогах-бутылках; полнотелый и коротконогий присяжный поверенный Кротов, бывший юрисконсульт святейшего Синода; чувствительный, страдающий подагрой граф Олсуфьев, то и дело подносящий платочек к глазам (графа умилял вид вновь обретенных священных сосудов), – куда им было тягаться с несравненным Антонием!
Разве вот только архимандрит Димитрий… Но тот, замкнутый и молчаливый, держался в стороне. Антоний Храповицкий, Восторгов и Олсуфьев были ему неприятны. И, несмотря на искреннее желание побороть свою недостойную христианина греховную неприязнь, он не в состоянии был этого сделать. И это угнетало его еще больше.
«Тяжело жить на свете таким, как Димитрий, – подумал я. – Да и где им жить? Разве что в захолустном монастыре… Но много ли останется подобных обителей через год-другой? Да и какие стены уберегут от наступающей со всех сторон жизни? Время пустынников прошло. Их больше не искушают, но к ним и не прислушиваются».
Я уже знал, что с Димитрия, по ему личному ходатайству, вскоре будет снята забота о патриаршей ризнице, и он собирается замаливать людские грехи в Валаамской пустыни или на Соловках. Ну что ж, попутного ветра!
Между тем противоборство пессимизма, оптимизма, прагматизма, рационализма и еще чего-то закончилось в душе Карташова очевидной победой чувства долга перед советской милицией. Воспарив над концепцией Дарвина и собственными философскими изысканиями, он поражал делегатов Соборного совета знанием предмета и неизвестными им историческими фактами.
Восторгов довольно сопел и приоткрывал рот, будто готовясь выпить долгожданную стопку померанцевой под свежесоленые ярославские рыжики («Ах, мать честная, и до чего большевики Россию довели!»), а граф Олсуфьев, которому Карташов успел мимоходом напомнить о его славных предках – обергофмейстере при Петре Великом Василии Дмитриевиче Олсуфьеве и статс-секретаре Екатерины II Адаме Васильевиче, – был растроган и умилен. Даже у Антония и то разгладились морщины у глаз.
Поэтому, когда я по знаку Волжанина покинул кабинет, чтобы переговорить из соседней комнаты по телефону с позвонившим мне Бориным, никто, кроме, возможно, Димитрия, не обратил на это внимания.
Борин доложил мне, что закончил опрос Кербеля.
– Успешно?
– Да, – вопреки своим правилам, четко и уверенно подтвердил он и продиктовал несколько фамилий, среди которых была и фамилия барона Василия Мессмера.
– Выходит, что барон сейчас должен быть в Москве?
– Вполне возможно, – сказал Борин. – Если, натурально, еще не уехал… – И спросил: – Мне приезжать?
– Нет. Уж не сочтите за труд, поскучайте маленько в обществе Кербелей, покуда мы здесь все не выясним.
Отдав Сухову, Волжанину и Артюхину соответствующие распоряжения, я вернулся к членам Соборного совета.
Димитрий стоял, как и прежде, у окна. Олсуфьев, комкая в руке платочек, о чем-то спрашивал довольного самим собой Карташова, а Кротов, Восторгов и Антоний рассматривали специально положенную мною на видное место стоику изъятых нами листовок, в которых так красочно расписывалась горестная судьба сокровищ патриаршей ризницы.
Заметив меня, Антоний нахмурился, а глаза его метнули молнии, способные, казалось бы, испепелить всю стопку. И хотя листки не загорелись, всем было видно, что архиепископ возмущен и разгневан.
– Огорчительно, – вздохнул Восторгов, переминаясь с ноги на ногу.
– Порицания и осуждения достойно, – изрек Антоний.
А я добавил:
– И не только порицания, но и судебного разбирательства. Если авторы этих листовок не утихомирятся, то они будут преданы суду за клевету на Советскую власть. Нами уже ведется дознание… А как вам известно, тайное раньше или позже, но становится явным.
– Чаще – позже, – заверил со знанием дела Антоний.
– Возможно, господин архиепископ. Но во всяком случае, о вашем посещении и обо всем этом, – я обвел взглядом комнату со столами, уставленными церковной утварью, – через десь будет распубликовано в газетах…
Дверца мышеловки захлопнулась.
– В газетах?! – Восторгов болезненно крякнул, будто вместо смирновки дернул скипидару или чего похуже.
Граф Олсуфьев поспешно спрятал в кармашек платок, глаза его мгновенно стали сухими:
– Как прикажете вас понимать?
– В самом прямом смысле, ваше сиятельство.
Лишь в лице Антония ничто не дрогнуло. Он пробежал глазами подсунутое мною краткое сообщение для газет.
– Ну что ж… – Не без любопытства посмотрев на меня, Антоний интимно и, пожалуй, даже с некоторой симпатией спросил: – Вы в кавалерии никогда не изволили служить?
– Не привелось.
– Странно. Ухватки у вас старого кавалериста… – Антоний немного помедлил, потом сказал: – Что же касается до увиденного, то можете не сомневаться, – мы беспристрастно доложим обо всем собору. Мы с охотой поделимся той радостью, которая посетила здесь наши изболевшиеся души. Впрочем, теперь вы в этом и так не сомневаетесь, – добавил он уже совсем другим тоном. – А листовки… Листовки – дело прошлое. Простим заблудшим их прегрешения, ибо они не знали, что творили. Не смею вам советовать, но необходимости учинять дознание, видимо, уже нет…
Я лишний раз убедился, что русская церковь в лице Антония лишилась великомудрого патриарха.
Карташов, который, кажется, только сейчас оценил пикантность ситуации, не прочь был продолжить свои философские рассуждения и поведать членам собора вспомнившийся ему анекдот. Но они вдруг заторопились, и Карташов, распрощавшись, ушел вместе с ними, предварительно заверив меня, что сочтет за честь вновь быть мне полезным.
– Довольны, разумеется? – с едва заметной усмешкой спросил Димитрий.
– Как и каждый, кто бы оказался на моем месте.
У архимандрита были страдальческие глаза.
– «Суета сует, все суета», – грустно и отрешенно процитировал он из Экклесиаста. – «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится. И нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость! А уже было оно в веках, что прошли до нас».
Архимандрит знал на память всего Экклесиаста, поэтому я поспешил перейти к обсуждению церемонии передачи ковчегов для риз и священных сосудов. Много времени на это не ушло. А затем я сказал:
– Человек, который участвовал в ограблении патриаршей ризницы, убит, Александр Викентьевич. Его повесили…
Димитрий перекрестился:
– Зачем вы мне это сказали?
– С корыстной целью, Александр Викентьевич. Я человек от мира сего – хитрый и корыстный. Я все говорю только с целью. Дело в том, что незадолго до убийства покойника видели в обществе другого человека…
– Кого же?
– Ювелира патриаршей ризницы Кербеля.
– Что же вы желаете узнать от меня?
– Правду.
– Слишком много, Леонид.
– Вам было известно об этой встрече?
– Да. Они встречались несколько раз.
– А цель этих встреч?
– Грабитель хотел вернуть похищенные сокровища.
– Раскаявшийся грешник?
– Нет, он хотел это сделать за соответствующую мзду.
– То есть продать церкви украденное у нее?
– Да.
– И что же?
– Я отказался участвовать в этом кощунственном торге.
– И изъявили желание вернуться в монастырь?
– Да, – с вызовом подтвердил он.
– Чистоплотно и предусмотрительно… Однако не все последовали вашему примеру, не так ли?
– Извините, но на этот вопрос я не буду отвечать.
– Кербель на него уже ответил… Но в конце концов, это внутрицерковные дела, мы не собираемся в них вмешиваться. Меня интересует другое. Помимо сокровищ патриаршей ризницы были похищены и иные хранившиеся там ценности…
Длинные пальцы архимандрита быстро перебирали темный янтарь четок.
– Мессмеру было известно о предложении убитого?
Снова молчание.
– Об этом, кстати, Кербель нам тоже сообщил. А отказ отвечать на вопросы – своего рода ответ.
Димитрий отошел к столу, взял в руки золотой ковчег, вновь поставил его на стол, опустился в кресло.
– Мессмер не убивал несчастного…
Он сидел сгорбившись, ссутуля плечи, на которые легла слишком большая для него тяжесть. Старый и хрупкий человек, пытавшийся остаться в стороне от событий. Из-под клобука серебряными кольцами вились седые волосы…
Собственно, говорить нам было больше не о чем. Я взглянул на стоящий перед ним ковчежец. На боковой стенке ковчежца умелой рукой мастера был изображен восседающий на троне богочеловек. У него было напряженное и задумчивое лицо. Он слушал богородицу и Иоанна Предтечу, которые просили за людей. Видимо, они уже успели исчерпать все доводы, потому что богородица выразительно показывала на свои сосцы («Послушай меня хотя бы потому, что я твоя мать. Ведь этой человеческой грудью я вскормила тебя, сын божий!»), а Иоанн держал перед Иисусом свою собственную отсеченную людьми голову («Они мне ее отрубили, но я по-прежнему люблю их. Неужто, боже, в твоей душе меньше любви к ним, чем в моей?»).
И я на минуту представил себе между этими двумя – третьего, сидящего за столом старика. Он бы, наверное, ни на что не ссылался. Он бы просто молил восседающего на престоле за весь род человеческий. Он бы одновременно просил за патриарха Тихона, за первого барыгу Хитровки Махова, за полковника Мессмера и товарища председателя Московского совета милиции Косачевского…
Большая бы путаница на земле произошла, если бы его просьбы были исполнены…
В дверь заглянул Волжанин. Когда я вышел в коридор, матрос сказал, что Василий Мессмер с каким-то неизвестным находятся сейчас на квартире у Мессмера-старшего. Группа к выезду готова. Я проверил свой браунинг, загнал патрон в патронник, поставил на предохранитель.
– Машина?
– У подъезда, товарищ Косачевский. Выезжаем?
– Выезжаем.
Как там в Экклесиасте? «Всякому свой час, и время всякому делу под небесами: время родиться и время умирать, время насаждать и время вырывать насажденья, время убивать и время исцелять, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время рыданью и время пляске, время разбрасывать камни и время складывать камни…»
– Квартира со всех сторон обложена, Леонид Борисович. Теперь ему не уйти, – сказал вынырнувший откуда-то из темноты Сухов.
Стучал мотор. В автомашине было тесно и холодно.
– Дуй, парень, – сказал Артюхин шоферу.
Взревел мотор. Мы выехали за ворота. За моей спиной, уткнувшись мне в затылок, тяжело дышал красногвардеец из боевой дружины.
IVПуля ударила в стену, и меня обсыпало штукатуркой. Я услышал лишь один выстрел, но их было два: входная дверь светилась двумя огненными глазами дырок – свет в прихожей они не погасили. Видно, стреляли одновременно – звуки выстрелов слились в один.
Насколько я мог оценить, стреляли с толком, профессионально, в полтуловища, хотя и вслепую. Военный инструктор, обучавший нас, боевиков, в тысяча девятьсот пятом, называл такую прикидку нежно и выразительно – «в пупочек». Целиться следовало в центр живота или чуть повыше. Подобная прикидка сулила успех и неумелому. Она почти всегда гарантировала попадание даже из непристрелянного оружия, такого ненадежного, как «бульдог» или «смит-вессон». «В голову трудно. В голову и опытный стрелок, случись что, промажет. А тулово – цель, мишень по-военному, – объяснял инструктор. – Высоко взял, дернул – грудь, голова, шея; занизил – брюхо, тоже не жилец. На крайний случай – ноги. Не весть что, а урон, не помаршируешь… Так что из леворверта завсегда в пупочек берите. Глядишь – и сложится пополам».
Те двое за дверью науку солдатскую, чувствовалось, знали. Неплохо знали. Били наугад, но на уровне «пупочка». Не учли они лишь одного: стояли-то мы не перед дверью, а по бокам ее, за выступами стен лестничной площадки. Им следовало стрелять наискось, вплотную приблизившись к двери, сведя на нет мертвое пространство. Но я в советчики не набивался… Пока же нам угрожал лишь рикошет. Но быть мишенью все равно неприятно, особенно если нет твердой уверенности в заступничестве всевышнего…
В моей памяти всплыло и вновь исчезло белое лицо Димитрия, грустное и задумчивое; сгорбившаяся спина, сутулые плечи, серебряные кольца волос из-под черного клобука… Димитрий многое знал. Он не знал лишь того, что человеческое «тулово – цель, мишень по-военному» и что при стрельбе нужно прикидывать, где у людей, созданных по образу и подобию божьему, находился «пупочек». Он считал, что в его обязанности на грешной земле это не входит. Потому-то его не было ни здесь, ни там, за дверью. А может быть, каждому человеку хоть раз в жизни, а следует постоять на такой вот лестничной площадке?
Сухов, побледневший, строгий, вопросительно посмотрел на меня. Ему нужно было во что бы то ни стало действовать. Все равно как. Главное – действовать.
Еще выстрел – и еще фонтанчик штукатурки, и еще маленькое круглое отверстие. Это уже они так, со злости…
Огненные глаза в дверных панелях исчезли: в прихожей погасили свет. Уж не думают ли прорываться? Неразумно. Впрочем, при некоторых обстоятельствах от людей естественней ждать глупостей.
– Послушайте, Мессмер! – громко сказал я. – Вы меня слышите?
– Слышу.
– Советую вам открыть дверь и сдать оружие.
– А что вы предлагаете взамен?
Вот именно, что?
– Взамен я вам предлагаю личную неприкосновенность. Вам и вашему другу.
– По пути в трибунал?
– Да. До приговора революционного трибунала.
Очередной выстрел был плох: барон завысил прицел, пуля впилась в потолок.
– Погодите стрелять. Я еще не закончил. Хочу предупредить, что на этот раз все меры приняты: улизнуть не удастся. А вы подвергнете опасности не только себя, но и других обитателей квартиры, в том числе своего отца.
Ответом была ругань. Несмотря на свое иноземное происхождение, барон великолепно пользовался красотами великорусского фольклора, виртуозно накладывая одно кружево на другое. Волжанин оценил:
– Как боцман чешет, в брашпиль его мать!
– Умственный господин, – поддержал матрос Артюхин, шапка которого, будто снегом, была припорошена известкой.
Сухов передернул затвор карабина, но я отрицательно покачал головой. Те двое нужны были мне живыми. Ну не двое, – хотя бы один…
Положение было дурацким. Подставлять под пули своих людей? Глупо и, как говорит Рычалов, нецелесообразно. Ждать, пока у них кончатся патроны? Долго, унизительно и тоже… нецелесообразно.
Я взял у Сухова карабин и прикладом разбил висящую над головой в матовом колпачке лампочку. Мелким дождем посыпались на пол стеклянные осколки. Затем я размахнулся и ударил изо всех сил кованым прикладом по двери, стараясь в наступившей кромешной тьме попасть чуть ниже ручки, в то место, где находился дверной замок. По металлическому скрежету я понял, что угодил, кажется, все-таки по бронзовой ручке.
Снова выстрелы. Где-то мимо левого уха фьюкнула пуля.
– Дай-кось, Леонид Борисович… – пробасил Артюхин.
У меня вырвали карабин. Удар! Еще! Еще…
Когда дверь наконец затрещала, хлопком прозвучал одинокий выстрел…
Под напором сгрудившихся человеческих тел сорванная с петель дверь опрокинулась куда-то внутрь, в темень, в пустоту. Ударившись о пол, ухнула. Крякнули планки, захрустели, заскрипели жалобно под ногами. Гулко загрохотали по паркету сапоги. Тяжелое дыхание, топот, чей-то крик.
Выстрелов, кажется, больше не было. А может, и были? Черт его знает!… Я обо что-то споткнулся и чуть не упал. В голове мелькнула мысль: сбежали! Но куда? Некуда им бежать – весь дом окружен красногвардейцами.
Зло и громко, подбадривая себя звуками собственного голоса, ругался Волжанин.
– Свет! – сказал я. – Включите свет.
– Да разве найдешь, где он тут включается, – совсем рядом раздался неестественно спокойный голос Сухова. – Не помните, на какой стороне, Леонид Борисович?
Вопрос прозвучал, по меньшей мере, забавно. Если бы смог, я бы улыбнулся.
Кто– то зажег спичку.
Я чувствовал, как между моими лопатками стекает струйка пота. В прихожей было пыльно, жарко и душно. Машинально, непослушными пальцами я расстегнул пальто, вытер о его полы вспотевшие ладони. Ножом резанул глаза яркий электрический свет.
– Ах, мать честная! – удивленно сказал Волжанин.
На полу, рядом с упавшей дверью, я увидел сидящего человека и невольно подался в сторону, чтобы не наступить на него. Человек сидел, поджав под себя колени и уткнув в них лицо, словно стыдясь чего-то.
Надсадно и упорно звенело что-то наверху, под высоким белоснежным потолком. Муха, что ли? Или показалось? Нет, будто не показалось…
– Муха, – сказал Артюхин. – Она, стерва. Муха зимой к покойнику. Это завсегда так… Точная примета, Леонид Борисович. Увидел где муху – жди покойника… Чувствительная тварь. Ишь как крылышками вызванивает!
В дверной проем вошли трое из боевой дружины. Огляделись, старший подошел ко мне.
– Второго нет, а их тут двое было. Обыщите комнаты!
– Будет сполнено, товарищ Косачевский. Куда убегет? Тут он. Пошли, ребята! Чего уставились? Убитых, что ли, не видели?
В прихожей остались трое: я, Волжанин и покойник…
Матрос ощерил золотые зубы:
– Мессмер-то сам себя порешил…
– А Мессмер ли это?
– Он самый. Барон…
Волжанин за волосы приподнял голову убитого так, чтобы я мог рассмотреть лицо. Фотографий барона у нас хранилась целая пачка. Да, это, вне всякого сомнения, был Мессмер. Барон выстрелил себе в рот. На щеке у губ – потек крови. Один глаз широко раскрыт, другой прищурен, подмигивает: что, взял, Косачевский? Я ведь вроде колобка… И тогда от тебя ушел, и теперь… Не от твоей хамской пули умер – от собственной. Похвалиться тебе и то нечем. Ушел я от тебя, Косачевский, вторично ушел!
Матрос опустил голову покойника, и тот, будто устав сидеть, мягко завалился на бок.
– Обыщите.
Перевернув труп на спину, Волжанин начал отстегивать клапаны карманов. Вытер о френч запачканные в крови пальцы, протянул мне письмо на плотной голубоватой бумаге с серебряным вензелем в углу.
«Милостивый государь Василий Григорьевич! – прочел я. – Весьма сожалею, что вынужден взять на себя эту прискорбную обязанность. Нет необходимости напоминать, для чего предназначалось вверенное Вам имущество «Алмазного фонда». Однако, выполняя настоятельную просьбу членов совета «Фонда», кои, в силу известных Вам обстоятельств, пожертвовали своими фамильными ценностями во имя священных идеалов русского самодержавия, позволю себе, милостивый государь, все же напомнить, что вверенное Вашему попечению имущество предназначалось для двух целей: освобождения из заточения членов царской фамилии и финансирования освободительного движения на юге России… Ваши ссылки на ограбление патриаршей ризницы признаны безосновательными. Члены совета не только не могут оправдать Вашу, как они изволили высказаться, безответственность, но и смягчить указанными обстоятельствами Вашу пагубную для нашего отечества вину…»
По моему мнению, покойник не заслужил такого письма. Но теперь мне стало понятно, почему именно у барона хранились «Батуринский грааль», «Два трона», «Золотой Марк», «Пилигрима», колье «Двенадцать месяцев», брошь «Северная звезда» и другие ценности. Были понятны участие в их судьбе некоторых церковников и противодействие Димитрия, путешествие барона по крышам и многое другое.
Получалось, что из-за двух саратовских жуликов надежда и гордость царской России, офицерские отряды юга, остались без денежных средств, при одной лишь идее, а мощное древо трехсотлетней династии Романовых со своими юными зелеными побегами – на скудных харчах Тобольского Совдепа и проблематичной надежде на верность воинских частей, желающих восстановить монархию.
И дернула же нелегкая Василия Мессмера поместить все ценности «Алмазного фонда» именно в патриаршую ризницу! Не мог он другого, что ли, места найти в необъятной России?! Оплошал барон… И потом это убийство на даче Бетиных… Уж не стал ли удачливый вор Дмитрий Прилетаев жертвой монархического заговора?
М– да… Забавная ситуация, ничего не скажешь!…
Зря ты веселился, барон, зря подмигивал мне своим мертвым глазом. От дальнейших объяснений с членами совета «Алмазного фонда» ты раз и навсегда избавился – это верно, а вот от меня не ушел, нет…
Впрочем, барон уже не подмигивал. Он лежал, вытянувшись на спине, как и положено покойнику. Лицо желтое, отрешенное. На его глаза кто-то положил пятаки, наверное, стоящая над ним горничная. Она беззвучно плакала. И ее слезы, скатываясь по круглым щекам, падали на френч барона, оставляя на нем черные горошинки мокрых пятен.
Пожалуй, Мессмера мне все-таки было жаль. Я всегда жалел людей, которые умирали нелепой смертью.
Тяжело и неуклюже переставляя ноги, шаркая подошвами войлочных туфель, к телу сына подошел генерал. Подхватив под мышки, горничная помогла ему опуститься, но не удержала: генерал гулко стукнулся о пол коленями. Старик всхлипнул, ткнулся лицом в грудь покойного, крыльями разбросав по френчу свои белые бакенбарды. Горничная тихо заголосила…
– Пожалуйте, Леонид Борисович, – сказал Артюхин, одной рукой держа карабин, а другой придерживая полуоткрытой дверь в ту комнату, которую я при прошлом посещении квартиры окрестил «жеребячьей». – Там.
Как и тогда, перебирали в нетерпении тонкими ногами рысаки на стенах, хвастались своими статями арабские лошадки, дончаки, шведки… Осуждающе глядел на меня из своей рамы бывший император всея Руси Николай II. Он не любил, чтобы стреляли у него под ухом. На Ленских приисках или там, на Невском, к примеру, – это пожалуйста. А тут… Места вам, что ли, мало?
Но, кажется, император смотрел не на меня, а на стоящего у противоположной стены помощника коменданта Дома анархии Диму Ритуса, перетянутого, как чемодан, ремнями… Этот-то как в табун затесался?
– Этот, – сказал Артюхин и ткнул Ритуса стволом карабина.
Ритус отпихнул грудью ствол, дернулся связанными за спиной руками:
– Протестую и возмущаюсь, товарищ Косачевский!
– Ну, ну, не горячитесь, Ритус.
– Требую немедленно развязать!
– Не надо так громко. Я не глухой.
– Когда революционер связывает революционера – это уже слишком…
– А ты б не барахтался, – смущенно буркнул стоящий за его спиной красногвардеец. – Тут дело такое… Темное…
Судя по разбитому в кровь лицу и разорванному пиджаку, Ритус «барахтался» основательно…
– Развязать, что ли? – с сомнением спросил все тот же красногвардеец.
– Развяжите, – сказал я и спросил: – А что вы, собственно, здесь делали, Ритус?
Он вздернул плечи:
– Федерация привыкла выполнять свои обязательства. Раз мы обещали оказать вам помощь в розыске ценностей…
– Понятно, – кивнул я.
Он размял затекшие руки, поправил галстук. Нащупал синяк под глазом и поморщился:
– Я, конечно, свободен?…
– Почти.
– Что?!
– Я хочу сказать, что это выяснится окончательно после беседы в уголовном розыске.
– Вы меня арестовываете?!
– Что вы, что вы, Ритус! Просто мне приятно продлить общение с вами. Разве нам не о чем поговорить?
Ритус стал воплощением официальности:
– Тогда попрошу вас поставить в известность секретариат федерации.
– И это мы с вами обсудим в уголовном розыске, – мягко сказал я.
– Моя покойная мама, товарищ Косачевский, любила говорить, что за некоторые шуточки отвинчивают голову и потом привинтить ее обратно нет никакой возможности…
– Нагар? – спросил я у Сухова, который осматривал револьвер помощника коменданта Дома анархии.
– Нагар, – подтвердил Павел. – И трех патронов в обойме не хватает.
– А это как прикажете понимать? – спросил я у Ритуса.
– Мессмер мне соврал, что в квартиру ломятся налетчики…
– Не надо говорить плохо о покойниках, Ритус.
– Ладно, везите! – вскинулся он.
– Вот видите, при желании всегда можно договориться…
…В моем кабинете он окончательно пришел в себя. Удобно расположился на диване. Остря и балагуря, закурил.
– Портной за счет уголовно-розыскной милиции? – он поднял руку, показывая надорванный рукав пиджака.
– И портной и фельдшер.
– Это меня саданул ваш верзила… Ну как его?
– Артюхин?
– Вполне вероятно. Пудовые кулаки… А вы благородный человек, товарищ Косачевский. Портной и фельдшер… Если бы я мог приобрести себе папу, я бы выбрал вас. За любые деньги и в любой упаковке. Даже по спекулятивной цене, на Сухаревке…
– Папиросы свои там покупали?
Он протянул мне раскрытую лачку:
– Чувствуете шарм?
– Я плохой ценитель.
– Жаль, жаль… Нет, это не Сухаревка. Таких папирос, дорогой товарищ Косачевский, вы ни в Москве, ни в Питере не найдете. Золотая пыль от разбитого вдребезги режима… Их изготовляли специально для Гришки Распутина. Ну, может быть, еще для кого-нибудь… Не знаю… Но сейчас их курит только Ритус. Реквизировали в декабре семнадцатого у фабриканта Грязнова. Взгляните на этикетку – «Париж». Вы никогда не бывали в Париже?
– Не привелось. Но зато сотрудники уголовно-розыскной милиции побывали на даче Бетиных, Ритус…
– Чьей дачи?
– Бетиных, в Краскове, там, где был убит Прилетаев…
Светлые, водянистые глаза помощника коменданта Дома анархии выражали недоумение.
– Папиросы «Париж» курил один из убийц Дмитрия Прилетаева, Ритус, – тихо и вразумительно сказал я. – Вот так курил, как вы… – Я взял из его рук окурок. – Видите?
– Не заставляйте меня грустить, дорогой товарищ Косачевский…
– Стоит ли разыгрывать из себя идиота, Ритус? Подлецом вы были всегда, а дураком – нет. Или я ошибаюсь?
– Вы ошибаетесь, товарищ Косачевский… Никто не позволит вам поставить к стенке старого политкаторжанина.
– До стенки мы еще доберемся, Ритус, – пообещал я. – А пока…
…Ритуса обыскали тут же в кабинете. Обыскивали тщательно, прощупывая каждый шов одежды. У него нашли щипчики «уистити» и коробочку, в которой лежали обложенные ватой сапфир «Схимник» и рубин-оникс «Светлейшей». Только после этого он попросил у меня бумагу, чтобы написать свои показания.
Ритус писал до трех часов ночи. Рвал исписанные листы, черкал и снова писал. То вспыхивал, то мерк свет настольной лампы, освещая склоненный над столом узкий затылок помощника коменданта Дома анархии. Росла стопка исписанной бумаги. Скрипело и взвизгивало перо…
Стоял у двери, опершись на винтовку, уставший за день красногвардеец. Привалившись к спинке дивана, спал, улыбаясь во сне, Артюхин. Ему, видно, опять снились не дававшие ему покоя золотые зубы, которыми он когда-нибудь поразит самарских девчат.
Курил одну папиросу за другой Павел Сухов.
А за окнами комнаты многоликим и грозным часовым стояла мартовская ночь 1918 года.
Из собственноручно написанных объясненийгражданина Ритуса Д.Б.
заместителю председателя Московского советанародной милиции тов. Косачевскому Л.Б.
(Дело об ограблении патриаршей ризницы в Кремле)
Я, помощник коменданта Дома анархии, анархист-коммунист по своим политическим убеждениям, старый борец за народное дело, приговоренный в 1912 году царским судом к смертной казни за расстреляние душителя революции жандармского подполковника, Д.Б.Ритус, имею заявить касательно экспроприаций патриаршей ризницы и подпольной контрреволюционной организации «Алмазный фонд» нижеследующее.







