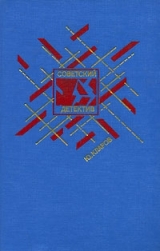
Текст книги "Розыск. Дилогия"
Автор книги: Юрий Кларов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
Вместительный прямоугольный зал, служивший некогда для балов и банкетов московского купечества, распирало от сотен потных человеческих тел. Сидели не только в креслах, но и на втиснутых между рядами скамьях. Проходы были забиты. Мы так и застряли в дверях – дальше протиснуться не смогли.
Насколько я смог разобраться, на митинг явились анархисты всех групп и объединений Москвы, в том числе и «независимые», не входящие в состав федерации и не признающие ее «как орган, ограничивающий свободу революционного индивидуума».
В президиуме на фоне скрещенных черных знамен сидели за столом чахоточный «безмотивник» Оршанский, обреченный врачами на смерть, но надеющийся назло буржуазии дотянуть до мировой революции; лидер «немедленных» Неволин, ставший впоследствии махновцем (год спустя я его встретил в Петрограде, куда он прибыл в качестве коменданта «хлебного эшелона», на вагонах которого было написано: «Голодающему пролетариату Питера от батьки Махно»); глава «Студенческой группы» – красавец Чарский; анархо-синдикалист Гастев, имя которого потом вошло в историю как основателя научной организации труда в СССР. Рядом с руководителем «независимых», матросом в бежевом пиджаке поверх тельняшки, сидела миловидная женщина с гладко причесанными волосами – гостья из Воронежа, Мария Никифорова, та самая Маруся, банда которой впоследствии терроризировала города и села Украины.
Отца, Розу Штерн и Пол-Кропоткина я не заметил ни в президиуме, ни в зале. Рабочих было мало – несколько десятков человек. Зато митинг привлек интеллигенцию. Некоторые из них, переоценивая вес и влияние Московской федерации, рассматривали анархистов как силу, способную противостоять большевикам и левым эсерам. Другие считали, что анархизм, предвестник надвигающихся событий, выражает чаяния русского мужика-пугачевца, который никогда не признавал никакой власти, кроме власти земли, а следовательно, за анархистами – будущее.
Возлагались некоторые надежды и на возможность вооруженного столкновения черной гвардии с большевиками. Причем «р-революционная левизна» кадетствующую и даже монархистски настроенную интеллигенцию особо не пугала. Как заметил в разговоре со мной профессор Карташов, земля кругла – если слишком далеко забрать влево, то выйдешь справа…
А вон собственной персоной и сам Карташов. Профессор сидел в центре зала, в кресле, рядом с живущим в нашей гостинице любознательным американцем, который, разумеется, никак не мог пропустить такого броского материала, как митинг в Доме анархии. Судя по жестам, Карташов что-то растолковывал ему. Представив себе комментарии «насыщающегося», я решил, что мои объяснения по поводу поэзии выглядели, конечно, по сравнению с карташовскими, детским лепетом. Позади искусствоведа я заметил седовласую, грубо размалеванную даму с лорнетом, лицо которой показалось мне знакомым. Ну конечно же Лиза Тесак. Вот где клад для американца! Русская аболиционистка, родившаяся и состарившаяся на Хитровом рынке, ярая последовательница англичанки Жозефины Бутлер, посвятившей свою жизнь борьбе за свободу проституции. Американцу, по-видимому, хорошо была известна сенсация конца прошлого века – петиция английских проституток в парламент, но вряд ли он подозревал, что почти рядом с ним сидит организатор первой и, кажется, последней забастовки в домах терпимости Москвы… Но когда, интересно, Лиза Тесак успела проникнуться симпатией к анархизму?
Зал всплеснулся аплодисментами и одобрительно загудел, а Сухов негромко сказал:
– Вот чешет, сукин сын!
Слова эти относились к очередному оратору, одному из секретарей федерации.
– Спор теоретиков революции решают не ссылки на умные книги, не аргументы, не число последователей, а истерия, – вещал оратор, все более и более накаляясь от собственных слов. – История – вот беспристрастный судья всех теорий и систем. – Он вскинул вверх руки, словно призывая историю посетить этот зал и запросто побеседовать с участниками митинга. – Вернемся на несколько десятилетий назад. Маркс тогда утверждал, что революция начнется в развитых капиталистических странах, – Бакунин это отрицал. Маркс утверждал, что знамя мировой революции поднимет германский пролетариат, – Бакунин это отрицал. Бакунин писал: «Англичанин или американец, говоря «я англичанин», «я американец», говорят этим словом: «я человек свободный». Немец же говорит: «я раб, но зато мой император сильнее всех государей, и немецкий солдат, который меня душит, вас всех задушит». Бакунин писал: «У всякого народа свой вкус, а в немецком народе преобладает вкус к сильной государственной палке». И вот теперь, в феврале тысяча девятьсот восемнадцатого, я спрашиваю вас, бескорыстных бойцов революции: кто прав – Маркс или Бакунин? Кто пророк мировой революции – Маркс или Бакунин? – Последние слова оратора потонули в свисте, в выкриках, в топоте сотен ног.
Лиза Тесак, вскочив с места и размахивая лорнетом, что-то кричала своим визгливым голосом, способным просверлить любую барабанную перепонку. Трещали стулья, подпрыгивали скамьи. Довольный динамитным взрывом страстей, оратор переждал шум и, взмахнув рукой, словно дирижируя оркестром, продолжал:
– Алтарь государственности – вот тот камень, о который споткнулись Маркс и его последователи. Нет, не немец, государственник и филистер, а природный анархист славянин поднял над миром знамя кровавого, всесокрушающего бунта. Он, и только он, предназначен мудрой старухой историей в вожди мировой революции, которая раздавит и потопит в крови эксплуататоров, разрушит до основания государство, закон, церковь – все, что уродует и калечит людей, превращая их в жалких рабов. Революция – ураган! Революция – смерч! Революция – бушующий океан! Кто остановит ее? Филистер немец? Нет и еще раз нет. Девятый вал всероссийского бунта сметет, словно пыль, всяких гинденбуров и гофманов, развеет по ветру германские полки и дивизии! – гремел оратор, упиваясь собственным красноречием и нарисованной им оптимистической картиной разгрома немецкой армии. – Пусть дрожит от страха император Вильгельм, пусть дрожат от страха его генералы и солдаты, подставляющие свои согбенные спины под императорскую палку, – уже поднята над их головами всесокрушающая дубина русского бунтаря. В Смольном надеются на революцию в Германии – мы на нее не рассчитываем. В Смольном готовы идти на компромиссы с германским капитализмом – мы на них не пойдем. В Смольном просят мира – мы требуем войны, всемирной революционной войны против угнетателей. Никаких переговоров с немецким филистером, никаких соглашений. Пусть ухнет по тупым головам дубина бунтаря. Выше кровавое знамя мировой революции, пронесем его через Европу, Азию и Америку! Вперед! – выкрикнул он и выбросил перед собой сжатый кулак.
Зал неистовствовал. От криков и воплей качались, бренча хрустальными подвесками, люстры. Участники митинга готовы были хоть сейчас идти «вперед», чтобы обрушить на тупые головы дубину бунтаря и пронести знамя мировой революции через Европу, Азию и Америку. Что же касается оратора, то он, кажется, к этому готов еще не был. Во всяком случае, закончив свою пламенную речь, он пошел не вперед, а, скромно отступив назад, занял снова свое место в президиуме.
– Об отправке на фронт черной гвардии – ни полслова, – трезво отметил Сухов. – Это что ж, они будут речи произносить, а большевики с немцами драться?
Сухов глядел в корень. Действительно, о такой «мелочи», как помощь армии, секретарь федерации не упомянул. То ли он считал это само собой разумеющимся, то ли был убежден, что «кровавым знаменем мировой революции» безопасней размахивать в купеческом клубе в Москве, от которой «немец-филистер» пока еще достаточно далеко… Но кто же все-таки понесет знамя через Европу, Азию и Америку? Ответа на этот вопрос в речи не было, но он подразумевался: раз большевики взяли власть в свои руки, то пусть в Питере в Смольном и ломают себе головы над «дубинками» и «знаменосцами». Это уж их забота, а не наша.
И стиль речи, и ее направленность свидетельствовали о том, что опасения президиума Совдепа, о которых мне говорил Рычалов, отнюдь не беспочвенны.
Да, если мир с немцами в ближайшее время не будет заключен, то от Московской федерации анархистских групп можно ожидать любых сюрпризов: уж больно разжигаются страсти.
Секретаря федерации на трибуне сменил Отец. Но его выступление нам прослушать не удалось: протиснувшийся в зал каким-то чудом Дима Ритус сообщил, что товарищ Штерн уже внизу и ждет нас.
Помимо Розы в угловой комнате, примыкающей к читальне, был еще один человек – лохматый и разукрашенный, несмотря на зиму, веснушками парень в подшитых кожей валенках – председатель «Союза анархистской молодежи» «товарищ Семен», как его представила Роза. По его важному нахмуренному лицу легко можно было понять, что он уже знает, зачем его сюда пригласили, и готов к обстоятельному и солидному разговору.
– Ты что это на митинг забрел? – спросила Роза, как всегда забыв ответить на приветствие.
– Да вот думаю, не сменить ли веру.
– Ты-то не сменишь, – усмехнулась она, – ты твердокаменный.
– Уж больно у вас ораторы хороши. Как послушаешь, так и хочется стать под черное знамя с этой, как ее – дубинкой…
Роза нахмурилась: она терпеть не могла моих шуточек. Она была слишком серьезным человеком и о юморе имела приблизительно такое же представление, как я о нильских крокодилах. Большеглазая, смуглая, она была похожа на красавицу цыганку, одну из тех цыганок, которые кружили головы разудалым прожигателям жизни. Ей бы серьги, браслеты, мониста… Но увы, даже свои великолепные косы она и то остригла лет десять назад, решив, что длинные волосы не соответствуют созданному ею образу профессиональной революционерки.
Рычалов ошибался, считая, что я отношусь к Розе недоброжелательно. Штерн была не только красивой и обаятельной женщиной, но и порядочным человеком, хорошим товарищем. Это я признавал. Я лишь отрицал Штерн-революционерку.
В революцию ведет много дорог, и самая худшая из них – дорога, вымощенная романами о жизни «борцов за свободу». В таких романах, понятно, нет вшей, которые жрут тебя в пересыльных тюрьмах, нет вони параш, нудной пытки допросов, зато обязательно присутствует терновый венец. Герои только и мечтают о том, как бы поскорее и «покрасивше» взойти во имя страдальца-народа на костер. При этом подразумевается, что вокруг элегантно и со вкусом выложенного костра обязательно будет стоять скорбящее человечество с цветами в руках. И я сильно подозревал, что в судьбе Розы не последнюю роль сыграл роман Леонида Андреева «Сашка Жегулев», где на протяжении нескольких сот страниц Иисус Христос от революции упорно карабкался на Голгофу, желая во что бы то ни стало пострадать за человечество. Недаром же в революционных кругах она была известна не только как Роза Штерн, но и как Роза Жегулева. Главное – взойти на Голгофу, а все остальное образуется само по себе, как только падет это изобретение дьявола – государство. В тот же миг фабриканты станут честными тружениками всемирного братства, профессиональные убийцы, обливаясь слезами раскаяния, протянут руки помощи сиротам, а шеф жандармского корпуса создаст из своих бывших подчиненных оркестр, который восславит на сладкозвучных арфах царство любви и свободы.
Черт его знает, может быть, в середине XIX века, на заре нашей туманной революционной юности, подобный тип революционера и был нужен. Но всему свое время, а время дилетантов от революции прошло.
Когда вместо революционной позы, романтического порыва и желания покрасоваться на кресте в изящно распятом виде потребовались знания законов развития общества, пропагандистская и организаторская работа в массах, «книжные революционеры» оказались не у дел. Они не любили и не умели писать листовки, разъяснять рабочим азбуку революции, организовывать забастовки, подчиняться партийной дисциплине, ощущать себя частью целого, а тем более растворяться в этом целом. Они по-прежнему хотели изготовлять адские машины, стрелять в губернаторов и красиво всходить на эшафот. А революции, которая стала делом сотен тысяч, это уже не ахти как требовалось. Теперь от взрывов адских машин никто не вздрагивал. Губернаторы постепенно привыкли, что в них за верную службу царю и отечеству обязательно должны стрелять, и, если покушений не было, чувствовали себя даже как-то неуютно. А казни стали слишком многочисленными, чтобы привлекать зрителей. Да и вешали не днем, а ночью, на пустынном тюремном дворе, где никто не мог восхититься мужеством приговоренных.
Постепенно «книжные революционеры» стали ненужным балластом. А после тысяча девятьсот семнадцатого, когда потребовалось не только разрушать старое, но и строить новое, то и помехой для революции. В этом, конечно, была не их личная вина. Но история, которую призывал в судьи оратор на митинге, безжалостна и прозаична. Революция нуждалась в революционерах типа Рычалова, такие, как Штерн, ей были не нужны. Короче говоря, я всегда жалел, что Роза некогда прочла «Сашку Жегулева» и остригла свои роскошные косы…
Штерн, как я понял, была в свирепом настроении: ей крайне не нравилось, что Грызлов оказался замешанным в грязную и глупую историю с Бари и федерация из-за этого вынуждена поступиться своими незыблемыми принципами – Роза искренне считала, что оные существуют, – и оказывать помощь «государственникам», которые только и мечтают о том, как бы ввести революцию в рамки мертвой схемы, и ставят на каждом шагу препоны «истинным революционерам», свято верящим в здоровый инстинкт народа.
Тем не менее, взяв на себя такую неприятную обязанность, она старалась выполнять ее добросовестно. И именно эта добросовестность все осложняла. Роза пыталась с моей помощью и помощью Сухова ввести председателя «Союза анархистской молодежи» в курс расследования ограбления. Причем в этом ей пытались помочь пришедшие несколько позднее Отец и Дима Ритус, присутствие которых при разговоре было уже совсем ни к чему.
Товарищ Семен отмалчивался и ерошил свои лохматые волосы, а троица взяла меня в оборот. Уточняющие, детализирующие и наводящие вопросы следовали один за другим:
Какие следы преступников обнаружены в ризнице?
Можно ли по ним что-либо определить?
Кто подозревается в ограблении?
Кого и о чем допрашивали?
Располагаю ли я какими-либо доказательствами, а если да, то какими именно?
Что я собираюсь предпринять в ближайшее время?
Подобные вопросы ставили нас с Суховым в щекотливое положение. Искренность наших вынужденных помощников вызывала сомнения, поэтому заранее было оговорено не знакомить анархистов с материалами расследования. Ни я, ни Сухов не собирались отступать от этого условия. Но не отвечать тоже было нельзя. Поэтому приходилось изощряться в придумывании уклончивых и ни к чему не обязывающих ответов, а то и просто отшучиваться. Кто мог похитить драгоценности? Если бы мы это знали, то не сидели бы сейчас в Доме анархии…
Предположения? Их слишком много. Зачем зря отнимать драгоценное время у таких занятых людей, как Штерн, Отец, Ритус? Нет, мы не чувствуем себя вправе делать это. Да и зачем товарищу Семену наши предположения? Они будут только сбивать его с толку. Допросы? Формальность, ничего существенного, возле да около.
От таких ответов Роза Штерн накалялась, а голос «динамитного старичка» становился все более и более ласковым, как всегда, когда его гладили против шерстки или, по выражению Рычалова, против щетинки… Почему-то Отцу очень хотелось, чтобы мы выложили на стол все наши карты, все до единой. Он апеллировал к нашим революционным эмоциям – не действовало. К логике – напрасно. К целесообразности – бесполезно. Убедившись наконец в тщетности своих усилий, он уже совсем паточным голосом сказал:
– Плохо работаете, товарищ Косачевский, ай как плохо!
– Куда хуже, – с готовностью согласился я.
– Ризницу-то дней десять как экспроприировали, верно?
– Что-то в этом роде.
– А у вас до сих пор никакой ясности, – добавил он в свой голос еще ложку патоки.
– Увы?
– Выходит, нам на пустом месте придется работать? – спросила Роза.
– Выходит, так. Но если федерацию не смущают стотысячные полчища немцев, – сказал я, – то неужто, используя свои богатейшие и многосторонние связи в уголовном мире, – старичок доброжелательно улыбнулся, – она не справится с несколькими бандитами?
Роза пилюлю проглотила молча, только слегка поморщилась, а старичок, продолжая доброжелательно улыбаться мне, сказал:
– Боюсь все-таки, что трудно будет в таких условиях товарищу Семену.
Последняя фраза у него получилась до того приторной, что меня стало слегка подташнивать.
– Трудно-то трудно, – согласился я, – но разве трудности должны нас смущать? Ведь нам тоже было трудно рассеять тень подозрений, которая легла на идейного анархиста товарища Грызлова в связи с делом о похищении Бари. Однако мы почти ее рассеяли…
– Почти? – спросил Ритус.
– Почти, – подтвердил я. – Окончательно мы эту тень рассеем, когда будут найдены драгоценности ризницы и грабители, их похитившие.
Ритус хохотнул, а Отец упрямо сказал:
– Мы, конечно, приложим все усилия, но товарищу Семену будет трудно в таких условиях оказать вам реальную помощь.
Во время всего этого разговора мохнатый и толстогубый товарищ Семен молчал и лузгал семечки, аккуратно сплевывая шелуху в кулак. Со стороны могло показаться, что все происходящее не имеет к нему абсолютно никакого отношения.
– Чего молчишь? – спросил у председателя «Союза анархистской молодежи» Сухов.
Товарищ Семен облизнул языком губы и растянул их в улыбке. Улыбка у этого парня была одновременно и добродушной и хитрой.
– Когда все пусторюмят, то одному не грех и помолчать…
– И долго еще отмалчиваться собираешься?
– Нет, не долго.
– Так что скажешь?
– Ежели требуется, то, как полагаю, отыщем тех деловых, что в церковных закромах шуровали.
– И без протоколов допросов? – усмехнулся Сухов.
Товарищ Семен постучал себя пальцем в лоб:
– Тут у меня протоколы почище ваших. Все тут. Напрямки говорю: ежели требуется, отыщем и возвернем. У нас подноготников хватает.
– А как искать собираешься?
– Это уж моя забота. Это дело мы у себя в союзе обкашляем.
Кажется, планами Отца подобное заявление председателя «Союза анархистской молодежи» не предусматривалось: он перестал улыбаться, и физиономия его поскучнела. Роза недоуменно пожала плечами: стоило столько времени молчать, чтобы в конце концов высказаться подобным образом. Старались упростить ему задачу, а он так ничего и не понял…
Зато Дима Ритус, обладавший завидной способностью всегда и всему радоваться, ликующе сказал:
– Каких орлят федерация вырастила, а?
– Итак, будем считать, что совещание окончено, – сказал я. – Будем надеяться, что товарищ Семен слов на ветер не бросает…
Товарищу председателя Московского совета
Милиции господину Косачевскомув собственные руки.
Москва. Сыскная милиция
Милостивый государь!
Выполняя настоятельную просьбу его высокопреподобия архимандрита Димитрия, обращаюсь к Вам с настоящим письмом. Льщу себя надеждой, что его высокопреподобие, полагающийся на Вашу порядочность, не ошибается и Вы действительно пытаетесь добросовестно разобраться в обстоятельствах происшедшего и возвратить России ее исторические ценности. Ежели это так, то прошу принять и мою посильную лепту.
В середине прошлого года, когда я исполнял должность заместителя начальника Царскосельского гарнизона, некоторые мои друзья, опасаясь столь распространившихся в несчастной России грабежей, разбоев и обысков, попросили меня взять на сохранение их драгоценности. В связи с этим была составлена надлежащая опись, копии которой Вы обнаружили у моего отца, барона Григория Петровича и ювелира патриаршей ризницы господина Кербеля.
Тогда моими услугами, в частности, пожелали воспользоваться ныне пребывающие за границей граф Басковский, владелец бесценного «Батуринского грааля», мой старый фронтовой товарищ ротмистр Грибов, которому принадлежало выдающееся произведение русского ювелирного искусства «Золотой Марк», баронесса Граббе и некоторые другие, чьи имена я не считаю себя вправе назвать, поскольку они в настоящее время находятся в пределах России и моя нескромность может им повредить.
После отчисления от должности заместителя начальника Царскосельского гарнизона я оказался в затруднительном положении, выход из которого нашел мой брат Олег Григорьевич (в иночестве Афанасий). По его просьбе настоятель Валаамского монастыря его высокопреподобие архимандрит Феофил любезно согласился поместить ценности в ризнице монастыря. Там они находились до декабря 1917 года, пока не возникла опасность их утери. Каким-то образом среди монастырской братии распространился слух об этих ценностях, и брат опасался, как бы он не дошел до Сердобольского уездного Совета, который как раз пытался отобрать у монастыря часть его имущества. В том же письме брат предлагал испросить согласия у его высокопреподобия архимандрита Димитрия, который прежде был настоятелем Валаамского монастыря, на помещение этих ценностей в хранилище Московской патриаршей ризницы. Когда в том же месяце я вместе с кузиной навестил брата, он мне показал ответ Димитрия. Тот писал, что весьма сожалеет, но вынужден отказать, ибо назначение патриаршей ризницы общеизвестно, и он не считает себя вправе расширительно толковать его. Поэтому я был весьма благодарен старому другу нашей семьи почетному потомственному гражданину Петру Васильевичу Арставину, который, приехав по делам из Финляндии в Петроград, навестил меня и обещал оказать посильное содействие, используя свои старые связи в хозяйственном управлении Синода и Московской духовной консистории. Арставин сдержал слово: московский митрополит дал свое согласие, и во время очередной визитации в Москву я привез с собой ценности, кои были помещены в патриаршей ризнице.
Я считал, что доверенные мне ювелирные изделия находятся в надежном месте, но, учитывая неодобрительное отношение его высокопреподобия архимандрита Димитрия, к которому я всегда испытывал глубокое уважение, я пытался найти другое место для их хранения. К несчастью, мне это не удалось.
О дальнейшем вы знаете не хуже меня. Прочитав сообщение об ограблении патриаршей ризницы, я немедленно выехал в Москву. В телеграмме господину Кербелю я просил последнего встретить меня на вокзале. Когда ювелира там не оказалось (он должен был ждать меня в буфете первого класса), я поехал к нему на квартиру. Кербеля я не застал, но госпожа Кербель подтвердила мои самые страшные опасения. Она сказала, что ее брат потрясен случившимся и, чувствуя передо мною вину, хотя винить его в чем-либо было бы, конечно, несправедливо, специально уклонился от встречи со мной.
В заключение, господин Косачевский, хочу сообщить Вам об обстоятельствах, которые, возможно, представят для сыска некоторый интерес. Когда мы привезли ценности в Москву (в целях безопасности меня сопровождал мой товарищ), мне показалось, что за нами следят. Во всяком случае, мне дважды попадался на глаза некий сухощавый господин среднего роста в черной широкополой шляпе, который пытался со мной заговорить. Кроме того, на третий день нашего пребывания в Москве, когда ценности уже находились в патриаршей ризнице, на моего товарища вечером было совершено вооруженное нападение. Грабители отобрали баул, в котором мы везли из Петрограда ценности, и оружие. Товарищ мне говорил, что среди нападавших был, кажется, и господин, о котором я упомянул. Впрочем, он в этом до конца не был уверен, так как напали на него вечером и рассмотреть лица грабителей было трудно.
Сожалею, что вынужден уклониться от личных объяснений, но не думаю, что смог бы что-либо добавить к изложенному.
Не буду кривить душой и уверять Вас в своем уважении и преданности.
В.Мессмер
Из протокола допросаювелира патриаршей ризницыгражданина Кербеля Ф.К.,
произведенного агентом первого разряда
Московской уголовно-розыскной милиции
Суховым П.В.
Гр. Кербелю разъяснено историческое значение происходящих событий, и он своим честным словом обязался перед лицом мирового пролетариата и Российской социалистической революции говорить только правду.
К Е Р Б Е Л Ь. Прочитав письмо барона Мессмера, адресованное господину Косачевскому, признаю, что на прошлом допросе, который снимал с меня инспектор Борин, я говорил неправду. Опись, обнаруженная у меня при обыске, передана мне не ювелиром Перельманом, а бароном Василием Мессмером в конце прошлого года. В ней перечислены драгоценности, сданные бароном для сохранения в патриаршей ризнице.
С У Х О В. Кто вам разрешал взять на хранение в патриаршую ризницу ювелирные изделия, привезенные из Петрограда гражданином Василием Григорьевичем Мессмером?
К Е Р Б Е Л Ь. Ювелирные изделия были помещены в ризницу по воле его высокопреосвященства митрополита Московского.
С У Х О В. Архимандрит Димитрий знал об указании митрополита?
К Е Р Б Е Л Ь. Разумеется. Он не мог не знать.
С У Х О В. Как он относился к этому?
К Е Р Б Е Л Ь. Неодобрительно. Крайне неодобрительно. Его высокопреподобие написал патриарху, что считает себя отстраненным от обязанностей ризничего. И действительно, после того как шкатулки гражданина барона оказались в хранилище патриаршей ризницы, его высокопреподобие перестал навещать ризницу, считая, что она уже больше не находится на его попечении. Он пришел туда лишь после того, как его святейшество патриарх Тихон лично заверил его, что митрополит действовал по своему усмотрению и что в самое ближайшее время гражданин барон заберет свои драгоценности из ризницы.
С У Х О В. Во время этого посещения и выяснилось, что ризница ограблена?
К Е Р Б Е Л Ь. Да. Архимандрит не посещал ризницу две недели.
С У Х О В. Почему архимандрит был против того, чтобы драгоценности Мессмера хранились в ризнице?
К Е Р Б Е Л Ь. Его высокопреподобие считает, что церковь должна стоять в стороне от мирских дел.
С У Х О В. Профессор Карташов, которого мы ознакомили с изъятой у вас описью, сообщил нам необходимые для розыска сведения о «Батуринском граале», «Двух тронах», «Золотом Марке» и «Гермогеновских бармах». Не сможете ли вы сделать то же самое в отношении остальных двадцати восьми предметов, перечисленных в списке?
К Е Р Б Е Л Ь. Весьма сожалею, но это не в моих силах. Большая часть ювелирных изделий описи мне незнакома. Я могу лишь рассказать о броши «Северная звезда», которую сделали в мастерской Мелентьева в Риге, и о колье «Двенадцать месяцев». Брошь «Северная звезда» относится к бриллиантовым украшениям типа Нового Ренессанса…
С У Х О В. Как это понимать?
К Е Р Б Е Л Ь. Последние столетия мастера обычно вставляли бриллианты в оправу, группируя их в виде цветов и букетов. При этом один лепесток полностью или частично прикрывал другой. Такая оправа мешает в полной мере проявиться огню бриллианта. Бриллианты в ней не сверкают, а мерцают. Старые же мастера эпохи Ренессанса хотя и допускали ошибку, делая оправу не из серебра, а из золота (золото портит бриллиант, придавая ему желтый оттенок), но зато окружали камни черной фольгой и располагали их на одной плоскости чаще всего звездообразно. «Северная звезда» сделана из серебра в виде узорчатой двенадцатиконечной звезды, напоминающей большую снежинку. Звезда усыпана маленькими бриллиантиками «пти-меле». В центре ее в оправе из черного цейлонита – пять крупных бриллиантов, ограненных маркизой. Вес каждого из них около пяти каратов. «Северная звезда» принадлежала госпоже Шадринской.
С У Х О В. А что собой представляет колье?
К Е Р Б Е Л Ь. Это очень красивая вещь, которую делал настоящий художник. Колье было заказано в Париже к празднествам в честь трехсотлетия дома Романовых графиней Гендриковой. Об этом колье знают ювелиры и в Петрограде и в Москве. Оно оценивалось в семьдесят пять тысяч рублей.
С У Х О В. Почему его назвали «Двенадцать месяцев»?
К Е Р Б Е Л Ь. Каждому месяцу в году соответствует свой камень. Если вы появились на свет в январе – ваш покровитель гранат. Это зимний камень, с него начинается год. Вы его должны носить с собой, и он принесет вам счастье. Если вы родились в ноябре – ваш спутник топаз… Помимо благородного опала-арлекина, в колье двенадцать пар камней, соответствующих месяцам года. Гранаты – это январь, аметисты – февраль, ясписы – март, синие сапфиры – апрель, темно-зеленые, как первая трава, изумруды – май, агаты – июнь. Об июльском солнце напоминают рубины, об августе – сардониксы, о сентябре – хризолиты. Аквамарины – октябрь, желтые топазы – ноябрь, голубая бирюза – декабрь. Все парные камни огранены в старинной манере плоским дикштейном и оправлены в ободки из матового золота. От застежки к передней части ожерелья, где подвешен опал, размеры камней постепенно возрастают. Самые маленькие камни весят не более трех каратов, а самые крупные парные камни достигают двенадцати. Опал-арлекин овальной формы, без оправы. Он огранен двойным симметричным кабашоном. Его вес около двадцати каратов. Вместе с агатами-дендритами он составляет тупой угол. Это великолепный просвечивающийся опал молочного цвета с яркой игрой разнообразных цветов, которые располагаются на нем как бы в форме треугольника. В отличие от обыкновенного или огненного, такой опал почти не боится сырости и его красота долговечна.
С У Х О В. Почему его называют арлекином?
К Е Р Б Е Л Ь. Наверное, потому, что он такой же пересмешник, как арлекин. Он любит шутить и передразнивать другие камни. Опал-арлекин в колье – белый, но он отливает нежно-фиолетовым цветом аметиста, вспыхивает ярко-синим сапфиром, мерцает изумрудом, желтым топазом, переливается красным цветом рубина. Это веселый камень, он неистощим на выдумки. Им можно любоваться часами, и его невозможно имитировать в стразах.
С У Х О В. Этот опал в колье тоже что-то обозначает?
К Е Р Б Е Л Ь. Да. Опал – символ надежды. Опалом в колье графиня хотела выразить свою надежду на дальнейшее благоденствие трехсотлетней династии Романовых в России.
С У Х О В. Надежда графини не оправдалась…
К Е Р Б Е Л Ь. Да. Но опал-арлекин в этом не виноват.
С У Х О В. Что верно, то верно: опал тут ни при чем. Какие еще в колье имеются примечательные камни?
К Е Р Б Е Л Ь. Агаты-дендриты.
С У Х О В. Дендрит – это халцедон с изображением внутри дерева?
К Е Р Б Е Л Ь. Оказывается, вы сведущи в камнях. Я не знал об этом. Да, дендрит – это халцедон с изображением дерева. Но бывают и такие дендриты, в которых видны люди, животные, птицы.
С У Х О В. Так что вы хотели сказать об агатах из колье?
К Е Р Б Е Л Ь. Агаты из колье «Двенадцать месяцев»… Мне много приходилось работать с агатами. Агат благородный и изящный камень. Его окрашенные в различные цвета слои причудливы и настолько тонки, что иной раз в камне толщиной в дюйм их можно насчитать более десяти тысяч. В колье графини очень хорошие образцы этого камня. Оба дендрита относятся к редко встречающейся разновидности так называемого «радужного агата». Такие камни в проходящем свете играют всеми цветами радуги. Но еще более примечательны изображения в этих агатах-дендритах. В одном из дендритов под голубым небом раскинулось ветвистое дерево, а в другом хорошо различимы силуэты двух скачущих всадников. Хотя агат и не относят к драгоценным камням, но эти дендриты – достойные соперники опала-арлекина.







