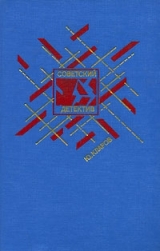
Текст книги "Розыск. Дилогия"
Автор книги: Юрий Кларов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Миша Арставин, нагловатый парень с томными глазами и пухлым ртом, не слишком стремился «засвидетельствовать» слова своего приятеля с Сухаревки. Он бы вообще предпочел оказаться в эти дни подальше от Москвы. Но он был практиком, поэтому понимал, что бессмысленное запирательство к добру не приведет и от «уголовки» можно ожидать еще больших неприятностей, чем от Махова. Поэтому мы с ним вскоре поладили… После перекрестного допроса и очной ставки с Пушковым Арставин подтвердил, что действительно жемчужины отдал Дублету не кто иной, как сам Никита Африканович. И произошло это в присутствии его, Арставина. Дальше дело пошло еще успешней.
Мы провели несколько очных ставок между Пушковым и Арставиным, а затем свели их с Дублетом. Дублет ершился недолго. Под напором осмелевшего от страха «вышеозначенного» и Михаила Арставина он стал сдавать свои и без того шаткие позиции.
Теперь, сопоставляя протоколы допросов, можно было получить некоторое представление об интересующих нас событиях и о той роли, которую играл в них Махов.
Выяснилось, что купеческий сын познакомился с Маховым еще в 1909 году и с тех пор постоянно поддерживал с ним отношения.
Именно Арставин и свел Дублета с Маховым. Махов обласкал Дублета, пригрел и приспособил к делу. Он же дал деньги на оборудование подпольной мастерской по изготовлению фальшивых драгоценностей и подыскал Дублету помощников-мастеров. Продукция мастерской сбывалась через коммивояжеров Махова не только в Москве, но и в других городах: Петербурге, Киеве, Тифлисе, Самаре, Саратове, Владикавказе. В лавке «вышеозначенного» Махов устроил что-то вроде склада подделок (во время обыска мы там обнаружили под полом около трехсот стразов и дублетов, свыше сотни перстней, браслетов и сережек из фальшивого золота).
Сама мастерская помещалась, вначале на Маховке. А затем, когда туда зачастила полиция, была переведена на Солянку в задние комнаты обширной квартиры поборницы прав московских проституток Лизы Тесак, которая, кстати говоря, немало способствовала процветанию подпольной торговли.
Туда, на квартиру к Лизе Тесак, Махов и привез похищенные в ризнице самоцветы. Среди камней, с которых Дублету предстояло снять копии, были бриллиант «Иоанн Златоуст», три черные жемчужины-парагоны, астерикс «Схимник» с посоха патриарха Филарета, бесцветный бриллиант «Слеза богородицы», рубин-оникс «Светлейший» и жемчужина «Пилигрима».
Когда Дублет сделал стразы (их предполагалось пустить в оборот, как только в газетах появятся сообщения об ограблении ризницы; Пушков даже составил список тех, кто, видимо, захочет купить «похищенные драгоценности»), Махов забрал у него подлинные камни и куда-то их увез.
Во второй приезд Махова сопровождал Мишка Мухомор, который в 1917 году привлекался по делу об ограблении ювелирного магазина Гринберга на Кузнецком мосту и судьбой которого я интересовался у Сухова после ограбления патриаршей ризницы.
Затем через два или три дня Мишка Мухомор разыскал Дублета в трактире Лазутина на Солянке и привел к Махову. Тогда-то Махов и поручил Дублету продать тридцать семь жемчужин, которые купил по дешевке член союза хоругвеносцев. Из выручки Махов отсчитал за труды полторы тысячи рублей, а остальные оставил себе. Две жемчужины он, по утверждению Арставина, подарил Лизе Тесак.
Махов никому не говорил, откуда взялись привезенные им камни, и его никто об этом не спрашивал. Но словоохотливый Мишка Мухомор, которому, видимо, что-то перепало, под пьяную лавочку проговорился Дублету и Пушкову, что камешки не откуда-нибудь, а из самой патриаршей ризницы. По его словам, ризницу «брали не наши». Махов ничего не знал о готовящемся ограблении и был раздосадован, что его обошли. Кажется, грабители не хотели восстанавливать против себя влиятельного министра вольного города. Во всяком случае, после ограбления они предложили ему купить похищенные драгоценности. Махов охотно согласился, но «не наши» заломили такую цену, что Никита Африканович, поторговавшись, вынужден был отступиться. Единственное, чего он добился, – это согласия «не наших» дать ему на время наиболее ценные камни, чтобы снять с них копии.
Неуступчивость контрагентов могла для них печально кончиться («Перышки-то на Хиве завсегда вострые, а Никиту Африкановича атаман никому в обиду не даст»). Видимо, понимая это и желая умилостивить Махова, «не наши» и подарили ему часть похищенного жемчуга.
Кто именно «брал ризницу», Арставин, Пушков и Дублет не знали. Так они, по крайней мере, утверждали, и я склонен был им поверить.
Мишка Мухомор, как мы уже знали (после ограбления ризницы Сухов наводил о нем справки), уехал из Москвы в Псков, который теперь был захвачен германскими войсками. Правда, Волжанин уверял меня, что сможет пробраться в Псков, разыскать Мухомора и доставить в Москву, но предлагаемый им план был настолько фантастичен, что и его сразу же отверг. Следовательно, на «не наших» мог вывести лишь сам Махов. А добраться до него было сложно. Хитровка являлась своеобразной крепостью, которую одинаково трудно было взять как штурмом, так и планомерной осадой. Но другого выхода как будто не имелось…
Подготовку операции я поручил Сухову, Хвощикову и Волжанину. Однако осуществить ее нам не привелось…
Когда Павел Сухов пытался убедить меня, что для оцепления Хитрова рынка и прилегающих к нему переулков потребуется никак не меньше трехсот красногвардейцев, в кабинет вошел дежурный субинспектор и доложил, что меня хочет видеть какой-то гражданин.
Этим гражданином оказался не кто иной, как товарищ Семен.
Молча сунув мне и Сухову свою жесткую руку, товарищ Семен огляделся. Более чем скромная обстановка моего кабинета его разочаровала: в Доме анархии было куда как роскошней. А тут что? Ни мягких кресел, ни широких диванов, ни картинок на стенах. Да и стены обшарпаны. Одно слово – «уголовка»!
– Семечками пришел угостить? – спросил Павел.
– Не, – мотнул лохматой головой гость. – Дело есть.
– Выходит, «обкашляли» в своем союзе? – спросил Павел.
– А как же? Обкашляли. Говорил я с товарищами блатными…
Сухов улыбнулся:
– Блатные что? С «товарищами блатными» и мы говорили…
– Знаю, – кивнул товарищ Семен. – Про то, что Пушка и Дублета замела «уголовка», вся Хива знает.
– А про что Хива не знает? – в тон ему сказал Павел. – Хива про все знает.
– Не, – возразил товарищ Семен. – Про то, кто брал ризницу, Хива не знает. Про то только Никита Африканович знает.
Сухов многозначительно посмотрел на меня. Он, впрочем, как и я, уже не рассчитывал на то, что недавний разговор в пропагандисткой отделе Московской федерации будет иметь какое-либо продолжение.
Председатель «Союза анархистской молодежи» был не из торопливых. Он не спеша расстегнул крючки полушубка, снял и пристроил на коленях свою заячью шапку. Достал из кармана вышитый кисет.
– Давеча я беседу с товарищем Никитой Африкановичем Маховым имел…
– Ну, ну, – поторопил его Сухов.
– Товарищ Никита Африканович заявляет, что от Николашки и гражданина Керенского он ничего, окромя притеснений, не имел и против трудового народа не пойдет, – торжественно сказал товарищ Семен. – Потому Никита Африканович желает оказать с ризницей помощь рабоче-крестьянской власти.
– Похвальное желание, – одобрил я. – Этот пламенный борец за идеалы народа здесь?
– Никита Африканович-то?
Товарищ Семен вытащил изо рта самокрутку и посмотрел на меня недоумевающими глазами. Ну и ну, отмочил штуку. Никиту Африкановича ему подавай! Но что возьмешь с нового человека, который не знает, что к чему? Какой с него спрос? Чтобы Махов собственной персоной пожаловал в сыскную – придет же такое в голову! Нет, Никита Африканович не из таких. Никита Африканович предлагает встретиться в трактире Телятникова на Солянке. Сегодня, в восемь вечера. Там и ему и мне сподручней будет. За тем товарищ Семен и пришел. Как я отыщу Махова? А искать не придется: меня к нему проводят. Люди Никиты Африкановича меня в личность знают. В лучшем виде доставят… Пушок и Дублет? А что Пушок и Дублет? Разговор будет не о них. Разговор будет о ризнице. Чего ему, Махову, о Пушке и Дублете попечение иметь? Никита Африканович так считает: сами в дерьмо вляпались, пусть сами его с себя и слизывают. Никита Африканович за них не заступник. И за Мишу Арставина не заступник. Не жалует он ветродуев. Никита Африканович хотя и не анархист, а к индивидуальной личности уважение имеет и с «Союзом анархистской молодежи» ладит. Сомневаться в нем нечего.
О Махове товарищ Семен говорил с не меньшим почтением, чем о князе Кропоткине.
– Ну что ж, подумаем, – сказал я.
– Подумайте, – сказал юный вождь хитровских анархистов и стал застегивать свой полушубок.
– А не взять ли нам, Леонид Борисович, этого «борца за народ» прямо в трактире? – предложил Павел, когда товарищ Семен, завершив свою дипломатическую миссию, ушел, оставив после себя крепкий запах самосада, мокрые следы валенок на полу и противоречивые мысли. – Возьмем десятка полтора ребят из боевой дружины, обложим со всех сторон заведение Телятникова да и прихлопнем как муху.
– Так «хлопнешь» – только руку себе отшибешь, – возразил Хвощиков.
– Совершенно справедливо, – поддержал его Борин. – Трактир Телятникова – вроде ящика с двойным дном.
– Потайные ходы в нем, – объяснил Хвощиков.
– Да-с, потайные ходы. Махов, Леонид Борисович, не зря там встречу назначил: в случае чего под пол уйдет – и поминай как звали. Мы у Телятникова несколько облав проводили – как вода сквозь решето. Хитрый трактирчик. Только вспугнем Махова. Да и какой резон теперь его арестовывать?
– Резон-то, положим, есть, – возразил Сухов.
– Какой? Махов сам ищет встречи. Нет резона, уважаемый Павел Васильевич. Арест лишь усложнит обстановку. А вот над охраной Леонида Борисовича, ежели он пожелает встретиться с Маховым, подумать не мешает…
Встреча с королем барыг в трактире Телятникова мне не улыбалась, однако я понимал – Борин прав: упускать такую возможность нельзя.
IVЗаведение Телятникова находилось в самом центре торговой Солянки, между мрачным солидным зданием Купеческого общества, где с апреля семнадцатого размещался Комитет торгово-промышленного союза, и меблирашками Ерпенева. В отличие от Большого Патрикеевского трактира Тестова, который славился поросятиной, расстегайчиками в гурьевской кашей, или, допустим, «Саратова», где купцы лакомились соляночкой, бесподобными котлетами а ля Жердиньер и ачуевской паюсной икрой, трактир Телятникова никогда не был пристанищем для гурманов. Кормили здесь неважно, а то и просто плохо.
Тем не менее «Теленочек», как ласково именовали трактир его завсегдатаи, никогда не пустовал. Здесь были свои немаловажные преимущества.
Любители коммерческих игр могли перекинуться в карточном зальчике в пикет, безик, сибирский винт или мушку. Для тех, кто любит погорячить кровь азартом, находились партнеры для рамса, фаро, штосса и базета. Не оставались внакладе и ценители дамского общества. Стоило лишь мигнуть разбитному половому – и пожалуйста, только выбирай. На все вкусы.
Но главное было не это. Главным были молчаливая скромность видавшей виды прислуги и полнейшая безопасность, в которой нуждались многие посетители. Телятников почище страхового общества «Якорь» страховал своих клиентов от всяких неприятностей, и в первую голову от нежелательных встреч с полицией. В дела завсегдатаев «Теленочка»: сомнительных дельцов, аферистов, скупщиков краденого, шулеров и молчаливых солидных громил – он не вмешивался, хотя и не одобрял, когда из трактира приходилось вытаскивать чей-то труп и подбрасывать его на соседнюю Хитровку.
Полиция в трактир носа не совала. А уж если совала (то ли на лапу забыли дать, то ли новый дурак в участке объявился), хорошего клиента тут же препровождали из трактира через потайной подземный ход. И получаса не прошло, а он уже за столиком в трактире «Пересыльный» в доме Румянцева или на Кулаковке в заведении Афанасия Поликарповича Тараканова. Пьет себе смирновочку да посмеивается…
– Счастливо повеселиться, ваше здоровье! – весело пожелал мне лихач и отъехал в сторонку, где уже стояло несколько саней, а извозчики, собравшиеся в кучку, обсуждали свои дела.
За марлей падающего хлопьями снега покачивались под вывеской трактира привешенные на цепочках медная бутылка в окружении латунных лафитничков и тупорылая, похожая на акулу, селедка. Когда-то здесь еще болталась и громадная вилка, но ее кто-то по пьяному делу оборвал.
У чугунного фонарного столба, почти сливаясь с ним, стоял сиротливо Артюхин. Чуть подалее, в подворотне меблирашек, светился огонек папироски Волжанина.
По проезжей части улицы пронеслась одноместная «эгоистка», в которой сидел, сгорбившись и подняв воротник хорьковой шубы, солидный господин.
Откуда-то, со стороны Хитровки, донесся хлопок выстрела. Один, другой… В меблирашках сипло и разухабисто орали: «Я гуляю, как собака, только без ошейника! Кого бьют, кого колотят? Все меня, мошенника!…»
Из ярко освещенных полуподвальных окон трактира рвались на улицу шум пьяных голосов, тонкий визг скрипки, женский смех. Верхние окна были зашторены, лишь кое-где проглядывал сквозь шторы свет.
Восемь часов вечера – «час убийств». Сейчас в дежурке уголовно-розыскной милиции звенели тревожно телефоны. И после каждого телефонного сообщения дежурный инспектор аккуратно записывал в журнал регистрации: «На… спине обнаруженного на Чистых прудах трупа мужского пола множественные колотые и резаные раны, в результате коих и наступила смерть…», «При убитой выстрелом в лицо гражданке документов не обнаружено. Смерть вышеуказанной гражданки последовала в результате огнестрельного ранения…»
С шумом растворилась дверь трактира, заклубилась густым морозным паром. Мускулистый, голый по пояс татарин, густо покрытый затейливой татуировкой, и низкорослый крепыш в чуйке вытащили за руки и за ноги пьяного. Раскачав, как бревно, бросили на обледеневший от помоев сугроб.
– И-их! – тонко взвизгнул татарин и засмеялся.
Плашмя ударившись боком о ледяной наст, пьяный сполз на панель.
«Хулиганом я родился, хулиганом и помру. Если голову отломят, я полено привяжу…» – захлебывались пьяным весельем меблирашки.
Выгнувшись гусеницей, пьяный встал на четвереньки. Роняя на снег капли крови из разбитого носа и мотая головой, заскулил, зафыркал. Попытался подняться на ноги и снова упал.
– Свинья поганый! – сказал татарин и пхнул пьяного носком валенка в бок. – Пьяный морда!
На левой стороне груди татарина была вытатуирована виселица. На ней висел, расставив ноги, человечек. Под ним полукругом надпись: «Виси кореш у маево серца».
Напарник татарина заметил меня. На знакомом мне еще по бурсе «перевертыше» сказал:
– Глядипо ан гоэто.
– Жуви, – ответил татарин.
– Жиська, но, Ахметка.
– Но, но, – подтвердил татарин. [2]2
– Погляди на этого.
– Вижу.
– Кажись, он, Ахметка.
– Он, он.
[Закрыть]
– К Никите Африкановичу? – обратился ко мне крепыш.
– К нему.
– Ждем, ждем.
В гардеробе он помог мне раздеться. Стряхнул снег о пальто и шапки.
– Ждут вас Никита Африканович. Очень ждут.
Я услышал, как хлопнула входная дверь, – это в трактир вошли Артюхин и Волжанин.
– Пожалуйте…
Татарин повел меня через узкий длинный зал, наполненный папиросным дымом и кухонным чадом. Зал гудел голосами, звенел вилками и ножами, чавкал, вскрикивал, рыгал, пел. На маленькой, забившейся в угол эстраде раскачивался маятником худосочный молодой человек в длинной бархатной блузе с бантом – то ли начинающий поэт, то ли именитый карманник. Худосочный махал руками и что-то говорил, но слов из-за шума разобрать было нельзя.
Толстяк под фикусом тупо и сосредоточенно лил вино из бутылки на голову уткнувшегося лицом в тарелку соседа.
Держа друг друга за грудки, матерились двое «деловых». Жеманясь и хихикая, терлись у простенка молодые люди с крашеными губами и подведенными глазками. Хитрованский босомыжник на потеху публике грыз зубами стопку. Некто багровый и расхристанный хлопал босомыжника по спине и кричал:
– Жри, друг, за все плачу!
Лысый, в офицерском кителе со споротыми погонами, расставив ноги, щелкал языком: «Гоп-гоп-гоп!» Он изображал лошадь: на одном его колене подпрыгивала в такт курцгалопу пьяная до изумления девочка с размазанной по лицу помадой, на другом тряслась, вцепившись в край стола, пышнотелая матрона с валиком волос над выщипанными бровями. Видно, лошадь проскакала уже не одну версту: голый череп офицера был в крупных каплях пота, пот струнками скатывался по щекам к плохо выбритому острому подбородку. «Гоп-гоп-гоп…»
Офицер мешал проходу. Татарин без видимого напряжения – лишь задергал ногами висельник на безволосой груди, – сдвинул стул со всеми тремя в сторону:
– Свинья пьяный!
Чудом удержавшись на стуле, офицер поднял глаза и неожиданно трезвым голосом скорбно сказал:
– Там – германцы, тут – татары…
– Не связывайся с Ахметкой, Петенька, – изувечит, – обняла его за шею пышнотелая.
– Тьфу, свинья пьяный! – плюнул татарин на покрытый опилками пол.
Он молча провел меня мимо буфетной на кухню, где между раскаленными чадящими плитами метались красные от жара повара в грязных колпаках. Ни слова не говоря, показал рукой на низкую дверь. Мы оказались в полутемном коридоре, затем свернули в другой, поуже. Свернули направо, еще раз направо. Татарин распахнул обитую войлоком дверь и отдернул тяжелую штору:
– Привел, Никита Африканович.
– Вот и хорошо. Хлеб да соль!
В комнате горели лишь две или три свечи, слабо освещая заросшее пегой курчавой бородой лицо кряжистого человека. Он сидел на лавке за непокрытым скатертью столом, на котором стояло несколько длинных бутылок довоенного пива «Санценбахер» с фарфоровыми пробками, окутанными проволочкой, графин смирновки, какая-то закуска на плоских тарелках, пивные кружки и стопки.
Махов неспешно приподнялся, упираясь ладонями в столешницу. Не разгибаясь, окинул меня взглядом. Его цепкие, темные под кустиками густых бровей глаза нащупали в боковом кармане моего пиджака браунинг. Он ухмыльнулся:
– А револьвер-то к чему, Леонид Борисович?
– Привычка, Никита Африканович.
– Разве что так. Привычка – оно, конечно. А так-то револьверт здесь ни к чему. Не любят здесь револьвертов. Да и не стрельнешь здесь из револьверта – не успеешь: упредят. Здесь народ хоть и конобойный, а все по-тихому любит, без пальбы… Здесь вот так, – он выразительно провел ребром ладони по горлу и, сжав руку в кулак, вскинул ее вверх. – Вон как! – Он тихо засмеялся и огладил бороду.
За моей спиной скрипнула половица – я обернулся. Татарин, легонько наклонившись вперед, стоял у задернутой шторы, застыв изваянием. Мускулы напряжены, но недвижны, глаза-щелки, губы – в блаженной улыбке, в уголках рта – пузырьки слюны. В руках у татарина был витой шелковый шнур, который он перебирал пальцами.
Мигнул бородатый разбойничек за столом – хоп! – и захлестнулась удавка. Врезался шнур в горло – не разорвешь, не вырвешься, не снимешь. Все туже и туже затягивается мертвая петля… Без пальбы, без шума – лишь хрип, по-тихому…
Только врешь ты, Никита Африканович, «министр вольного города Хивы». Врешь. Не для того ты меня сюда звал. Не мигнешь ты татарину – это тебе так же ни к чему, как мне сейчас револьвер. Просто веселый ты разбойничек, Никита Африканович.
Кто для веселья водку пьет, а кто удавочкой балуется…
– А это что? Тоже привычка? – кивнул я на татарина.
– Выходит, так. У вас револьверт – у меня Ахмет. – Он ощерил в улыбке крепкие зубы.
– Хват! Ничего не скажешь – хват!
Каждому весельчаку приятно, когда находится человек, способный оценить его шутку. Махов не был исключением. Засмеялся, глядя на нас, и татарин: он тоже был веселым человеком.
– Вот так, вот сяк, вот и эдак, вот и так! – сказал Махов и разлил водку по стопкам. – С приятным человеком и поговорить приятно. Иди, Ахмет, – кивнул он татарину. – А товарищей сыскарей, что прихряли с Леонидом Борисовичем, как положено, прийми. Наверх их проводи – и поспокойней им там будет, и почище. А то как бы матросу внизу золотые зубы не вылущили… Пущай за мой счет накормят. Только без самопляса – на службе.
Оказывается, не зря Борин и Хвощиков с почтением относились к этому бородачу: сыскное дело у него было поставлено получше, чем у нас…
Татарин неслышно ушел, задернув за собой штору.
– Телохранитель?
– Шестерка, по-нашему. Да только козырная… Такая шестерка и туза прихлопнет.
– Или придушит.
– Или придушит, – согласился он и вновь ощерил в улыбке зубы. – Одна беда – татарин. Бездушный, значит.
У самого Махова душа, понятно, имелась, и в свободное от дел время он о ней заботился. Поэтому, как я понял из дальнейшего разговора, Никита Африканович не сомневался, что ей уже давно приготовлено место в раю, где она будет распевать хоралы в обществе херувимов и серафимов. Правда, он не считал себя праведником или страстотерпцем. Но к всевышнему относился с должным уважением, хотя и не без фамильярности. В отличие от бога архимандрита Димитрия бог Махова был таким же хитрованцем, как сам Никита Африканович. Поэтому Махов с ним ладил. В сделках с ним бородач за барышом не гнался, но внакладе тоже старался не оставаться. Все шло баш на баш. Согрешил – покаялся, оскоромился – помолился, пренебрег заповедью – внес в церковь вклад.
С Советской властью у него были отношения более сложные.
– Землю мужику, а заводы мастеровому – это по справедливости, – говорил он, стерев ладонью пивную пену с усов и бороды. – А вот то, что забижаете невесту Христову, церковь православную, – это зря: и перед богом и перед людьми грешите.
Кажется, на эту тему он мог говорить долго. Но когда я повернул разговор к вещам, имеющим непосредственное отношение к деятельности уголовно-розыскной милиции, Махов особого недовольства не высказал.
Разговор разговором, а дело делом. Товарищ Семен просил его помочь, и он согласен. Уважая Советскую власть, лично меня и православную церковь (как-никак, а разграблено было имущество «невесты Христовой»), он готов был внести свою лепту в розыск тех, кто пренебрег божескими и рабоче-крестьянскими законами. Никита Африканович не сомневался, что его доброхотство зачтется ему не только всевышним, но и Советской властью. Добрые дела без поощрения не остаются. А нет так нет: лишний грех с души снимет – и то благо… Но уговор: на него, Махова, не ссылаться. На Хиве всякие людишки имеются. Много там у Никиты Африкановича друзей-товарищей, многих он облагодетельствовал, но известно, всем не угодишь – есть и враги. Так что должен я сам понимать…
Ризницу, как я уже, верно, от Дублета да от Пушка знаю, брали не наши – такого святотатства Никита бы Африканович не допустил, – а саратовские. Имена, фамилии? За этим дело не станет. Знает Никита Африканович и у какого барыги в Саратове та воровская добыча отлеживается. Тот барыга некогда на Хитровке промышлял, да продуванился, нехристь…
Махов говорил неторопко, не спуская с меня темных, занавешенных густыми бровями глаз. Говорил начистоту – «все одно, что на исповеди!».
Тогда я эту трогательную откровенность «первого министра Хитрова рынка» относил за счет влияния анархистов. Немного позднее понял, что ошибался. Вес анархистов был не столь уж велик: Хива жила и продолжала жить по своим воровским обычаям. Что же касается Махова, то он, как всегда, действовал в своих собственных интересах. Его откровенность была той же «удавкой». Только на этот раз он вручал ее не Ахмету, а мне. Никита Африканович хотел руками Московской уголовно-розыскной милиции «удавить» своего старого саратовского конкурента и его присных.
Когда мы прощались, богобоязненный разбойничек сделал широкий жест – вручил мне две жемчужины из ризницы, подаренные им – «кто не грешен»? – Лизе Тесак (через несколько дней Кербель признал их искусно сделанными стразами. Никак не мог перебороть Никита Африканович свою натуру!).
Обратно меня провожал все тот же Ахмет. На этот раз мы уже шли другими коридорами, минуя большой зал трактира. Татарин был предупредителен и нежен. Почтительно подал пальто, сняв с него невидимую пушинку. Согнувшись в поклоне – лакей из хорошего дома, да и только! – пожелал доброго пути.
– Может, когда и свидимся, Леонид Борисович! Все в воле аллаха…
Я вышел из трактира на улицу, вдохнул полной грудью морозный воздух и провел ладонью по горлу. На моей шее был шарф, толстый шерстяной шарф… Я сдернул его, скомкал, засунул в карман пальто. Еще раз вобрал в легкие до отказа воздух и подумал, что Махов во мне ошибся: природа явно обделила меня чувством юмора…
На следующий день в Саратов было направлено телеграфное сообщение, и туда выехали Борин, Волжанин и Хвощиков.
Президиум Московского Совдепа.
Гражданский комиссариат.
Московский совет рабоче-крестьянской милиции
Срочное телеграфное сообщениепо литере «А»
(распоряжение Наркомпочтеля республикии комиссара Московского телеграфа)
Строго конфиденциально
Саратов. Президиум губернского Совдепа.
Лично начальнику Саратовской губернскойуголовно-розыскной милиции
Сообщение
Как вам известно из ранее направленных в ваш адрес решения президиума Московского Совдепа, сообщения ПТА (Петроградского телеграфного агентства) и уведомления Московской уголовно-розыскной милиции, в Москве совершено дерзкое ограбление патриаршей ризницы в Кремле.
В результате произведенных нами розыскных действий получены сведения о предполагаемых грабителях и укрывателях награбленного.
Согласно этим сведениям преступление совершено уроженцами села Ягодные Поляны Саратовского уезда Саратовской губернии братьями Прилетаевыми – Константином и Дмитрием. Вышепоименованные являются ворами-рецидивистами.
КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВИЧ ПРИЛЕТАЕВ (он же Поликарп Иванов, он же Константин Савельев, он же Филипп Елкин), 1882 года рождения. Роста выше среднего, узкоплеч. Волосы русые, волнистые, редкие, длинные. Голову держит склоненной к правому плечу. Нос мясистый, плоский. Походка вразвалку, «морская» (в юности работал матросом на волжских судах). На груди татуировка. Известен в уголовном мире под кличками Матрос и Долговязый.
ДМИТРИЙ ФЕОКТИСТОВИЧ ПРИЛЕТАЕВ (он же Дмитрий Филимонов), 1889 года рождения. Данными о внешности Дмитрия Прилетаева не располагаем.
Организатором ограбления патриаршей ризницы в Москве (наводчиком) и укрывателем похищенных в ризнице ценностей предположительно является житель Саратова, владелец магазина колониальных товаров на Немецкой улице, купец третьей гильдии Савелий Ферапонтович Бровин.
Оперативно-розыскными действиями установлено, что подлинная фамилия Бровина – Чуркин.
САВЕЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧУРКИН, 1870 или 1875 года рождения, из мещан, до 1915 года проживал в Москве, где содержал лавку москательных товаров на Хитровом рынке, но основной доход получал не от торговли, а от скупки и перепродажи краденого.
В начале 1915 года, находясь под следствием по статье 180 Устава о наказаниях (покупка похищенного и принятие его в заклад), Чуркин приобрел фальшивые документы и скрылся от сыскной полиции, поселившись в Саратове под фамилией Бровина.
В декабре 1917 года Чуркин-Бровин во время своего приезда в Москву предложил рецидивисту Мишке Мухомору, который в настоящее время находится в Пскове, осуществить ограбление ризницы. Мишка Мухомор согласился. Однако вскоре он был арестован Московской уголовно-розыскной милицией по подозрению в ограблении ювелирного магазина на Кузнецком мосту. Тогда Чуркин-Бровин предложил свой план Константину Прилетаеву, который и осуществил ограбление совместно с братом Дмитрием.
По оперативным данным Московской уголовно-розыскной милиции, отвезя драгоценности в неустановленное нами место, Константин Прилетаев пытался часть их реализовать на Хитровом рынке. Когда это не удалось, он перевез их в Саратов, где они, полностью или частично, переданы Савелию Бровину (он же Савелий Чуркин).
На основании изложенного просим принять срочные меры к установлению местопребывания всех вышепоименованных лиц, их незамедлительному аресту и изъятию похищенных в Московской патриаршей ризнице драгоценностей.
О всех проводимых вами по данному розыскному делу действиях просьба подробно, безотлагательно и строго конфиденциально телеграфировать лично мне по литере «А», имея в виду, что право пользоваться вами этой литерой оформлено распоряжением Наркомпочтеля республики.
В ваше распоряжение в Саратов откомандирована для работы по настоящему делу бригада Московской уголовно-розыскной милиции в составе инспектора Борина, агента второго разряда Волжанина и агента второго разряда Хвощикова.
Подтвердите принятие настоящего сообщения.
Товарищ председателя Московского совета рабоче-крестьянской милиции Косачевский
Срочное телеграфное сообщениепо литере «А»
(распоряжение Наркомпочтеля
и президиума Саратовского Совдепа)
Строго конфиденциально
Товарищу председателя Московского советарабоче-крестьянской милиции Косачевскому
Нами объявлен розыск Прилетаевых и приняты меры к их задержанию на территории Саратовской губернии. О результатах вам безотлагательно будет сообщено телеграфно.
Купец третьей гильдии Савелий Ферапонтович Бровин (Савелий Николаевич Чуркин) нами арестован в принадлежащем ему доме на Немецкой улице и доставлен в уголовно-розыскную милицию, где в настоящее время содержится в одиночной камере. В доме Бровина (Чуркина) на Немецкой улице, в лавке колониальных товаров, занимающей первый этаж вышеуказанного дома, а также в принадлежащих Бровину водяной мукомольной мельнице на реке Терешке (Хвалынский уезд) и паровой маслобойне в слободе Покровской произведены обыски и оставлены засады.
В результате успешного обыска на маслобойне работниками Саратовской уголовно-розыскной милиции обнаружены иконы старинного письма, а также различные предметы религиозного культа из серебра. Бровин (Чуркин) пояснил, что вышеуказанные вещи приобретены им в разное время в лавках церковных принадлежностей в Москве, Петербурге и Саратове и у антикваров. Категорически отрицая свою причастность к ограблению патриаршей ризницы в Москве и знакомство с братьями Прилетаевыми, Бровин (Чуркин) заявил, что среди изъятых на принадлежащей ему маслобойне предметов нет ни одного украденного в ризнице.
В связи с этим сообщаем вам перечень и краткое описание обнаруженных на маслобойне в слободе Покровской вещей. Просим ознакомить с вышеуказанным перечнем служителей Московской патриаршей ризницы на предмет идентификации нижепоименованных ценностей.
(Далее приводится перечень и дается описание изъятого при обыске.)
Начальник Саратовской губернской уголовно —
розыскной милиции Г.Привалов
Срочное телеграфное сообщениепо литере «А»
(распоряжение комиссара Московского телеграфа)







