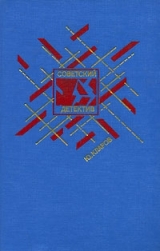
Текст книги "Розыск. Дилогия"
Автор книги: Юрий Кларов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Когда я допрашивал Глазукова, мне по телефону позвонил Рычалов и сказал, чтобы я перед встречей с анархистами к нему заехал.
Обстановка в Совдепе напоминала ту, которая здесь была во время октябрьских боев. Сизый махорочный дым, стук прикладов по паркету, треск телефонных звонков. В просторном вестибюле на привезенных из какой-то гимназии классных досках белели свеженаклеенные листки – обращение Совнаркома к трудящемуся населению России: «…Неприятельские войска, заняв Двинск, Венден, Луцк, продвигаются вперед, угрожая отрезать важнейшие пути сообщения и удушить голодом важнейшие центры революции… Мы хотим миpa, мы готовы принять в тяжкий мир, но мы должны быть готовыми к отпору, если германская контрреволюция попытается окончательно затянуть петлю на нашей шее…»
Тыча желтым от махорки пальцем в висящую на соседней доске карту Российской империи с обозначенной флажками линией фронта, чахоточный солдат в обтрепанной понизу шинели сипло кричал:
– Из Могилева я, братцы, из ставки. Продали генеральские шкуры солдатиков! К стенке их, гадов!
Сухов страдальчески посмотрел на меня, и в его глазах я прочел: «На фронт бы нам, Леонид Борисович!»
Носились по коридорам рассыльные, сновали, выбивая каблучками частую дробь, пишбарышни. У только что созданного отдела фронта дожидались приема бывшие офицеры. Тут же семнадцатилетний комиссар в кожанке и малиновых галифе растолковывал красногвардейцам новый приказ Чрезвычайного штаба Московского военного округа: город переводился на военное положение – круглосуточное патрулирование улиц, комендантский час, сдача оружия, расстрелы на месте преступления…
На широкой лестничной площадке, где Александра III уже сменили гипсовые бюсты вождей французской революции, отлитые каким-то скульптором-футуристом (Марат был изображен в виде куба, Дантон – шара, а бедному Робеспьеру до того не повезло, что даже смотреть на него и то было совестно), переминались с ноги на ноги бастующие врачи.
Красноречиво поглядывая на плакат «Задушим железной рукой саботаж», член дежурной коллегии Совдепа проникновенно говорил: «Кончать надо забастовку, господа-граждане. Побаловались – и хватит. Злостных саботажников будем революционным трибуналом судить. На рассуждения и размышления даю вам двадцать минут. Больше никак не могу: следователь трибунала дожидается. Проявим сознательность и не будем задерживать товарища следователя. Товарищ следователь по делам торопится».
По лицам врачей можно было понять, что слова оратора западали в душу, особенно его высказывания о трибунале и следователе, который понапрасну теряет время, томясь в бездействии.
Член дежурной коллегии умел говорить с интеллигенцией.
К моему глубочайшему удивлению, к кабинету Рычалова мы подошли как раз в тот момент, когда висевшие в коридоре настенные часы только начали отбивать время, назначенное, нам для приема. Раньше за собой подобной точности и не замечал. Но еще больше я удивился, когда Рычалова на месте не оказалось. Это было настолько на него непохоже, что я растерялся. Неужто даже Рычалов вынужден был отказаться от своих выработанных годами правил? Выходило, что так.
От члена дежурной коллегии я узнал, что Рычалову поручено организовать на всех железных дорогах заставы под Москвой (в связи с военным положением вводились жесткие ограничения на въезд и выезд из Москвы).
– Он полчаса назад телефонировал с Александровского вокзала и просил, чтобы вы его подождали, – сказал член дежурной коллегии. – Через пять-десять минут он уже будет здесь.
Но Рычалова мы дожидались не пять и не десять, а добрый час…
Хотя Рычалов внимательно, казалось бы, слушал рассказ Сухова о поездке в Петроград и мой доклад, у меня создалось впечатление, что думает он в эти минуты совсем о другом.
– Во сколько, говоришь, оценивается изъятый у Глазукова жемчуг? – спросил он, когда я закончил свое краткое сообщение и по привычке посмотрел на простенок, где еще позавчера был приколот кнопками распорядок дня.
– Пожалуй, тысяч тридцать-сорок.
– Таким образом, за десять дней розыска республике возвращено тридцать тысяч рублей из тридцати миллионов. В среднем по три тысячи в день, – подвел итог Рычалов. – Если вы будете и дальше так работать, то для розыска всего похищенного потребуется восемь лет с хвостиком. Не многовато ли, а?
Можно было, конечно, возразить, что нельзя ставить знак равенства между уголовно-розыскной работой и бухгалтерией. Но в главном Рычалов был прав: итоги неутешительные. Президиум Совдепа мог рассчитывать на более успешную работу специальной группы, возглавляемой товарищем председателя Совета милиции. Ему нужны были не отчеты о версиях, допросах и обысках, а конкретные результаты.
Сухов, отстаивающий всегда и во всем справедливость, начал было объяснять Рычалову, с какими трудностями мы сталкиваемся, но Рычалов его оборвал:
– Трудности не оправдание. Всем трудно. Время такое. А вот то, что вы упустили Василия Мессмера…
– Видимо, Мессмер все-таки к ограблению не причастен, – сказал я.
– «Видимо»… «все-таки»… А теперь что, вся надежда на анархистов?
– Зачем же? – возразил я. – Если показания Глазукова правдивы, а я в этом не сомневаюсь, то мы в ближайшее время установим грабителей.
– «Видимо»?
– Видимо.
– Но, насколько я понимаю, вам для этого нужно сначала задержать Лешу?
– Да.
– А ведь это, «видимо», может не получиться.
– Думаю, что получится. За Пушковым и за Михаилом Арставиным установлено наблюдение. Подбираемся мы и к Махову. Логично предположить, что у кого-то из них он обязательно появится.
– Логично-то логично, – сказал Рычалов, – но сокровища ризницы стоят тридцать миллионов золотых рублей. Это утверждают специалисты. А твою логическую конструкцию еще никто не оценивал. А если и оценят, то все одно тридцати миллионов за нее не дадут.
– Как знать, ценитель может и все сорок отвалить, – попытался я шуткой разрядить атмосферу.
Сухов улыбнулся, но Рычалов и бровью не повел. Он задал еще несколько вопросов, среди которых был и крайне для меня неприятный вопрос об описях, обнаруженных у Мессмера и Кербеля. Я мог только пожать плечами: эти описи были для меня полной загадкой.
– «Батуринский Грааль», «Два трона», «Золотой Марк», «Мономаховы бармы»… – перечислил Рычалов, но на этот раз от комментариев воздержался. Кажется, он считал, а вполне справедливо, что я уже свое получил сполна, и решил отложить разговор о загадочном списке драгоценностей до следующего раза. И на том спасибо.
Он повернулся к Павлу, который вертел в пальцах кожаный портсигар и не принимал участия в разговоре:
– Что, курить хочется? Иди покури в коридоре.
Сухов сконфузился:
– Успеется, товарищ Рычалов.
– А зачем мучиться? Иди покури. Если нужно будет, мы тебя позовем.
По настойчивости, с которой Рычалов выпроваживал Сухова, я понял, что он хочет поговорить со мной наедине. Но что предметом этого разговора станет сегодняшний митинг в Доме анархии, я не предполагал…
– Обязательно побывай на митинге, – сказал Рычалов, как только дверь за Суховым закрылась. – Послушай анархистских витиев.
– Для самообразования?
– В числе прочего и для самообразования. Чего не послушать? Интересно. Я бы и сам зашел, но, к сожалению, нет времени.
Кажется, для этого меня Рычалов и вызывал. Такое внимание к очередному митингу в Доме анархии меня несколько удивило.
К анархистам я привык относиться скептически. В отличие от эсеров, кадетов или меньшевиков они не представлялись мне тогда реальной силой, которой суждено сыграть какую-то роль – положительную или отрицательную – в развитии революции. Анархисты были сравнительно малочисленны. Не говоря уже о наивности политических концепций, их нельзя было даже назвать партией. Как-никак, а партия предполагает организационное единство, дисциплину, общую программу. Ничего подобного у анархистов не было. Их союзы, федерации и группы не имели руководящего центра та никому не подчинялись. Причем организационная неразбериха усугублялась идейной разобщенностью. Анархо-коммунисты во многом не соглашались с анархо-синдикалистами, те в свою очередь критиковали анархистов-индивидуалистов. Анархо-федералисты спорили с анархо-кооператорами, пананархистами, неонигилистами и безвластниками. Да и среди последователей одного и того же политического течения оказывались иной раз люди различных мировоззрений, враги наши и наши друзья, те, кто боролся против Советской власти, и те, кто ее отстаивал. Забегая вперед, скажу, что из среды анархо-коммунистов, например, вышел не только батька Махно, но и легендарный Нестор Каландаришвили. Анархо-коммунистом был участник штурма Зимнего дворца матрос Анатолий Железняков, старший брат которого, тоже анархо-коммунист, ушел к бандитам и был убит в бою с отрядом Красной Армии. Анархо-синдикалист Волин стал идейным вдохновителем махновщины, а бывший лидер анархо-синдикалистов Иваново-Вознесенска Дмитрий Фурманов превратился в политработника Красной Армии, а затем стал писателем. В 1919 году Петр Соболев организовал взрыв Московского комитета партии большевиков, и в том же 1919 году член ВЦИК анархист Александр Ге, возглавивший Кисловодскую ЧК, был зверски замучен деникинскими контрразведчиками…
– Так что именно тебя интересует? – спросил я Рычалова.
– Все, – сказал он. – Отношение к войне, отношение к нам. Последние неделя мы выпустили анархистов из поля зрения. Надо наверстывать упущенное.
– Какие-нибудь новые сведения?
– Нет, но в федерации слишком много горячих голов, и в этих головах может возникнуть идея использовать наши трудности. Для них наступление немцев – вроде подарка… Большевики шатаются – самое подходящее время для «третьей социальной революция».
– Ты уж слишком всерьез воспринимаешь это сборище донкихотов. Им не на кого опереться, – возразил я.
– Почему же не на кого? Учти, что часть рабочих Москвы – выходцы из мелкобуржуазной среды. Прибавь к ним бывших мелких чиновников, гимназистов, студентов, кустарей, люмпенов… Социальная база у анархизма есть. Да и лозунги подходящие: «Долой государство и всяческое насилие над личностью!», «Немедленное распределение по потребностям!», «Фабрики и заводы – рабочим коллективам, которые на них работают!». Что же касается твоего сравнения… Дон-Кихот, Леонид, кроме таза на голове и копья в руке, ничего не имел. А у московских донкихотов – около сотни пулеметов и несколько тысяч винтовок. Да и обосновались они в самом центре города, а не возле ветряных мельниц. В случае заварухи они могут нанести удар и по Московскому Совдепу, и по гостинице «Дрезден», и по комиссариату Московской областной армии…
– Подобная авантюра для них равнозначна самоубийству, – сказал я.
– Сейчас – да, – согласился Рычалов. – Сейчас мы их можем раздавить одним пальцем. Но ты подальше смотри. Кто знает, как сложится ситуация через неделю или две! Теперь мы отправляем на фронт шесть тысяч добровольцев. Это теперь. А если обстановка потребует выделить еще несколько тысяч солдат и красногвардейцев?
Я заговорил о противоречиях в среде анархистов, о расхождениях между группами.
– Кроме того, – сказал я, – черную гвардию нельзя собрать в кулак. Прежде чем удастся объединить дружины черногвардейцев в единое боеспособное целое, потребуются и время, и большая организационная работа.
– Именно так, – кивнул Рычалов. – Но дело в том, Леонид, что они к такой работе уже приступили. – Это было для меня новостью. – Да, приступили, – подтвердил Рычалов. – Готовится коренная реорганизация всех анархистских вооруженных сил. При федерации будет создана военная комиссия с учебным, техническим, санитарным и осведомительным отделами. Комиссии подчинят все районные штабы черной гвардии, а вместо временных боевых дружин предполагается сформировать постоянные. Пока у них все упирается в финансы. Нет денег. Но деньги они найдут… Кроме того, создано организационное бюро по подготовке Всероссийского съезда анархистов всех направлений. Что из этого выйдет – в выйдет ли что-либо – неизвестно, но учитывать надо все. Так что послушай ораторов. Митинг, конечно, только митинг. Особо откровенничать они на нем не будут, но кое-что авось и проскочит. Что же касается ризницы, то, думаю, дело Бари их должно вдохновить: и так слишком много разговоров, что анархистские организации засорены уголовниками. Еще один скандал им ни к чему, да еще с Грызловым… Роза Штерн, конечно, шокирована?
– Еще бы. Когда твой идейный единомышленник вляпался в уголовщину, радости мало, особенно если специализируешься на превращении хитрованцев в рыцарей революции. Думаю, ее ждет еще много разочарований.
– Как бы то ни было, а на красивых женщин нападать не надо, – улыбнулся Рычалов, – их слишком мало.
– А ты Розу считаешь женщиной?
– Увы, – вздохнул он. – Я ее считаю женщиной, и притом очаровательной. И если под ее влиянием все «деловые ребята» с Хитровки начнут жизнь добропорядочных граждан республики, я не удивлюсь. А вот ты к Розе относишься предвзято еще со времен ссылки.
Истомившийся в ожидании Павел приоткрыл дверь кабинета и удивленно посмотрел на Рычалова: он еще ни разу не видел председателя Совета милиции улыбающимся.
IIIДом анархии находился рядом с женским Страстным монастырем, и это, понятно, не могло не наложить на обитель свой отпечаток. Увы, московскому Страстному с момента его основания всегда не везло. И ответственность за это, по-моему, следовало возложить на царя Алексея Михайловича, который, по преданию, самолично выбирал место для его постройки. Прозванный Тишайшим, Алексей и место указал тихое и спокойное, в тенистой густой роще. Но, как показали последующие годы, царь дальновидностью не отличался. Житейские соблазны беспрерывно вторгались, а вернее, вламывались в ворота монастыря – то в облике бунтующих стрельцов царевны Софьи, то рейтар Петра I, то лихих и галантных кавалеристов Мюрата.
А дальше и того хуже. Роща была вырублена, а сам монастырь, находившийся некогда на отшибе, оказался в самом центре большого города.
Соблазны, соблазны! И с каждым десятилетием их становилось все больше. Загремел на Тверском бульваре, куда съезжалась на гулянье вся Москва, оркестр Александровского военного училища. Запестрела Страстная площадь афишами синематографов, засветилась электрическими фонарями, разукрасилась разноцветными грибами дамских шляп. А по ночам мимо монастырских стен с гиком и звоном бубенчиков неслись к Яру купеческие тройки. Греховно визжали хористки, и лихо пели в дупель пьяные кавалеры:
Ах вы, Сашки-Канашки мои,
Разменяйте мне бумажки мои…
В девятьсот пятом – митинги, красные знамена, баррикады, трупы и трехэтажный солдатский мат. В девятьсот семнадцатом – пушки, шпарящие гранатами и шрапнелью по Тверскому бульвару…
Но окончательно ошибка Алексея Михайловича выявилась во всей своей чудовищности в тысяча девятьсот восемнадцатом, когда к новому зданию купеческого клуба на Малой Дмитровке, урча и чихая, подкатил броневичок под черным флагом. Узревшая этот дьявольский флаг игуменья Страстного монастыря трижды осенила себя крестным знамением. Но когда два дюжих молодца осторожно извлекли из чрева стальной машины и аккуратно поставили на тротуар беленького старичка, смахивающего на святого, от сердца ее отлегло. А напрасно… Игуменья никогда не изучала историю анархистского движения и конечно же никак не могла признать в старичке патриарха русских бомбометателей Христофора Николаевича Муратова, носившего почетную кличку Отец. Ученик и соратник апологета пропаганды действием немецкого анархиста Иоганна-Иосифа Моста, известного призывом к поголовному истреблению всех монархов, а заодно и вождей социал-демократии Бебеля и Либкнехта как людей слишком умеренных, а потому особенно вредных для дела социальной революции, Муратов трижды приговаривался к смертной казни и добрую четверть своей жизни провел в тюрьмах России, Италии и Австро-Венгрии. Говорили, что во Франции Отец принимал деятельное участие в покушении на президента Карно, в Женеве приложил руку к убийству жены Франца-Иосифа императрицы Елизаветы, а в Испании по-братски наставлял смуглых и веселых молодых людей, уничтоживших министра-президента Антонио Кановаса дель Кастильо…
Всего этого игуменья, понятно, не знала.
Между тем милый старичок из броневика, семеня ножками в высоких старомодных калошах, прошелся вдоль фасада купеческого клуба, о чем-то разговаривая со своими рослыми сопровождающими. Задрав голову, осмотрел верхнюю часть здания и вошел в вестибюль. А через полчаса, отдыхая на диванчике в малой гостиной, он сказал молодому человеку с челкой на лбу, Федору Грызлову:
– Подходит, Федя.
Эти слова, произнесенные надтреснутым старческим голосом, решили и судьбу купеческого клуба, и многострадального Страстного монастыря. Клуб стал Домом анархии, а любимое детище Алексея Михайловича – «бастионом культуры» анархистов Москвы.
В тот же день вновь назначенный комендант Дома анархии Федор Грызлов по кличке Федька Боевик отправился с деловым визитом в Страстной монастырь. Разъяснив игуменье все требования революционного момента, Грызлов сказал, что в монастыре будут размещены склады анархистской литературы и реквизированного у эксплуататоров имущества, которое будет по ордерам раздаваться неимущим. Вполне возможно, что в дальнейшем здесь также будет учреждена школа бомбометателей. По мнению Грызлова, монастырский сад был предназначен самой природой для обучения боевиков обращению с бомбами. Что же касается монахинь, то федерация, отстаивая свободу каждого индивидуума, не хочет им ничего навязывать, но все-таки рекомендует созвать всемонастырский митинг и создать свободную трудовую коммуну «Революционная монахиня». Игуменье должно быть все ясно. Но если имеются какие-либо вопросы, Федор Грызлов охотно на них ответит…
– Сгинь, – тихо сказала игуменья и перекрестила Грызлова.
Но, к ее удивлению, дьявол с двумя кольтами на бедрах от крестного знамения даже не поморщился.
А вечером в трапезной монастыря после лекции «Наша светлая цель – всемирная анархия» состоялся сольный концерт любимицы Москвы, несравненной исполнительницы цыганских романсов Насти Кругликовой. По дошедшим до меня слухам, и лекция и концерт прошли с бешенным успехом. Артистку домой отвозили в броневике и подарили ей где-то реквизированный соболий палантин.
Растроганная певица заявила, что готова отдать революции весь свой талант и давно уже подумывает о вступлении в одну из анархистских групп.
Такое, конечно, не могло присниться Алексею Михайловичу и в страшном сне!
Монастырская стена была предоставлена в распоряжение пропагандистского отдела федерации, и на ней тут же появилось написанное аршинными буквами известное изречение Кропоткина:
«Пусть каждый берет из общей кучи все, что ему нужно, в будьте уверены, что в житницах наших городов хватит пищи, чтобы прокормить весь мир до дня объявления свободы производства, достаточно одежды, чтоб одеть всех, и даже предметов роскоши хватит на весь мир».
В дни, когда Советской власти приходилось применять против пьяных погромов даже пулеметы, это изречение, помещенное на самом видном месте, воспринималось как подстрекательство. По категорическому требованию Рычалова цитата была закрашена. Но теперь, как мы имели возможность убедиться, ее вновь восстановили. Рядом с высказыванием Кропоткина соседствовали наклеенные на стену московские и петроградские анархистские газеты, прокламации и объявления различных анархистских групп и объединений. Времени у нас с Суховым было достаточно, и часть его я решил посвятить изучению этой «настенной литературы». Читая ее, я обратил внимание на осторожные, но явные выпады против большевиков и левых эсеров. Они содержались даже в статье члена ВЦИК анархиста Ге, который обычно старался не выпячивать существующих противоречий, чтобы не дать пищу врагам революции. И я подумал, что это, пожалуй, симптоматично. Раньше объединявшая всех самых крайних анархистов группа «независимых», обосновавшаяся на Поварской, и то не позволяла себе подобных вольностей.
Падали редкие хлопья снега. В ворота монастыря въехали сани, груженные какими-то ящиками, небрежно прикрытыми сверху брезентом. Сидящий на облучке усатый матрос в бескозырке и хорьковой шубе огрел лошадь кнутом и что-то крикнул часовому. С любопытством заглянув в открытые ворота, мимо нас к центральной театральной кассе «Гермес» прошли две епархиалки. Одна из них, веснушчатая, с носиком пуговичкой, рассказывала что-то смешное подруге, которая давилась от смеха. Не обращая внимания на трамваи, людей и афиши синематографов, смотрел куда-то задумчивый Пушкин.
– Леонид Борисович, – сказал Сухов, – а правда, что Бакунин, чтобы заставить мужика бунтовать, предлагал его сечь?
Круг интересов Павла был поистине необъятен: архиепископ Константинополя Иоанн Златоуст, самоцветы и, наконец, великий бунтарь Михаил Бакунин.
– Нет, такой глупости Бакунин не предлагал. Однако он считал, что порка, если она справедлива, ничего, кроме пользы, принести мужику не может. Во всяком случае, в одном из своих писем он рекомендовал брату Николаю не чуждаться телесных наказаний. Дескать, пока, как это ни печально, русский крестьянин без них обойтись не может…
– Чего врешь, беляк? Чего, твою мать, контрреволюционную брехню разводишь? – Перед нами стоял коренастый солдат с поросшей щетиной физиономией. Папаху его наискось пересекала черная шелковая лента.
Несколько прохожих остановилось, а часовой у ворот Страстного монастыря, предвкушая развлечение, ободряюще крикнул:
– Дави их, Вася!
От солдата пахло спиртом и махоркой.
– Офицер? Провокатор? Буржуй? Германский шпиен? – лез он на меня, пытаясь схватить за грудки.
– Не ори, служивый, – миролюбиво посоветовал Сухов. – Зачем зря орать? Это товарищ из Совета милиции.
Но черногвардеец не унимался.
– Милиция! Полиция! – все более накалялся он. – По мне все одно, что из совета, что из комитета. Да будь ты хоть из Совнаркома, а товарища Бакунина не трожь. («Верно, Вася!» – поддержал его часовой.) Не трожь, говорю! Я, ежели хочешь знать, с Мишей Бакуниным вместях кровь в девятьсот пятом проливал! Он меня своей благородной грудью от шрапнелей закрывал! Миша мне заместо брата родного… – Так и не закончив новый вариант биографии Бакунина, черногвардеец рванул с плеча винтовку и дико взвизгнул: – Убью гада!
В то же мгновение Сухов схватил его за левую руку и рывком заломил ее назад, а я, держа на уровне его живота браунинг, посоветовал бросить винтовку:
– А ну, быстро!
Он выпустил из руки винтовку, и она зазвенела, ударившись о булыжники мостовой.
– Эй вы, стрелять буду! – пригрозил часовой, но не потрудился даже снять с плеча свою винтовку.
Я видел, как от стены Страстного монастыря отделилась изящная фигурка в черной широкополой шляпе и узком модном пальто. Это был помощник коменданта Дома анархии, бывший цирковой артист Дима Ритус, известный под кличкой Барышня. Кажется, Ритус не без интереса наблюдал всю сцену от начала до конца. Теперь, когда занавес опустился, он решил, что настал его черед.
– Не надо пушек и инцидентов, дорогой товарищ Косачевский! – сказал Ритус, поспешно подходя к нам и раскинув для приветствия руки, словно собираясь обнять всех троих. – Он погорячился, вы погорячились… А смысл? Идея? Цель? – Ритус поднял с мостовой винтовку, подбросил вверх, поймал и вручил тяжело дышавшему солдату: – Держи крепко. Она тебе нужна для борьбы с врагами революции. Не так ли, товарищ Косачевский?
– На вашем месте, Ритус, я бы, по крайней мере, извинился.
– И правильно бы сделали, дорогой товарищ Косачевский, – прочувствованно сказал Ритус. – Виноват. Миль пардон за невыдержанность нашего товарища. Миль пардон. Что поделаешь? Товарищ трижды контужен и травмирован кровавыми событиями революции. Товарищ осознал свою ошибку… Осознал? – спросил он у солдата, который в ответ буркнул что-то нечленораздельное. – Слышали? Осознал. А раз осознал, то бери свою тросточку и топай отсюда, – приказал он черногвардейцу. – Как говорят истинные артисты, каскад под зад и три кульбита! А вас, товарищи, если разрешите, я самолично провожу. Как дорогих гостей. Инцидент исчерпан, пушки смолкли, маркитантки пудрят носики, солдаты играют в преферанс. Жизнь прекрасна, а гонорея омерзительна… У вас какой браунинг, товарищ Косачевский?
– Бельгийский, – сказал я, оглушенный водопадом слов.
Ритус расплылся в улыбке:
– Какая прелесть! Истинное оружие революционера. Из такого вот браунинга я стрелял в семнадцатом городовых. Как куропаток, миль пардон. Семь пуль – семь городовых. Красиво, но свинец на душу. У меня нежная душа, товарищ Косачевский. До сих пор по ночам кошмары мучают: кровь, трупы, стоны… Да, человеческая жизнь, даже жизнь паршивого городового, – величайшая ценность, а мы с вами созданы не для стрельбы, а для полета. Нельзя убивать безнаказанно себе подобных даже из бельгийского браунинга – психозы, неврозы, бессонницы… Кстати, у вас нет знакомого психиатра?
– Могу вам даже посодействовать в получении отдельной палаты, – заверил я.
– С надежным замком, да? – улыбнулся Ритус. – Я всегда питал к вам доверие и глубочайшее уважение. Вы гуманист, дорогой товарищ Косачевский! Прошу… – Ритус подмигнул часовому у подъезда Дома анархии и распахнул перед нами дверь.
В Доме анархии, который обычно напоминал гудящий улей, на этот раз было непривычно тихо, по крайней мере, на первом этаже, там, где размещались секретариат совета федерации, пропагандистский отдел, штаб черной гвардии, читальный зал и издательство. Комнаты обезлюдели. Несколько человек в читальне да группка черногвардейцев в глубине вестибюля.
Ритус разыскал Грызлова и передал нас с рук на руки.
Грызлов, еще более сумрачный, чем обычно, не поднимая глаз на своего помощника (он вообще избегал смотреть в лицо собеседнику), сказал:
– Иди, товарищ Ритус, и наведи порядок среди патрулей. Объясни им, что анархия не отсутствие дисциплины, а сознательная дисциплина. Чтоб больше случаев хулиганства не было, Ритус.
– Больше не будет, – заверил Дима Ритус и даже прижал руку к сердцу. – Ты же знаешь этого партерного акробата – псих. Даже товарищу по классу глотку перегрызет.
Я ожидал, что Грызлов заговорит о деле Бари, которое имело к нему прямое отношение, но он не обмолвился о нем ни словом. Молча проводил нас в малую гостиную, где после реквизиции особняка находился пропагандистский отдел федерации. Пол-Кропоткина превратил гостиную в подобие книгохранилища. Комната была заставлена шкафами с книгами. На полках в едином строю стояли Прудон, Макс Штирнер, Бакунин, Кропоткин, Вольский, Адлер, Боровой, Проферансов. На длинном столе у окна лежали подшивки «Анархии», «Голоса труда», «Буревестника», харьковской «Рабочей мысли», стопки книг, среди которых яркой обложкой выделялась брошюра одного из вождей Московской федерации, Гордина. «Почему? Или как мужик попал в страну «Анархия». На стене между двумя игривыми вакханками, оставшимися от прежних хозяев, висела, разработанная другим вождем федерации, Леоном Черным, схема будущего устройства России. ВЦИК и Совнарком заменялись «Великой конфедерацией», а комиссариаты – «Дворцами согласия». «Дворец согласия иностранных дел», «Дворец согласия военно-морских дел», «Дворец согласия по вопросам образования»…
Пьяный «друг Миши Бакунина» и досужие, оторванные от реальной действительности теоретические схемы переустройства жизни миллионов людей – это были две стороны одной и той же медали, именуемой анархией.
– А где же товарищи из пропагандистского отдела? – спросил я у Грызлова.
– На митинге.
– Мы договорились со Штерн о встрече.
– Товарищ Штерн ждала вас позднее, – вполне обоснованно уточнил он и предложил: – Вы покуда почитайте. А если желаете, то и вином могу угостить. Мы тут винный подвал под типографский склад приспосабливали, так ребята несколько дюжин бутылок раскопали.
– Богато живете! – засмеялся Сухов, а я поинтересовался:
– По ордерам раздавать будете?
– В госпиталь отправим. Для жертв революции, – сумрачно объяснил Грызлов. Кажется, и без того скудный запас его радушия стал иссякать…
– Вы как, Павел, насчет шампанского? – спросил я у Сухова.
– Я непьющий.
– Ну вот видите, товарищ мой вообще не пьет. Придется воздержаться. Митинг на втором этаже?
Федор Грызлов впервые поднял глаза. Они у него были мутные, тяжелые. Такие глаза я видел когда-то у рабочего на мясобойне. Тот был мастером своего дела и мог одним ударом молота проломить череп корове или быку. Хозяин очень ценил этого виртуоза скотобойного искусства.
Да, пожалуй, комендант Дома анархии не зря предпочитал держать свои глаза долу. Если бы жизнерадостному Бари привелось тогда увидеть эти глазки, то вряд ли он бы потом имел возможность поселиться в уголовном розыске.
Повезло Бари!
– Митинг в голубом зале, как обычно, – неохотно сказал Грызлов.
– Вот и мы отправимся туда. Не возражаете?
Сухов удивленно посмотрел на меня. Он не понимал, чем вызвано это странное желание присутствовать на митинге.
– Хотите на митинг – пожалуйста, – сказал Грызлов. – У нас без пропусков и мандатов. Всякий волен.







