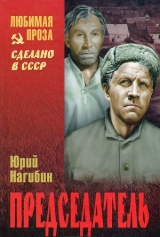
Текст книги "Председатель (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Платформа загружена людьми.
Едва поезд причалил к платформе, как толпа начинает штурмовать вагоны.
Удивление Трубникова все возрастает, он видит множество знакомых лиц: работников обкомов и облисполкома, кое-кого из района.
Первые удачники прорываются в вагон. И вдруг Трубников видит среди ворвавшихся Клягина. Он встает ему навстречу.
– Куда это вы все? – спрашивает он Клягина.
– В Москву, конечно.
– А почему?
– Ты что, с неба свалился? – И напором толпы Клягина уволокло дальше. Сталин умер…
Трубников стоит, будто окаменев, и очень сложная смена чувств отражается на его лице.
Эпилог
…Из-под крыльца дома Надежды Петровны вылезает пес, некогда проводивший Трубникова к этому двору. Он постарел, облез, мутные глаза его почти слепы, и все же он по привычке радостно колотит хвостом по ступенькам крыльца, приветствуя хозяина.
Из дома выходит Трубников, почти седой, морщинистый и непривычно нарядный: на нем черный, хорошо сшитый костюм, белая рубашка, галстук. Посверкивает Золотая Звезда Героя Социалистического Труда Он наклонился и ласково потрепал пса.
– Егор, опять ты очки забыл? – На крыльцо выбежала Надежда Петровна. Истекшие годы вместе с душевным покоем дали ей будто вторую молодость. Она еще хороша, и движения ее легки.
– Тьфу ты, никак не привыкну, – говорит Трубников, беря очки.
Он выходит на улицу и идет к правлению. Навстречу ему попадается чета Валежиных с пяти-шестилетним сынишкой. Они здороваются с Трубниковым.
Трубников входит а правление, открывает дверь, на которой прибита новенькая дощечка; «Секретарь партийной организации колхоза „Труд“».
Стоя на стуле, какой-то человек в военной форме без погон приколачивает к стене лозунг:
«Мы должны заниматься делом, а не резолюциями»
В. Ленин.
– В самую точку! – говорит Трубников, проходя в кабинет. Человек оборачивается. Это Кочетков. Он мало изменился, если не считать золотых зубов, ярко сверкающих в улыбке. На груди – орденская колодка.
– Ну, Егор, можешь песни играть! – говорит Кочетков. – Звонил Патрушев и сказал «по секрету», что вопрос о новых закупочных ценах практически решен.
– А ты думал, меня зачем в Центральный Комитет вызывали? – хитро прищурился Трубников.
– Чего же ты молчал?
– А зачем раньше времени в колокола звонить?
– Ох и скрытен же ты стал! – смеется Кочетков. – Прямо дипломат!
– Ну, я знаю кое-кого поскрытнее.
– Что ты имеешь в виду? – отвел глаза Кочетков.
– У тебя не было еще одного телефонного разговора?
– Ах да!.. Конечно, был. Лучшего агронома, чем Кудряшов, нечего искать. Как только он защитит кандидатскую, так сразу…
– Ладно с агрономом-то! – прервал Трубников. – От кого хоронишься? Думаешь, не знаю, кому ты звонил?
Кочетков смутился:
– Тоже мне Шерлок Холмс!..
– Вот и нечего тень наводить! Как она?
– Плакала… Оказывается, она до моего письма знала, что я жив. Мой одноделец отыскал ее в Москве. Она преподает французский, вышла замуж, и, самое удивительное, – я дедушка!
– Поздравляю!
– Одним словом, договорился о свидании с собственной дочерью… Аню мы решили не тревожить, – медленно продолжает Кочетков. – Потом Лена скажет ей, что мы виделись…
В окне появляется белокурая девичья голова.
– Василий Дмитриевич, чего же вы!..
– Иду-иду!..
– Ты куда? – спрашивает Трубников.
– Да ребята выставку соорудили: «Уходящее прошлое». Хочешь взглянуть?
Они направляются в клуб.
* * *
…Клуб колхоза «Труд». Трубников, Кочетков и несколько молодых людей, среди них Валежина, осматривают выставку.
Здесь находится дежа, в которой месят тесто для хлебов, деревянный подойник, коромысло с ведрами, самогонный аппарат, набор ржавых сторожевых ружей и сделанная в рост человека фигура сторожа в дремучем тулупе, валенках, треухе, за плечом берданка, похожая на пищаль. Лицо сторожа, вылепленное из пластилина, с маленькими глазками, мочальными усами, затаенное и недоброе, приковывает внимание Трубникова. Скулы его слегка розовеют.
– Ах, хулиганы! – говорит он ребятам. – Вы его нарочно под Семена изобразили?
– Нет, Егор Иваныч! – улыбается Нюра Валежина. – урожденная Озеркова. Честное комсомольское, случайно так вышло. Потом мы, правда, заметили, но переделывать не стали.
И хоть Трубников хмурится, похоже, ему доставила удовольствие эта небольшая месть Семену.
– Василий Дмитриевич, – обращается он к Кочеткову, – надо бы сторожей по бригадам распределить – мужики все трудоспособные, нечего им без дела мотаться…
– Нюра… Валежина… – слышится старушечий голос, и в «музей», запыхавшись, входит Прасковья.
Она сильно сдала за эти годы, усохла, сгорбилась, орехово потемнела маленьким лицом, только в глазах – прежний неукротимый блеск.
– Нюра, позвони-ка на молокозавод, чего они нашу цистерну задерживают, – говорит она Валежиной.
– И не совестно тебе? – любовно-насмешливо говорит Трубников старой своей сподвижнице. – В большое начальство вышла, а по телефону говорить не умеешь.
– Будто не умею!.. У нас телефоны очень тихие – Прасковья двинулась было прочь, но ее остановил Трубников.
– Постой, старая, что-то ты мне сегодня не нравишься. Не захворала ли часом или просто утомилась? Пошла бы отдохнуть.
– Я в твоей санатории отдохну! – язвительно отвечает Прасковья. Понятно?
– Что поделать! – вздохнул Трубников. – Давно бы открыли, да совнархоз труб не дает, хоть тресни!
– Ослаб ты духом, раньше всего добивался!
– Ладно, ладно, старая!..
– А ты мне рот не зажимай! Сам-то небось на Кавказ закатишься, а нам дулю под нос! – И, пустив эту стрелу, Прасковья метнулась прочь.
– Вредная старуха, – проворчал Трубников. Прасковья вышла из дверей клуба. За колонну испуганно схоронился Семен.
Выходит Трубников.
– Егор! – слышится тихий голос.
Семен появляется из укрытия, лысый, постаревший, угасший.
– Чего тебе?
Семен мотнул головой, словно приглашая Трубникова последовать за ним. Несколько удивленный, председатель сошел с крыльца.
Они выходят на зады клуба. Семен молча протягивает Трубникову какую-то бумагу. Трубников пробегает глазами заявление Семена: «Прошу отпустить меня из колхоза со всем семейством…»
– Ты что, сдурел?
Семен не отвечает, только вздымается и опадает его грудь под ситцевой рубашкой.
– Может, ты на чучело обиделся? – мягко говорит Трубников. – Я велю убрать.
– Да что – чучело!.. – равнодушно махнул рукой Семен. – Авось не маленький… Отпусти нас по-хорошему, Егор!..
– Ни в жисть! Если ты дурак-гигант своей пользы не знаешь, обязан я за тебя думать. Ну куда ты денешься?
– В город уеду.
– Нужен ты в городе! Чего ты там делать будешь, где жить?
– Устроюсь, не твоя забота.
– Нет, моя! Мы тебя в столярную бригаду зачислим, будешь полторы тысячи получать. Ребята у вас подросли, теперь Доня может на ферме работать, а доярки…
– Не нужны мне твои тысячи, слышишь, не нужны! – в ярости кричит Семен. – Подавись ты ими!.. – И вдруг глаза его наполняются слезами, он тяжело рушится на колени.
– Отпусти нас, Егор, избавь от греха… Неровен час – я чего-нибудь подожгу…
В глазах Трубникова – боль и мучительная, брезгливая жалость.
– Уезжай, – говорит он, – уезжай к чертовой матери, только не позорь ты себя передо мной…
* * *
…У дома Семена с заколоченными крест-накрест окнами стоит трехтонка, уже груженная доверху домашним скарбом навсегда покидающей родную деревню семьи.
Несколько женщин издали наблюдают за отъезжающими. На их лицах не приметно ни сочувствия, ни жалости, скорее – отчужденность и осуждение.
Доня с детьми забирается в кузов, Семен садится в кабину. Появляется Алешка, с угрюмым видом залезает в кузов.
– Где тебя черти носят? – ворчит Семен. Грузовик трогается.
Трубников стоит на улице возле своего дома. Надежда Петровна из-за калитки с грустной нежностью глядит на мужа. Она понимает, что отъезд Семена для него поражение. Трубникову хотелось сделать того счастливым даже против его воли. Он давно списал Семену все его подлости и предательства, стремясь лишь к одному: чтобы тот признал его правду.
Грузовик поравнялся с Трубниковым, шофер слегка притормозил – может, захочет попрощаться с отъезжающими.
Доня высунула из-за узлов заплаканное лицо.
– Прощай, Егор, знать, больше не увидимся. Не поминай лихом.
Трубников молча наклонил голову.
Не получив ожидаемого знака, шофер прибавил газу. Семен даже не взглянул на Егора, зато Алешка так и прилип к нему глазами.
Надежда Петровна подошла и положила руку на плечо мужа.
– Что поделаешь, Егор, не мог Семен смириться… Клубы едко воняющего дыма и пыли заволокли грузовик, затем он снова четко обрисовался уже в конце улицы.
Алешка все глядел и глядел на оставшуюся позади деревню.
И вдруг забарабанил по крыше кабины. Шофер резко затормозил.
Алешка выпрыгнул из кузова, обошел машину, вплотную приблизился к сидящему в кабине отцу.
– Прощай, батя… Поклон тебе до сырой земли… Хрен ты меня больше увидишь!
– Тэ-эк… – Семен отвел взгляд в сторону.
Алешка прошел вдоль машины, кивнул матери. Младшие ребята, вцепившись руками за борт, чеграшами (так в книге. Д. Т.) выглядывали из кузова.
Доня ткнулась лицом в платок. Машина тронулась…
Алешка остался на дороге.
– Хоть один в семье умный оказался, – скрывая за ворчбой (так в книге. Д. Т.) радость, говорит Трубников Надежде Петровне.
– …Егор Иваныч! – слышится истошный женский голос – Егор Иваныч!
Подбегает раскрасневшаяся, с мокрым лицом старуха Самохина.
За ней бегут Нюра Валежина и другие работницы молочной фермы.
– Егор Иваныч! – Она всхлипнула. – Прасковья померла!
Трубников мертвенно побледнел.
– Ты что брешешь? Я утром ее видел!
– В одночасье скрутило! Подошла к сепаратору, схватилась за сердце и упала. Мы ей зеркальце ко рту – не дышит.
– Доктора надо! Темнота!
– Был доктор, – говорит, подходя, Кочетков. – Ей уже не поможешь.
И как нередко бывает во время несчастья, откуда-то враз набежало множество людей.
– Вели вывесить траурные флаги, – говорит Трубников Кочеткову и, приметив его неуверенное движение, твердо добавляет: – Да, флаги! Страна потеряла государственного человека!
* * *
Полощется траурный флаг. Улица запружена народом.
У крыльца дома, где прожила свою долгую жизнь Прасковья, стоит грузовик со снятыми бортами, обтянутый темной материей, – убранная цветами платформа. Двери распахиваются, и возникает гроб, который несут на своих плечах: впереди Трубников и Кочетков в военной форме, при всех регалиях, за ними Игнат Захарыч, кузнец Ширяев, Павел Маркушев и плотник Коршиков. Затем появляются Нюра Валежина и Лиза Маркушева, несущие на подушках награды покойной – Золотую Звезду и орден Ленина.
Гроб устанавливают так, что мертвое лицо Прасковьи обращено к улице. И такая сейчас тишина над деревней, что негромкие слова Трубникова, обращенные к усопшей, слышны всем:
– Принимай парад, Прасковья! Трубников шагнул вперед и взмахнул кнутом Оглушительно, словно ружейный залп, хлопнул пастуший бич.
И тут же в конце улицы ему ответил другой…
…третий…
…четвертый…
И впервые, собранное воедино, тысячное колхозное стадо потоком устремилось по улице, мимо гроба Прасковьи.
Идут могучие красно-пестрые холмогорки с тяжелым выменем, идут черные с белыми мордами задастые ярославки, идут остфризы, белые с вкраплением черного, угольно-черные с белыми пролысинами и веселой сорочьей расцветки; идут коровы с рогами круто выгнутыми, как у муфлона, только в другую сторону, с рогами торчком, как у кашмирской козы, с рогами в виде маленьких острых ножей.
Сшибаясь боками, вздымая густую медовую пыль, проходят коровы перед мертвой старухой и поворачивают морды к потонувшему в цветах гробу.
Идет стадо, такое огромное и величественное и вместе беспомощное без ежедневной, ежечасной заботы человека.
А Трубникову, стоящему возле гроба, вспоминается другое стадо: несколько жалких, тощих, облепленных навозом одров, которых Прасковья хворостиной выгоняла на первый выпас после зимней бескормицы. Вот с чего началось нынешнее великое стадо, проходящее сейчас по деревенской улице.
А та, что отдала этому столько труда и сердца, что первая отозвалась Трубникову, когда еще никто в него не верил, мертвыми, невидящими глазами провожает своих питомиц.
Но вот отдалился слитный топот многих тысяч копыт, и грохнула медь оркестра…
Так начиналась легенда
Пасмурный ноябрьский денек. Ветер морщит воду разливанных луж, затопивших деревню Шахматово, что лежит посреди гжатской равнины. По окоему луж изгнивает палая листва. У крыльца избы-пятистенки застоявшаяся тройка переминается в жирной грязи. Позвякивают бубенчики на дуге коренника, хомутах и сбруе пристяжных. В их гривы и хвосты вплетены алые ленты. Кони запряжены в телегу, пышно набитую просяной соломой.
Распахнулась дверь из сеней – сваха и дружка вели невесту в фате и стареньком плюшевом пальтеце поверх белого венчального платья. Из-под юбки виднеются грубые мужицкие сапоги. У невесты терпеливое, приветливое, крепкое, в скулах, лицо, легкая, будто сострадательная улыбка.
Следом выходят немногочисленные родственники. Невесту подхватили под руки и трижды обвели вокруг возка. Чавкают по грязи сапоги. Дружка помог невесте забраться в телегу. Она истово перекрестилась на все четыре стороны.
– Родителев сюда! – зычно крикнул нарядный возница с перьями на шапке.
– Нету родителев! – отозвался дружка. – Сироту выдаем!..
Возница дернул волоки. Кони выхватили телегу из грязи и враз пошли ходко.
Венчание в деревенской церкви. Темные лики святых, свечи, ладанный дым. Перед алтарем – невеста и жених. Избранник шахматовской сироты – примерно одних с ней лет, поджар, смугловат, с темным озорным глазом.
Священник спрашивает, согласна ли раба Божья Анна взять в мужья раба Божьего Алексея и согласен ли Алексеи принять Анну…
…Повизгивая полозьями, размашисто бежали розвальни от Гжатска, зримого низкорослой окраиной и дымами труб, в равнинный снежный простор. Алексей Иванович Гагарин, «повзрослевший» на двенадцать лет, вез жену из родильного дома, твердой рукой укрощая резного меринка. Анна Тимофеевна прижимала к себе большой конверт с новорожденным.
Дома их с нетерпением ждали старшие дети: Валентин и Зоя.
– Вот Юрку вам привезли, сказала Анна Тимофеевна, опуская конверте младенцем на кровать.
– Юрка! – добродушно, во весь рот улыбается Валентин.
– Юрка! – вторит ему белобрысая Зоя.
Видимо, почуяв неладное, Анна Тимофеевна поспешно и ловко – третий ведь! – распеленала младенца Так и есть – мокро.
– Ну вот, поплыл по морю, корабельщик! – любовно сказал счастливый отец.
Младенец шевелит руками и ногами, каждым пальчиком поврозь, но, вместо того чтобы разораться, как положено каждому писуну, улыбается своим маленьким розовым ртом…
…Разливистой весной 1961 года, в двенадцатый от начала апреля день, Алексей Иванович, не ведая о том, что уже стало достоянием всего мира, с инструментом в продолговатом ящике за спиной и пилой в рогожной завертке на плече отправился из Гжатска в Клушино по своему плотницкому делу. В этом сильно постаревшем человеке мудрено высмотреть того молодого, смуглого парня с горячим темным глазом, каким мы видели его на свадьбе.
Сильно припадая на левую больную ногу, добрался он до переправы через Гжать и попросил дедушку-перевозчика доставить его на ту сторону.
– Только побыстрей, Петрович, запозднился я.
– Куда путь-то держишь?
– Да в Клушино. Подрядился новую чайную под крышу подвесть.
Гагарин сложил в лодку свой инструмент, забрался сам.
Оттолкнувшись веслом, старик погнал лодку против мелкой волны.
– Слышь, Юрка твой в каком чине-звании?
– До старшего лейтенанта уже допер! – значительно сказал Алексей Иванович. – Будь здоров!..
– Значит, не он, – решил перевозчик. – По радеву говорили: майор Гагарин на Луну полетел.
– Мало ли Гагариных летает, – философски заметил Алексей Иванович. – Может, когда и мой на Луну соберется… А тот, видать, отважный все ж таки парень!
Перевозчик согласно кивнул головой.
В Париже люди вырывают друг у друга свежие листы специального выпуска «Юманите».
В Берлине инвалид на протезе раздает прохожим непросохшие листовки с сообщением ТАСС.
Ликуют Лондон. Прага. София… Лагос… Мехико… Гавана.
Тысячи москвичей запрудили Красную площадь. Качают летчиков. Над толпой появляется плакат с портретом Гагарина.
Стелются над равниной темные дымы. Бомбардировки уже сделали свое дело: горят железнодорожные строения, склады, горят деревни, стога сена, рощи, перелески. Ползут по дорогам нестройные толпы беженцев из Белоруссии, со Смоленщины, движутся навстречу им части подкрепления…
Небогатое, но опрятное крестьянское жилье: русская печь в свежей побелке, поставец с выцветшими фотографиями в углу, рядом, – две-три похвальные грамоты, цветы на подоконниках, исхоженные, но стираные половики, широкая кровать с горой белейших подушек.
Анна Тимофеевна собирает сына в школу Она намазывает маслом ржаные толстые блины и заворачивает в газету. Кладет завтрак вместе с тетрадками, учебниками и пеналом в самодельный, обтянутый козелком ранец. Восьмилетний Юра, чистенько одетый, причесанный и наглаженный, с волнением следит за сборами.
– Ты все положила?
– Все, все, сынок, надевай свою амуницию.
От волнения Юра никак не может попасть и лямки ранца Анна Тимофеевна берет руку сына и просовывает в ременную петлю. Он нахлобучивает кепку и идет к двери.
– Не балуйся, сынок, слушайся учителей, – напутствует мать.
Юра быстро шагал по деревенской улице. Школа была расположена в другом конце деревни, за церковью и погостом. На церковной ограде, на стенах соседствующего с храмом сельсовета наклеены плакаты начала Великой Отечественной войны: «Родина-мать зовет!», «Будь героем!», «Смерть немецким оккупантам!», поблизости с десяток деревенских жителей под командой ветерана-инвалида занимались разучиванием ружейных приемов и шагистикой. Боевое оружие, не имевшееся в наличии, заменяли гладко обструганные палки.
– К но-ге!.. – кричал ветеран. – На пле-чо!.. Смир-но!.. Разучиваем парадный шаг!..
Юра Гагарин подошел к школьному крыльцу, украшенному еловыми ветками; сюда тоненькими струйками стекались со всех сторон деревенские ребятишки…
…Анна Тимофеевна из-под руки следила за сыном. Прихрамывая, подошел Алексей Иванович Гагарин. Его костистое лицо притемнилось.
– Не берут, чтоб им повылазило! – проговорил в сердцах. – Как сруб сгонять, так Гагарин, а как отечество защищать – пошел вон! Здоровьем я, вишь, им не угодил, чертям наповаженным!..
– Будет тебе, Алеша! – успокаивающе и печально сказала жена. – Никого не обойдет эта война проклятая.
– И то правда! – вздохнул Гагарин. – Люди сказывают, он к самой Вязьме вышел.
– Неужто на него управы нет?
– Будет управа в свой час.
– Когда же он настанет, этот час?
– Когда народ терпеть утомится…
Первый школьный день приближался к концу. Учительница Ксения Герасимовна предложила каждому новобранцу учебы прочесть свое любимое стихотворение. Сейчас, заикаясь и проглатывая слова, читала маленькая конопатая девочка:
…В каждом доме, в каждом чуме,
На полях, в фабричном шуме
Имя Ленина живет!..
И, вспыхнув всеми веснушками, девочка вернулась за парту.
– Молодец, Былинкина! – одобрила учительница. – Лупачев, теперь ты.
К столу учительницы шагнул толстый, молочный мальчик, похожий на мужичка с ноготок. Он аккуратно одернул свой серый пиджачок, прочистил горло и сказал, что любимого стихотворения у него нет.
– Ну так прочти какое хочешь, – улыбнулась учительница. – Пусть и нелюбимое.
Лупачев снова одернул пиджачок, откашлянул и сказал:
– А зачем мне нелюбимое запоминать? – И спокойно вернулся на свое место, ничуть не смущенный хихиканьем класса.
– Очень плохо, Лупачев, что ты не любишь стихов, – огорченно сказала Ксения Герасимовна. – Стихи делают красивее нашу жизнь… Гагарин!..
Она еще не договорила фамилии, а Юра выметнулся из-за парты и стремглав – к учительскому столу.
– Мое любимое стихотворение! – объявил он звонко, скользнув по классу загоревшимися глазами.
Он не заметил, что в окно за ним наблюдала мать, обеспокоенная долгим отсутствием сына, – первый школьный день действительно что-то затянулся.
Мой милый товарищ, мой летчик,
Хочу я с тобой поглядеть,
Как месяц по небу кочует,
Как по лесу бродит медведь.
Давно мне наскучило дома.
До этого места все шло прекрасно, на высшем вдохновении, но тут заело:
Давно мне наскучило дома…
Давно мне наскучило дома…
– Что ты как испорченный граммофон, – прервала его учительница. – Давай дальше.
– «Давно мне наскучило дома…» – сказал Юра затухающим голосом.
Класс громко рассмеялся. Юра поглядел возмущенно на товарищей, сердито – на учительницу, и тут пронзительно прозвенел звонок – вестник освобождения.
– Ну, хоть тебе и наскучило дома, а придется идти домой, – улыбнулась Ксения Герасимовна. – Занятия окончены!
Ребята захлопали крышками парт.
– Не разбегаться! Стройтесь в линейку!
– Как это – в линейку, Ксения Герасимовна?
– По росту.
Началась катавасия. Особенно взволнован Юра. Он мерился с товарищами, проводя ребром ладони от чужого темени к своему виску, лбу, уху, и таким способом неизменно оказывался выше всех. Со скромной гордостью Юра занял место правофлангового, но отсюда его бесцеремонно теснили другие, рослые ученики, и он в конце концов очутился почти в хвосте.
Но и тут не кончились его страдания. Лишь две девочки, в том числе конопатая Былинкина, согласились считать себя ниже Юры, но, оглянув замыкающих линейку, учительница решительно переставила Юру в самый хвост.
Он стоял, закусив губы, весь напрягшись, чтобы не разрыдаться. А во главе линейки невозмутимо высился толстяк Лупачев, не знавший ни одного стихотворения.
– До свидания, ребята! По домам! – сказала учительница.
Юра опрометью кинулся из класса и угодил в добрые руки матери. Она все видела, все поняла.
– Не горюй, сыночек, ты еще выше всех вымахаешь!..
По деревенской улице гнали стадо. Сшибаясь крутыми боками, покорно брели черно-белые остфризы, потупив печальные, терпеливые морды, словно ведали, какой долгий и нелегкий путь им предстоит. За коровами шли бычки-годовики, толкаясь короткими рожками. И в слезах бежала за ними ослепшая от горя заведующая фермой Анна Тимофеевна Гагарина.
Она нагнала пожилого ветеринара, мужниного брата Павла Ивановича Гагарина.
– Иваныч, побереги теляток-то! Доставь в целости и сохранности!..
Тот ничего не ответил, только поглядел грустно и понимающе да перекинул в губах погасший окурок.
– Паша… Пышкова… – обратилась Анна Тимофеевна к молодой женщине, сопровождавшей стадо. – Послаще им травку-то выбирай. А то грех на тебе будет.
– Не сумлевайся, Тимофеевна, – отозвалась Паша.
Замыкая стадо, прошла старая большая корова с иссякшим выменем, а за ней прокатилась войлочная груда овец похожая на громадный ком репейника. И в клубах пыли скрылось уходящее от войны колхозное стадо.
– Мам, не плачь, не надо! – просит невесть откуда взявшийся Юра.
– Как не плакать, сыночек, ведь сколько сил, сколько трудов отдано!.. – утираясь, произнесла Анна Тимофеевна.
Тишина разорвалась оглушительным треском моторов. Кинулась врассыпную деревенская живность, отыскивающая корм в траве обочь дороги, завыли цепные псы. Дико, невероятно и жутко, как в больном сне, над деревней пронеслись два краснозвездных самолета, за одним из них тянулся хвост черного дыма. Внезапно возникнув, они так же внезапно скрылись, только грохот их еще колебал воздух. Казалось, самолеты сели на картофельное поле за деревней.
Юра оторвался от матери и бросился в поле. Еще несколько деревенских ребятишек последовало его примеру.
Их ожидало разочарование: на обширном поле за деревней не было и следа самолетов. В разных местах подымались дымы, но то были костры пастухов, угоняющих на восток смоленские стада, костры беженцев или же то догорали строения, подожженные немецкими зажигалками.
– Улетели, видать…
– К базе своей потянули…
Ребятишки повернули назад. Юра остался. Он жадно оглядывал окрестность, вдруг сорвался и побежал через поле к можжевеловой поросли, за которой в низине лежало болото.
Там они оказались. Один самолет, целехонький, стоял на твердой земле, другой исходил последним дымком в теплой жиже торфяного болота. Видно, его погасило болотной влагой.
Юра подошел совсем близко, но пилоты не замечали его. Старший бинтовал своему молодому белобрысому товарищу раненую руку. Тому было очень больно, и, чтобы скрыть это, он на все лады честил Гитлера.
– В бога… в душу… в мать Адольфа!..
– Больно, да? – спросил старший.
– Чепуха!.. Если бы не ты, стучаться бы мне у райских врат.
– Ладно!..
– Я тебе этого сроду не забуду.
– Не трави баланду! – сердито оборвал старший. Он кончил бинтовать и заметил Юру. – Эй, пацан, это что за деревня?
– Это не деревня – село, – застенчиво пробормотал Юра.
– Вот формалист! Ну, село…
– Клушино.
Летчик достал из планшета карту, развернул.
Юре очень хотелось посмотреть, что это за карта, но, уважая военную тайну, он пересилил себя.
– Понятно, – пробормотал летчик. – Как звать-то?
– Юра… Юрий Алексеевич.
– Ого! А фамилия у тебя есть?
– Гагарин.
– Хорошая фамилия, княжеская.
– Не, мы колхозные.
– Того лучше. Председатель у вас толковый?
– Ага… – И, вспомнив слова, что говорили взрослые, Юра добавил серьезно: – Хозяйственный и зашибает в меру.
Оба летчика рассмеялись.
– Вон как здорово! Записку ему отнесешь.
Подложив планшет под листок, вырванный из блокнота, пожилой летчик принялся что-то писать.
– Дядь, а вас на фронте подбили? – спросил Юра раненого.
– Факт, не в пивной, – морщась, ответил тот.
– А он чего так низко летел? – спросил Юра о старшем.
– Меня прикрывал.
– Как – прикрывал?
– От врагов оборонял. Это, браток, взаимовыручкой называется. Запомни это слово.
– Я запомню. Дядь, а когда летаешь, звезды близко видны?
– Еще бы! – усмехнулся раненый. Как на ладони.
– А там кто есть?
– Вот не скажу. Так высоко мы еще не залетали. А сейчас и вовсе не до звезд. Начнешь звезды считать – тут тебе немец и всыпет.
– Значит, вы звезды считали?
– А тебе пальца в рот не клади! Я ихнюю колонну поливал и от снаряда не уберегся.
– Слушай, Юрий Алексеевич, тебе боевое задание, сказал пожилой летчик. – Передашь вот эту записку вашему преду. Понятно?
– А вы не улетите? – с тоской спросил мальчик.
Летчики переглянулись.
– Мы здесь зимовать останемся, – пошутил молодой.
– Нам воевать надо, – серьезно сказал старший. – А ну-ка, исполнять! Живо! Одна нога здесь, другая там!
Юра опрометью кинулся выполнять первое в своей жизни боевое задание…
По пути он чуть не сшиб с ног горбатенькую соседку тетю Пашу.
– Ишь, оглашенный!.. Глаза потерял?..
– Теть Паша, ты председателя не видела?
– На площади он… Ополченцев провожает.
Юра попал на «площадь» – утоптанное малое пространство перед правлением колхоза с билом посередине, – когда председатель Сурганов заканчивал напутственное слово клушинским народным ополченцам.
– …От века клушинцы бесстрашно ломали горло врагам России. Не посрамит боевой славы нашей земли клушинское народное ополчение. Ждем вас с победой, товарищи!..
Председатель вроде хотел еще что-то добавить, но тут его кто-то сильно потянул за локоть. Он оглянулся и увидел гагаринского мальчонку.
– Чего тебе?..
Юра таинственно поманил его в сторону. Сурганов удивленно повиновался и получил в ладонь записку летчиков.
Пока он разбирал наспех набросанные строки, ополчение построилось в походный порядок, развернулось и двинулось в сторону Гжатска. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед» – хрипловато и дружно понеслось над Клушином.
– Все ясно, – сказал председатель. – Они на болоте?
– Ага, за вырубкой.
– Ладно. Задание ты выполнил. Можешь быть свободен. Только ни-ни! – Скрывая улыбку, Сурганов прижал палец к обветренным губам. – Военная тайна…
Анна Тимофеевна не без любопытства наблюдала за таинственными переговорами сына с председателем, но тут внимание ее отвлек Алексей Иванович, возникший невесть откуда и присоединившийся к колонне ополченцев. Он был повязан ремнем поверх своего вытертого пиджака, в сапогах и старой армейской фуражке, с «сидором» за плечами. Она охнула, бросилась было к нему, но вдруг раздумала.
Командир ополчения подошел к непрошеному хромому добровольцу и что-то сказал ему. Алексей Иванович сделал вид, что не слышит, и продолжал шагать в строю. Командир, приблизив ладонь ко рту, бросил какую-то команду, ополчение прибавило шагу. Гагарин изо всех сил старался не отставать.
Ополчение перевалило через бугор и двинулось чуть не на рысях полем в ту сторону, где небо обливалось зарницами залпов. Гагарин отстал. Он старался изо всех сил, но против рожна не попрешь – не позволяла калеченая нога. Он отставал все сильнее и сильнее. Потом остановился, грустно и сердито поглядел вослед уходящим, плюнул и повернул назад.
Анна Тимофеевна успокоилась. Теперь внимание ее переключилось на сына.
– О чем это ты с председателем шептался? – спросила она подозрительно.
– Военная тайна, маманя.
– Вот всыплю горячих, будешь знать военную тайну! – обозлилась Анна Тимофеевна.
– Да за что?.. – вскрикнул Юра, предусмотрительно отступив.
– Самостоятельные больно стали!.. – проворчала Анна Тимофеевна.
И тут она заметила, что Алексей Иванович пробирается задами, сквозь заросли крапивы и чертополоха, к дому И, щадя его потерпевшее урон самолюбие, сказала:
– Давай к тетке Дарье заглянем, она мне дрожжей обещала.
Мать с сыном пошли другой улицей…
…Алексей Иванович раздвинул ветви жимолости и почти наткнулся на чернявого, цыганистого мужика, смолившего цигарку у плетня. Мужик поглядел на него насмешливо.
– Что, не угнался?
– А тебе какое дело? – огрызнулся Гагарин.
– Не горюй, Иваныч, – с той же насмешкой продолжал цыганистый мужик, – целей будешь. От этого воинства затрапезного и кучки дерьма не останется.
– Ну ты, полегче! – вскипел Гагарин. – Люди на бой пошли!..
– Какой бой, Иваныч? Чем они биться-то будут? Учебными винтовками – одна на десятерых?
– Рано, гляжу, тебя из тюряги выпустили.
– Не-ет!.. – Мужик явно издевался. – В самый, как говорится, раз! Ты еще убедишься, Иваныч, что в самый-самый час свой вышел я на волю!
Это прозвучало угрожающе. Но Гагарин был не из пугливых.
– Я-то, правда твоя, не угнался. А ты, похоже, в кусты?..
– Грызь у меня, Иваныч, – нарочито жалобно сказал мужик. – Однокамерники каблуками все кишки отшибли.
– Доносил, что ли?
– Грубо, Иваныч! Есть культурное слово: ин-фор-ми-ро-вал…
– А по мне: как донос не называй, он все равно донос!
…По пути Анне Тимофеевне и Юре попался холмик с деревянной оградой и белым, источенным мохом камнем, на котором не разобрать было надписи. Холмик усыпан поздними осенними цветами: астрами, георгинами, золотыми шарами.
Анна Тимофеевна сдержала шаг.







