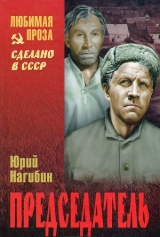
Текст книги "Председатель (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Мертвая тишина.
– Не знаете. Вот и я не знаю. Завтра буду говорить с каждым из вас в отдельности. А пока отдыхайте, товарищи!..
И в полной тишине – лишь по-прежнему стрекотала кинокамера, – даже не оглянувшись на президиум, Трубников вышел. Гулко прозвучали его шаги.
* * *
Утро. Трубников входит в правление. Кочетков работает за своим столом. В углу жмется с десяток любителей высшего образования.
– А где же остальные гармонисты? – спрашивает Трубников.
– Вернулись к мирному сельскому труду, – весело отвечает Кочетков, щелкая костяшками счет.
– Прошу обоих Трубниковых, Веру Болотову и Машу Звонареву, – говорит Трубников, проходя в кабинет.
– Своих-то без очереди! – ревниво шепчет Нюра Озеркова толстому, флегматичному Мише Костыреву.
В окно видно, как подъезжают к амбару груженные зерном грузовики. Колхозники, молодые и старые, помогают ссыпать зерно.
Трубников вручает пасынку, Тане Трубниковой – младшей сестре Алешки, Вере и Маше заранее приготовленные справки.
– Всем вам желаю удачи. А тебе, – это относится к Маше, – будущий агроном, особенно!
Ребята выходят.
Сейчас очередь Миши Костырева. Он быстро, шепотом спрашивает товарища:
– Опять забыл. Куда поступаю?..
Товарищ чего-то говорит ему на ухо. Миша проходит в кабинет председателя.
– А ты куда думаешь поступать? – Трубников снизу вверх разглядывает рослую Мишину фигуру, увенчанную круглой как шар головой.
– В этот… в институт, – запнулся Миша.
– Ишь ты!.. А я думал, ты к кузнечному делу присох. Ширяев стар, болен, мы рассчитывали, ты его место займешь.
Миша захлопал пшеничными ресницами, в глазах его мелькнуло что-то жалкое, но он промолчал.
– Вон как тебя разагитировали! – удивлен Трубников. – Скажи я тебе неделю назад – до потолка бы подпрыгнул! Значит, профессия кузнеца тебя не устраивает. В каком же чине-звании хочешь послужить народу? Миша молчит.
– Так куда же ты поступаешь?
– …В парно… графический! – выпаливает Миша Трубников глядит на него с интересом.
– Пиши заявление… Пиши… Прошу отпустить меня на учебу и так далее… – Он протягивает Мише листок бумаги.
Миша берет из пластмассового стаканчика перо и, подперев языком толстую щеку, пишет заявление.
– Молот ты вроде ловчее держишь, – замечает Трубников. – Готово?.. Так вот, если в райкоме комсомола спросят, почему тебя не отпустили, покажи им свою писанину. А насчет кузницы – все в силе!
На месте обескураженного Миши появляется Нюра Озеркова.
– От кого-кого, а от тебя не ожидал, – с искренним огорчением говорит Трубников…
В приемной Миша показывает свое заявление товарищам. Те смотрят и разражаются громким хохотом.
– Силен Мишка! Вот это выбрал специальность!
– Да объясните, черти!
– В полиграфический надо было, дубина!
Миша выходит из правления не один – его конфуз отбил охоту к продолжению образования еще у нескольких ребят…
– …Другим-то справки дали! – сухо блестя глазами, укоряет председателя Нюра.
– Борька на архитектуре, сама знаешь, помешанный, а Танька сызмальства всем деревенским кошкам клистиры ставила и лучше иной знахарки людей травами лечила. Тут страсть души. У Веры редкий голос, а Маша на агронома пошла значит, не к нам, так в другую деревню вернется. А у тебя какая страсть, какой талант? Лишь бы в город сбежать! Сама же говорила: не выйдет в иняз, так хоть в аптекарский.
– Я что, не могу себе судьбу выбирать?
– Нет.
– Это почему же?
– Потому что соплячка, потому что сама не знаешь, чего хочешь. Вот когда Ваську защищала, ты знала, чего хотела, а сейчас просто с жиру бесишься, легкой жизни захотелось!
– А может, вы мне сейчас всю судьбу ломаете?
– Нет. – Трубников улыбнулся. – Ломать-то нечего. Послушай меня серьезно. Если я тебя отпущу, значит, я как бы признаю, что любая, самая шальная, случайная жизнь в городе будет лучше, чем наша жизнь. Я не могу с этим согласиться. Иначе зачем я сам небо копчу? Нет, всем, что во мне есть, я убежден, что ты можешь быть счастливой и будешь счастливой здесь!
На лице Нюры – смешанное выражение обиды, удивления и какой-то стыдливой нежности. Видимо, еще никто не говорил с ней так. Закусив губы, с глазами, полными слез, она выбегает из кабинета.
– Следующий! – кричит Трубников, усмехаясь про себя.
Никого. Он подходит к двери, открывает ее.
В приемной пусто.
* * *
Вечер. В доме Трубниковых.
– Присядем на дорогу, – говорит Надежда Петровна Борьке, опускаясь на краешек лавки.
Мужчины – Трубников, Кочетков и одетый по-дорожному Борька – молча садятся на лавку.
Надежда Петровна со вздохом встает и идет к двери.
У крыльца уже ждет колхозный вездеход, где сидят три девушки – будущие студентки – и неизменный Алешка Трубников.
– Скорее, Борис, опаздываем! – кричит ему Вера Звонарева.
Борис кладет в «газик» чемодан и возвращается к матери. Они обнимаются крепко-крепко. Надежда Петровна изо всех сил сдерживает слезы.
– Пиши! – просит она.
– Ну, счастливо, Борис, – нарочито суховато говорит Трубников. – Веди себя не кое-как!.. – Он протягивает пасынку руку.
– До свидания, – говорит Борис и неожиданно для самого себя добавляет: – отец…
Они поцеловались. Борис пожал руку Кочеткову.
– Какие существуют ордера колонн? – с улыбкой спросил Кочетков.
Борис засмеялся и побежал к машине.
«Газик» рванул с места и вскоре исчез вдали…
* * *
Обком партии. Идет совещание, посвященное итогам сельскохозяйственного года. Кроме первого секретаря Чернова в кабинете находятся Калоев, заведующий отделом культуры обкома, Клягин и другие партийные работники.
– Все сроки вышли, – говорит Чернов. – Область должна рапортовать о хлебосдаче… А чем мы можем похвалиться? Как ни округляй, картина тусклая… – он ворошит какие-то бумажки на столе. – Скажи, товарищ Клягин, неужели ты все добрал?
Клягин разводит руками.
– Все, товарищ Чернов, и еще немножко… – Он потупил голову.
– Чепуха! – раздается резкий голос Калоева. – Есть в районе хлеб!
Чернов удивленно повернулся к нему, Клягин поднял голову, моргает глазами.
– Нам точно известно, что колхоз «Труд» утаил зерно, – отчетливо говорит Калоев. – Не верите – в закромах поищите!
– Так это на трудодни оставлено, – тихо говорит Клягин.
– Раз такое положение в области, надо предложить Трубникову сдать зерно, – решительно заявляет Калоев.
– Как в других колхозах, – поддакнул заведующий отделом культуры.
– Да знайте же меру, товарищи! – вскипел Чернов. – Одни бездельничали, другие вкалывали на совесть – нельзя всех под одну гребенку стричь!
– Трубников хочет баранку кушать, а рабочий класс не хочет баранку кушать? – будто для себя говорит Калоев.
– Колхоз «Труд» выполнил план хлебосдачи на сто восемьдесят процентов! И если Трубников запланировал зерно в оплату трудодня, что ж…
– Трубников, Шмубников, – бормочет Калоев словно в легком трансе. Товарищу Ста-ли-ну рапортуем!.. При чем тут Трубников?..
* * *
Раннее утро. Дверь в кабинет Трубникова распахнута, мы видим его из приемной. Он сидит у окна, подперев голову рукой. За окном моросит сентябрьский дождик, будто слезы ползут по стеклу. С равными промежутками мимо правления проносятся тяжелые грузовики, высоко груженные мешками с зерном.
В правление заходит Прасковья. Долго, жалостливо глядит на Трубникова и бесшумно выскальзывает прочь Трубников не заметил ее – взгляд его намертво прикован к окну…
Хозяйственный двор колхоза. Уныло моросит дождь. У склада зерна люди в зеленых ватниках задергивают брезентом мешки, загруженные в трехтонку.
У одного грузовика, уже готового к отправке, захлопывают задний борт. Стоя возле кабины, Кочетков получает от начальника автоколонны накладную.
Семен Трубников запирает ворота опустевшего складского помещения.
– Ты чего домой не идешь? – окликает его Доня. В дождевике и высоких резиновых ботах, с кошелкой в руке, Доня, видимо, наладилась за покупками. Семен подошел к супруге.
– Зерно сдавали, нешто не видишь? – Он кивает на грузовики.
– Ладно брехать-то! Зерно когда еще сдали!..
– Значит, не все сдали, – степенно говорит Семен.
– Господи! – Доня закусила нижнюю губу. – Это ж наши трудодни вывозят!..
– Tc!.. Дурища!.. – Семен боязливо оглянулся на людей в зеленых ватниках. – Начальство знает, что делает… А мы… Мы и без Егорова хлеба проживем.
– Да как же он на это пошел? – с болью, но понизив голос, произносит Доня.
– Так его и спросились! – Он понижает голос до шепота – и в самое ухо жене – Это ему Калоев подстроил., за студентов. Только смотри. Тсс! – И громко, мстительно говорит Семен: – Нехай и в «Труде» люди за палочки вкалывают.
– Надо же!
– Это еще что! – довольный впечатлением, говорит Семен. – Его вовсе хотят из партии турнуть!
– …Врешь?! – говорит Доне ошеломленная продавщица сельмага, рябая деваха в перманенте.
Доня стоит у прилавка в окружении жадно любопытствующих слушательниц.
– Очень надо! По всей области звон идет, одни вы дуры темные…
– Чего же все-таки от него хотят?
– Ясно чего! Или, говорят, к законной жене вертайся, или партийный билет на стол!
– Неужто так и сказали?
– А вы думали, за двоеженство по голове погладят?
В магазин вошла Надежда Петровна. Она слышала последние слова, и смуглое лицо ее матово побледнело. Но ее никто не заметил.
– А Егор Иваныч что, – интересуется продавщица, – к брошенке вернется?
– Не… он Надьке преданный, – тихо замечает Полина Коршикова.
– Преданный, не преданный… Партийный билет-го один, а такого добра, как Надька, хоть завались!.. – ехидничает Доня.
– Донь… – толкнула ее в бок старуха Самохина, глазами указывая на вошедшую.
– А плевать я на нее хотела! – закусила удила Доня – Не уважаю! Вцепилась мужику в портки, и пропадай все пропадом!..
– Грязная ты! – проговорила Надежда Петровна.
– А все чище тебя! – с торжеством отозвалась Доня. Надежда Петровна, поникнув головой, повернулась и пошла к выходу.
Полина Коршикова нагнала ее, обняла за плечи.
– Это все неправда… неправда… Ну скажи, Поля? – в отчаянии спрашивает ее Надежда Петровна. – Ведь Егор не стал бы от меня скрывать?
Но Полина молчит, отводя глаза.
* * *
Трубников сидит у окна. Входит Кочетков, сбрасывает дождевик, вынимает какие-то бумаги из планшета и кладет в стол.
– Раскулачили подчистую! – натянуто шутит он. – Можешь гордиться, Егор, теперь мы выполнили план госпоставок на двести процентов!
Трубников молчит. Кочетков подходит к нему и видит погасшее лицо друга.
– Ну ладно, Егор… Давай жить дальше.
– А как? – глухо произносит Трубников. – Мне стыдно людям в глаза глядеть. Выходит, и кто лодыря гонял и кто вкалывал кровь с носу – всех под одну гребенку обстригли…
– Никто тебя не винит. – Кочетков нервно закуривает.
– Ладно, помолчи… – Трубников снова смотрит на заплаканное окно, за которым с пробуксовкой ползет очередной грузовик с зерном.
Возвращается Прасковья и тихо проходит в кабинет. За ней появляются Игнат Захарыч, Самохина, кузнец Ширяев, Павел Маркушев.
За окном проползает новый грузовик.
– Да пройдут они когда-нибудь, мать их в душу?! – кричит в бешенстве Трубников.
– Слава тебе господи, выздоровел! – слышится густой бас Игната Захарыча.
Трубников оборачивается и видит свою испытанную гвардию.
– Вы чего тут?
– Прасковья панику навела. «Дуйте, орет, в правление, батька вешаться собрался!»
– Врет он как сивый мерин, – плюет Прасковья. – Сроду я таких глупостей не говорила. А что не показался ты мне – это верно. Сидишь как сыч, нахохлился, на себя не похож, я и погнала их сюда!
– В общем, Егор Иваныч, – решительно начинает Ширяев, но по скудности запаса слов заканчивает менее бодро, хотя и от души, – ты знай, что мы того… завсегда… одним словом… с тобой, значит!..
– Хорошо сказано! – одобряет Игнат Захарыч. – Завсегда!
– В «Маяке» сроду зерна на трудодни не давали, и ничего! – добавляет Прасковья. – А у нас и денежный аванс дали, и картошку, и грубые корма. До новины как-нибудь дотянем!
– Хлеб легче вырастить, чем людей, – говорит Ширяев. – Пусть мы зерна лишились, зато сохранили людской состав.
– Ну, хватит митинговать, – своим обычным жестким тоном говорит Трубников. – Давайте работать. А ты, Прасковья, смотри у меня – людей от работы отрывать! Тоже еще – народный трибун!
Посмеиваясь, колхозники выходят. Трубников глядит им вслед, затем поворачивается к Кочеткову.
– Вот люди… да за них десять раз сдохнуть не жалко!
«Егор, я ушла к Прасковье. Жить буду у нее. Так нужно. Надя».
Трубников протягивает записку Кочеткову. Они молча смотрят друг на друга, затем Трубников, как есть, без плаща и шапки, бросается на улицу.
В избе Прасковьи. Трубников и Надежда Петровна.
– Нет, Егор, нет, дорогой, – качает головой Надежда Петровна. – Так надо.
Она полностью овладела собой. Смуглое лицо ее полно доброты и спокойной решимости.
– А я и не прошу! – кричит Трубников. – Если ты не вернешься домой, я тебя!.. – Не зная, какой каре подвергнуть Надежду Петровну, вдруг выпаливает: – Я тебя из колхоза исключу!
– Довольно, Егор! – говорит она с непривычной твердостью. – Я ведь тихая, а коли тихий человек чего решит, его не собьешь.
И Трубников понял, что ему не переубедить Надежду Петровну. Ради него пошла она на самую трудную для себя жертву и не отступится, чего бы ей это ни стоило. Плечи председателя впервые поникли…
* * *
Завывает вьюга. Крутит белые спирали и гонит их по деревенской улице, словно снежные перекати-поле.
Кабинет Чернова. Владелец кабинета сидит за столом, его большое крестьянское лицо, как и всегда, кажется огорченным, но появилось в нем что-то новое: усталая ясность и, пожалуй, твердость.
– Надо нам потолковать по душам, Егор Иванович, – говорит Чернов.
– Ка-ак? – Трубников приложил ладонь к уху, лицо его в этот момент отнюдь не свидетельствует о ярком уме.
– По душам, говорю!.. – повысил голос Чернов. – Как коммунист с коммунистом…
– Не поздно ли? – туповато спросил Трубников.
– Лучше поздно, чем никогда…
– А-а! – Трубников делает испуганные глаза. Он оглядывает кабинет, подходит к тумбе с телефонами и снимает трубки.
– Что это значит? – в голосе Чернова удивление и недовольство.
– Такой разговор лучше без свидетелей вести! – дурашливо ухмыляется Трубников.
– Да бросьте вы… – отмахнулся Чернов.
С улицы донесся долгий звук автомобильной сирены. Чернов подходит к окну и раздергивает шторы. Трубников присоединяется к нему.
На площадь из-за поворота выскакивает черная машина и, в нарушении правил, мчится через площадь, оставляя на белом снегу широкие, дегтярно-черные полосы. Высвеченное фонарями, в задней стенке фургона четко обрисовалось зарешеченное окошко.
– «Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной!..» – вполголоса напевает Трубников.
Чернов, словно от боли, поморщился.
– Ладно, Егор Иваныч, – устало говорит он. – Ты не Суворов, я не Павел! Брось прикидываться! – переходит он на «ты». – Лучше скажи-ка, только прямо… во что веруешь?
– Я? – Трубников теперь пристально глядит в глаза Чернову. – В триединство, товарищ Чернов!
– То есть?
– Верю в партию, Советскую власть, коммунизм! Чернов кивнул головой.
– Ну так вот… – помолчав, говорит он. – Представили мы тебя к Герою Социалистического Труда. Думаю, Москва поддержит. В случае чего сам съезжу, потолкую в ЦК. Тогда ты станешь не по зубам Калоеву…
– Вон что! – Трубников понимающе смотрит на Чернова.
* * *
Приемная секретаря обкома. За столом, погрузившись в чтение какого-то романа, сидит знакомая нам секретарша. Слышится мелодичное посвистывание и входит Калоев. Уверенно направляется к кабинету.
– Товарищ Чернов занят, – говорит секретарша, отложив книгу.
– У вас сколько диоптрий? – почти коснулся пальцем ее очков Калоев.
– Три… – растерянно ответила секретарша.
– Мало, мало! Надо пять, шесть, десять диоптрий! – кричит Калоев. – Вы же людей перестали узнавать!
– Я вас прекрасно узнала, товарищ Калоев, – взволнованно говорит секретарша. – Но товарищ Чернов сказал, что никого не примет.
Калоев презрительно оглядывает ее.
– Кто у товарища Чернова?
– Председатель колхоза… Трубников.
– А-а! – с каким-то странным выражением говорит Калоев и, повернувшись на каблуках, посвистывая, уходит…
* * *
Кабинет Чернова.
– Слушай, Егор Иваныч, как у тебя с семейной жизнью? – дружески спрашивает Чернов.
– Порядок. Полное отсутствие таковой.
– Но официально ты женат?
– Женат, да больно далеко целоваться бегать.
– Что это значит?
– Жена-то в Москве… Нету у меня никого. Штемпель в паспорте.
– Как же так?.. А другая жена?
– Была, да сплыла, – горько усмехнулся Трубников. – И не другая, а просто жена. Единственная.
– Ты с ней расстался?
– Не я, она со мной рассталась. Подводить меня не хотела, вот она какой человек!.. Да ладно об этом…
– Егор Иваныч! Чего бы ни стоило, добейся развода и начинай жить по-человечески. Нельзя же так!
Трубников внимательно посмотрел на Чернова, глаза его потеплели.
– Ну, хватит! Я в своей семейной жизни как-нибудь и сам разберусь… Я вот о чем хотел поговорить… Не знаю, конечно, ко времени ли такой разговор… Ну вот, скажем, будешь ты в ЦК. Так не пора ли поднять вопрос о закупочных ценах? Это же, если откровенно сказать, издевательство над колхозниками.
– Я-то с тобой вполне согласен… – начал было Чернов, но Трубников не дал ему договорить.
– Или насчет МТС, – уже в запале продолжает он. – Это что же получается… Ведь если здраво на дело поглядеть… зачем колхоз должен МТС кланяться? Нешто уж мы такие слабые? А что если всю технику да при своих руках? Нет, тут прикинуть надо! Может быть, пора как-то по-другому повернуть все это дело…
– А вот ты и прикинь, Егор Иваныч! – подхватывает Чернов. – Подработай записку в ЦК. Только дело это непростое… все должно быть обосновано, на фактах, с примерами… А?
– Будет записка! – Трубников поднялся. – Подонкихотствую на старости лет!
* * *
В раздевалке обкома Трубников обмотал шею шарфом, подошел к большому зеркалу, странно приглядываясь к отражению почти незнакомого себе человека, и, надвинув шапку, заторопился к выходу…
* * *
В приемную Чернова входит Калоев.
– Освободился товарищ Чернов? – с подчеркнуто ядовитой вежливостью спрашивает он секретаршу.
– Пожалуйста, товарищ Чернов один.
– Нет, доложите, – возразил Калоев. – Может быть, он думает свою высокую думу?
В этот момент открылась дверь кабинета. Оттуда вышел в кожаном пальто и кубанке Чернов.
– Пожалуйста, – пригласил он Калоева и, вернувшись к столу, снял кубанку.
– Товарищ Чернов… Сердце болит… Что я услышал?.. Вы этого удельного князя, этого многоженца к «Герою» представили?
– Не пойму, о ком ты?
– Как – о ком? О Трубникове, о ком же еще! Хороший пример для коммунистов: план выполняешь – так можешь наложниц иметь! Целый гарем можешь иметь!
– Погоди, погоди… – остановил его Чернов, – плохо твои пинкертоны работают, подтянул бы малость… Они уже с осени разъехались. Прошу. – И он гостеприимно показывает Калоеву на выход.
* * *
Вездеход Трубникова катится по улице Конькова. Трубников ссутулился на переднем сиденье возле водителя. Теперь, когда он не следит за собой, видно, как он устал, осунулся, какую горькую печаль наложило время на его черты. И вдруг: бац! – о переднее стекло разбивается пущенный чьей-то рукой снежок. Трубников встрепенулся. Алешка резко затормозил.
Из-за сугроба появляется девушка в короткой шубке и бежит прямо к машине. На ходу оборачивается и кидает в кого-то снежком И тут снежок ее невидимого противника проносится мимо лица Трубникова и попадает в голову Алешке.
– Вот дьяволы! – отплевывается Алешка.
Словно ища защиты, девушка прижалась к ступенькам вездехода Она подымает смеющееся лицо, это Нюра Озеркова.
– Слушай, Нюра, – наклоняется к ней Трубников, – если хочешь, поступай летом в институт.
– А мне и здесь хорошо! – с вызовом говорит девушка. – Я очень к телятам привязалась.
Из-за сугроба – шапка на затылке, в поднятой руке ком снега выскакивает парень.
– Жизнь или смерть? – кричит он Нюре и тут замечает председателя.
– Добрый вечер, Егор Иваныч!
– А, Валежин! – тепло говорит Трубников, и Нюре: – понимаю и одобряю твою привязанность.
– Вы о чем? – спрашивает Валежин, подходя к машине.
– О телятах, – отвечает Нюра.
* * *
Вездеход Трубникова продолжает, свой путь.
– В том-то все и дело… – вслух произносит Трубников.
– Чего? – не понял Алешка.
– Ты никогда не задумывался, чем движется жизнь?
– Не-е!
– Тем, что Ваньке хочется целоваться с Машкой. Что наступает ночь, а утром звучат гудки и все расходятся по своим местам, и пока все это есть жизнь будет продолжаться.
– Мудрено.
– Нет. Проще пареной репы.
У своего дома Трубников соскакивает, а вездеход уносится в темноту. Трубников идет к дому, но тут его кто-то окликает:
– Егор Иваныч!
Он оглянулся, густая тень ракиты накрыла женскую фигуру. Трубников подошел.
– Доня? Ты чего тут?
– Тише! – Она берет его за руку и увлекает в тень. – Я уже третий день тебя выглядываю, все нет и нет…
– А чего в дом не зашла?
– Нельзя, чтобы меня с тобой видели. Слушай, Семен на тебя заявление послал.
– Тоже – новость! В райкоме особый шкаф для его заявлений поставили.
– Да не в райком, а в эту… в безопасность…
– Это сейчас в моде, – усмехнулся Трубников.
– Плохое заявление… Что ты окружил себя врагами народа и все по их указке делаешь.
– Хватит чепуху городить.
– Крест! Я всего прочесть не успела. Семен отнял. Там про Кочеткова прописано, будто он говорил, что в лагере крыс едят, и чего-то еще про Сталина – не разобрала.
– Чем ему Кочетков помешал?
– Он говорит, Кочеткова по болезни освободили, ему ничего не будет, зато, мол, Егора с колхоза попрут.
– Вон что!
– Ты скажи этому Кочеткову, чтобы он мотал отсюда!
– Ему дальше огорода ходу нет! Он все равно что стреноженный…
– Это почему же?
– У него паспорт с клеймом… Эх, Доня, и как ты можешь жить с таким гадом, как Сенька?
– Ас кем мне жить прикажешь, с тобой? – на лице Дони блеснули слезы. Я согласная! Пойду с тобой хоть в тюрьму, хоть в лагерь, хоть куда хочешь!
– Да будет тебе…
– А ты на меня глядел, я подмечала! – с отчаянностью шепчет Доня. – На ноги мои глядел, на грудь глядел!
Странно, Трубникова словно не удивляет этот неожиданный ее порыв.
– Может, и глядел, только пустое это…
– И для меня пустое! Я с Семеном на всю жизнь вот так связана!
– Это почему лее?
– А он мне мой грех простил! – быстрым шепотом отозвалась Доня. – Ну, ступай, только побереги себя, Егор! – Она вдруг подалась к нему всем телом и сильно прижала к себе рукой. – Ну, ступай, ступай!..
Трубников не пытался ее оттолкнуть, молча смотрел на блестящее от слез лицо. Когда же она отпустила его и скрылась в темноте, он еще несколько секунд недвижно простоял под деревом.
– Что так долго? – спрашивает Кочетков Трубникова, который уже разделся и обметает голиком сапоги. – Я уже начал беспокоиться…
– Напрасно! Просто был большой и добрый разговор.
– Значит, Чернов – человек?
– Да еще какой! Мы с ним тут кое-что затеяли… Мне понадобится твоя помощь…
– Ну что ж, за мной дело не станет. Давай-ка к столу. Будем ужинать…
– А выпить не найдется? – неуверенно спросил Трубников.
– Ого! – поражен Кочетков. – «Я слышу речь не мальчика, а мужа!»
– Замерз что-то…
Кочетков достает с полки начатую четвертинку, стопки.
– И всего-то есть в нашем холостяцком доме! – Он быстро накрывает на стол. – Обслуживание на высшем уровне, – одобряет он сам себя.
И теперь усталость и трудные мысли свалились на Трубникова, придавили плечи.
Разливая водку по стопкам, глянул на него Кочетков.
– Разговор был добрый… а вид у тебя… или устал?
– Да нет… – Трубников провел ладонями по лицу. – Много все-таки сволочей на белом свете, – вздохнул он. – Ну да черт с ними! Не такое перемалывали… За что вьшьем?
– Я – за тебя, Егор.
– Нет, давай – за нас!
Они чокаются, пьют, и в это время по окну, глядящему на улицу, хлестнула ярким светом фар подъехавшая машина.
Затем свет отсекся, из оконной протеми глянуло в избу незнакомое мужское лицо в фуражке.
Трубников и Кочетков поставили пустые стопки на стол, молча смотрят друг на друга. Хлопает входная дверь, в сенях – грубый постук сапог.
– Вот и выпили на посошок! – сказал Кочетков и прошел в свою комнатенку.
В кухню входят четверо. Одернув китель, Трубников заступает им дорогу.
– Не торопитесь, товарищ Трубников, еще успеете, – говорит один из вошедших и отстраняет его прочь.
– Кочетков Василий Дмитриевич здесь проживает? – громко спрашивает другой.
– Да! – слышится спокойный голос.
Кочетков вышел из боковушки, полностью снаряженный в дорогу: в пальто и шапке, – он-то сразу понял, за кем пришли.
– Оружие?
– Гаубица в огороде, – говорит Кочетков. Оттолкнув его, двое проходят в скудно обставленную комнатенку и начинают обыск.
Один из вошедших потянул с полки книгу и обрушил с десяток томов.
– Осторожнее, – побледнев, говорит Кочетков, – это ЛЕНИН!..
Кочеткову делают знак выходить. Трубников протягивает ему сверток с бельем.
Кочетков слегка кивает. Говорить ему ни к чему – каждое слово сейчас на учете.
Трубников подчеркнуто выпрямляется, так отдают приветствие в армии, если не покрыта голова…
По улице бежит Надежда Петровна. Платок сбился с ее головы; поскальзываясь, она едва не падает.
И тут же видит, как фургон, мазнув по забору светом фар, отъезжает от дома. Надежда Петровна чуть не упала, привалилась к забору…
Пересилив себя, медленно, перебирая руками частокол, она идет вдоль изгороди.
Трубников сидел на лавке возле темного окна. Лицо его сухо и спокойно каким-то каменным, мертвым спокойствием. Он не услышал, как хлопнула в сенях дверь, как вошла женщина.
Надежда Петровна так и осталась стоять, прислонившись к дверному косяку…
* * *
Областное управление МГБ. В кабинет следователя заходит Калоев. Следователь – крупный, тестовый человек с большими, как лопаты, руками встает при входе начальства. Подследственный – это Кочетков – подымает голову и тоже хочет встать, но Калоев остановил его ласково-властным движением руки…
– Василек, какой счет? – спрашивает он следователя.
– По двум периодам три – два было…
– В чью пользу?
– ВВС.
Калоев цокнул языком и включил радиоприемник. Вначале слышен лишь хриплый шум, затем пулеметный голос Синявского:
– Итак, в третьем периоде команды обменялись двумя шайбами… лидер первенства – команда летчиков – одержала очередную победу со счетом пять-четыре, динамовцы откатились на третье место. На этом мы заканчиваем передачу с центрального стадиона «Динамо»…
Калоев гневно выключает радио.
– Оборонительная тактика подвела, – говорит он огорченно. – Наступать надо… наступать… Слушай, Кочетков, я давно хотел у тебя спросить: зачем ты в лагере крыс ел?
– Для гигиены. – Слабая улыбка тронула лицо Кочеткова – Чтоб грызунов не было.
– Такой веселый и так плохо выглядишь… Беречь себя надо… Никогда мы о себе не подумаем, «а годы проходят – все лучшие годы»… Такого поэта погубили! Что говорил тебе Трубников в ноябре перед праздниками? – спросил неожиданно Калоев.
– Не помню, – пожал плечами Кочетков.
– Ох, какая у тебя память… А двенадцатого октября что говорил?
– Не помню.
– Значит, не хочешь помочь органам? – расстроился Калоев. – Василек, спроси у него, за что Трубников так Советскую власть не любит?
Огорченный Калоев выходит.
* * *
Бегут мутные мартовские ручьи по деревенской улице, неся на себе щепки, веточки, накренившийся, совсем размокший бумажный кораблик.
Нависшая над крыльцом сосулька исходит капелью. Стеклянно барабанят капли по дну старой бочки, установленной под водостоком.
Вечереет.
* * *
Трубников входит в дом. Надежда Петровна читает письмо Бориса. Она не слышала, как вошел муж.
Трубников с нежной жалостью смотрит на ее проточенную сединой голову, потом осторожно трогает за плечо. Она испуганно вздрогнула и подняла голову.
– Егор!.. А мне показалось. – Она передернула плечами под шерстяным платком.
– Что пишет Борис?
– В комсомол его приняли.
– Молодцом! И у меня новости!
– О Кочеткове?
Трубников помрачнел.
– Какие могут быть новости о Кочеткове? Ясно одно: раз я на свободе значит, не удалось им его расколоть.
– Как это – расколоть?
– Ну, заставить оговорить меня. Ведь им Кочетков только для того и нужен…
Все тревожнее и тревожнее глядит на Трубникова Надежда Петровна.
– Так какие же у тебя новости, Егор, – тронула она его руку, – хорошие или плохие?
– Разные… С «Героем» вроде задержка…
– А почему?
– Шьют, должно быть, связь с врагами народа… Это с Васей. Зато записку мою Чернов одобрил, как говорится, полностью и безоговорочно! Ну, так вот, Надя, – продолжает он, – Чернов едет в Москву с моей запиской… и посоветовал и мне туда податься. – Трубников помолчал. – Может, я и для Кочеткова защиту найду…
– К кому же ты пойдешь?.. К Сталину?.. Трубников невесело усмехнулся.
– Да кто меня к нему пустит?.. Нет, Надя. Но есть Центральный Комитет, есть старые товарищи… – добавил тихо.
– Ох, не пойму я, Егор, – страдальчески говорит Надежда Петровна, – то ли тебе слава выходит, то ли решетка?
– Вот и разберись тут, – невесело усмехнулся Трубников.
* * *
…И вот мы снова как бы возвращаемся к началу нашего повествования.
Ночь. Околица деревни. Где-то тоскливо воет собака. Разбрызгивая сапогами мартовскую грязь, бредет человек с рюкзаком за плечами. Только сейчас он держит путь прочь от деревни и не один – рядом с ним женщина.
Они подходят к перелеску и здесь прощаются. Мужчина идет дальше, женщина остается. Она долго смотрит ему вслед, пока он не исчезает за деревьями. Потом медленно бредет назад…
* * *
Утро. Над полем кружит воронье, оглашая мартовский простор резкими криками.
Сильный паровозный гудок сметает с крон деревьев другую огромную стаю. Уже и неба не видно за темными телами.
* * *
Маленькая железнодорожная станция.
Пути переходит какой-то человек. Возле платформы, готовый к отправке, стоит поезд дальнего следования. Поезд тронулся, человек вскочил на подножку.
Он проходит в тамбур и глядит на убегающие вспять станционные постройки, плакучие березы, кусты вербы с набухшими почками…
Стучат колеса на рельсовых стыках.
* * *
…В почти пустом вагоне дремлет на полке Трубников. Шапка закрывает ему лицо. Ему снятся колокола. Их тревожный набатный звон звучит в его ушах. Колокола звонят, и звонят, и звонят. В их звон вплетается ржавый вороний ор, все нарастающий и нарастающий, и кружат черные стаи, будто справляя зловещий вороний пир…
Но звон колоколов, все нарастающий, заглушает вороний грай, победно рвется в небо… Вольно стелется по чистой весенней земле.
Этот звон переходит в лязг буферов. Поезд, приближаясь к большому железнодорожному узлу, начинает резко тормозить.
От толчка Трубников просыпается, открывает глаза. Он смотрит в окно и видит, что поезд подходит к вокзалу областного центра.








