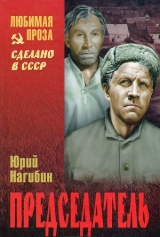
Текст книги "Председатель (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– Что поделать, – говорит он низким, густым голосом, – у дублера повысилось давление. Да, сорвано... Буду нести ответственность за все. Мне не привыкать.
В кабинет вошел Гущин, он слышал последние слова своего начальника.
– Шеф, – сказал он, – погодите отменять испытания. Я полечу.
– Вы с ума сошли!.. Нет, это не вам. Я перезвоню. – Он бросил трубку на рычажок.
– Я в полном порядке, – сказал Гущин. – Дайте мне "добро", шеф.
– А пример Булдакова вас, мягко говоря, не настораживает?
– Нет, тут что-то не то... Я знаю: о мертвых надо говорить хорошее или молчать, но Булдаков что-то напортачил.
– Не много ли вы на себя берете?
– Ручаюсь за успех. У меня есть допуск к полетам. Я же бывший военный летчик.
– А если неудача?
– Дам подписку...
– Я не о том. Булдаков был мастером своего дела.
– Вы разве забыли, шеф, я мастер парашютного спорта.
– Я не о том. Мне непонятно, что вами движет. Конечно, неплохо было бы доложить о выполнении правительственного задания, но я лучше выйду в отставку, чем сделаю это ценою риска.
– Риск есть во всем, шеф, даже в езде на мотоцикле.
– Здесь он несколько выше.
– Как сказать! Мы сбросили двадцать кукол – и все было нормально. Я буду двадцать первой – хороша сумма – очко!
– Мне не нравится ваша веселость. Она неестественна... Послушайте, Гущин, как ваша семейная жизнь?
– Она касается только меня, шеф, – Гущин перестал улыбаться. – Не превышайте своих полномочий.
– А вы не учите меня! – сказал тот ворчливо. – Я вам в отцы гожусь. И спрашиваю не из пустого любопытства, я должен знать, кого посылаю.
– Давайте я заполню анкету, репрессиям не подвергался, на оккупированной территории не был, над оккупированной бывал не раз, в оппозиции не участвовал, родственников за границей не имею, взысканиям не подвергался. Самая лучшая анкета – сплошное отрицание.
– Продолжайте, – как-то очень серьезно сказал шеф. – Ближайшие родственники?
– Вы их знаете: жена Мария Васильевна тридцати девяти лет, домашняя хозяйка, дочь Евгения семнадцати лет, школьница, проживает по моему адресу.
– Какие у вас отношения с женой?
– Оставьте мою жену в покое! Прекрасные отношения, дай бог вам! Я самый счастливый муж на свете. Довольно с вас?
– Нет! – старик ударил по столу кулаком. – Откроем карты: мне нужен испытатель, а не самоубийца!
Гущин мертвенно побледнел, и в какой-то миг показалось, что он бросится на своего шефа. Но вместо этого он вдруг рассмеялся.
– Ваша хваленая принципиальность начисто изменила вам, шеф. Вы едва ли найдете человека, которому так хотелось бы уцелеть и так нужно уцелеть, как мне.
– Я не понимаю иносказаний, но ваш смех звучит убедительно. Вы хотите жить. Что ж, даю вам добро.
– Спасибо, шеф, – растроганно сказал Гущин. – Вы не представляете, как я вам обязан!
– Но зато я знаю, как буду обязан вам, – пробурчал шеф. – Идите на медицинский осмотр...
...Взлетная дорожка аэродрома. К самолету приближается грузовик. В кузове лежит набоку нечто диковинное, напоминающее пленного марсианина: человек в скафандре, белом круглом шлеме, намертво соединенным с металлическим креслом.
Грузовик остановился возле самолета. К нему подвозят специальный подъемник, пленного марсианина опутывают тросами и загружают в кабину самолета. За прозрачной маской из искусственного стекла пилоту улыбнулись спокойные глаза Гущина.
Кресло зафиксировали в нужном положении. Гущин опробовал рычаги. Дан старт, и самолет резко набрал высоту...
...Начальник Гущина, несколько крупных чинов ВВС и другие причастные к испытанию лица наблюдают за полетом из круглой застекленной комнаты, где находится пульт управления.
– Приготовиться! – звучит команда.
– Внимание!
– Пошел!
И почти сразу:
– Отставить!
Ибо самолет, упустив какие-то мгновения, проскочил поле, и сейчас под ним лес. Новый заход.
– Приготовиться!
– Внимание!
– Пошел!
И опять ничего не происходит – самолет снова "потерял" поле.
– Пилот волнуется, – проворчал шеф.
– Пилот ли?... – сказал кто-то скептически.
Шеф зверем глянул на говорившего...
...Кабина самолета.
– Возьми себя в руки, – говорит Гущин пилоту. Самолет выходит на поле.
– Приготовиться! – подает команду пилот.
– Внимание!
– Пошел!
В тот же миг Гущин резким движением вышибает клинья, закрепляющие кресло, то есть "выстреливает" собой.
...Снизу видно, как над самолетом возникло темное тело, затем распалось надвое: это отделилось кресло, и начался "каскад" – заработала система из нескольких парашютов.
Ближе к земле парашютиста подхватил ветер и понес в сторону леса.
Из гаража выехала санитарная машина с зловещим красным крестом. В нее забрались санитары.
Умело действуя стропами, парашютист препятствует сносу в опасную зону и, наконец, вовсе осиливает ветер...
...Гущин приближается к земле. Он видел ее под собой: огромную, светлую, манящую, с лесами, реками, пашнями, дорогами, садами, крышами и широко распахнул руки, словно желая ее обнять...
...Через несколько минут Гущин доложил шефу: "Задание выполнено". Старый, грузный, мрачный и властный человек молча обнял Гущина
– Не стоит благодарности, шеф, – смеясь сказал тот. – Я поступил как эгоист. Мне просто нужна была маленькая проверка.
...Почтовое отделение. Гущин протягивает в окошко телеграфный бланк.
Девушка-телеграфистка прочла, шевеля губами: "Требуются ли еще седые человеческие волосы?" Удивленно подозрительно посмотрела на Гущина, почему-то вздохнула и стала пересчитывать слова...
Гущин вышел из почтового отделения. В черной "Чайке" его поджидал шеф.
– Ну, теперь куда? – ворчливо спросил он.
– Как поется в песне: "Куда глаза глядят", – весело отозвался Гущин.
– В "Арагви", – сказал шеф водителю.
...Утро. Спешат на работу люди. Со своим неизменным портфелем под мышкой идет Гущин. Заходит на почту.
Он подошел к окошечку, где выдают корреспонденцию до востребования.
– Гущин, – назвал он себя, протянув паспорт.
Он получил его назад вместе с телеграммой: "Да, да, да. Очень, очень срочно. Наташа"...
Домой Гущин вернулся очень поздно с каким-то свертком. Поймав удивленный взгляд жены, он сказал спокойно:
– Я уезжаю.
– Опять командировка?
– Ты не поняла меня. Я совсем уезжаю.
Она опустилась на стул, словно подогнулись ноги, нашарила в фартуке сигареты, жадно закурила.
– Как все это понять?
– Я уезжаю в Ленинград. Навсегда.
– Ну что я говорила! – вскричала она с каким-то странным торжеством. Я сразу почуяла, откуда ветер дует.
– Да, ты очень проницательна, – бесстрастно сказал он.
– А зачем ты мне врал? – это прозвучало по-детски.
Гущин усмехнулся.
Она вдруг сникла, погас стеклянный блеск глаз, – случившееся наконец-то дошло до ее сознания.
– Уезжай, – сказала она устало. – Ты вправе это сделать... Когда ты едешь?
– Лечу. Завтра утром.
– А как же работа? – спросила она, словно это имело значение.
– Все сделано. Мне пошли навстречу. Я буду тебе помогать, независимо...
– Не надо об этом, Сережа, я знаю.
Их разговор прервало появление вернувшейся из похода дочери. Она вошла в пластиковых брюках и в ковбойке с закатанными рукавами, загорелая до черноты, с облупившимся носом и обветренными щеками.
– Привет, дорогие предки!
– Женя, папа нас оставляет, – сказала Мария Васильевна.
В красивых глазах Жени вспыхнул доброжелательный интерес к отцу, наконец-то решившемуся на поступок.
– Давно пора! – сказала она искренне. – Ты оставь мне свой новый адрес, папа, я когда-нибудь загляну к тебе на огонек... На ванну никто не претендует? – и Женя вышла из комнаты.
– Вот как все просто кончается, – вздохнула Мария Васильевна.
"Греки со смехом прощались со своим историческим прошлым", вспомнилось Гущину.
– Мне почему-то не смешно, – сказала Мария Васильевна. – Но ты прав, прав!.. – и казалось, она уговаривает самую себя. – Ну, да что это я? Надо собрать тебя, постирать...
– Этого еще нехватало! – резко сказал Гущин.
– Но как же ты поедешь?
– Как Брюллов, – и в его усмешке была жестокость.
– Я что-то не понимаю...
– Когда Брюллов покидал николаевскую Россию, то скинул на границе всю одежду и голый перешел в новую жизнь.
– Ты не щадишь меня напоследок, а ведь лежачего не бьют.
– Давно ли ты стала лежачей?.. Всегда лежачим был я, и меня били... Били, били по чем ни попало!
– Это правда... Но ты мог подняться. Я вот смотрю на тебя, как ты сохранился! У тебя молодые глаза
– Меня выдерживали на холоду.
– Да, понимаю твою шутку. А на кого я похожа?
– Ты, кажется, никогда не жаловалась на равнодушие окружающих.
Она махнула рукой.
– Это пока ты был... А сейчас кому я нужна? Брошенная жена, да еще в столь опасном возрасте. Моя песенка спета... – Он хотел что-то сказать, но она предупредила его. – Пойми, я не жалуюсь и не хочу тебя растрогать. И не злюсь на тебя, может быть, немного завидую. Но все правильно: "Каждому свое", как написано на воротах Бухенвальда
– К чему все это? – с тоской сказал Гущин.
– Прости. Не сердись. Но дай мне собрать тебя в дорогу. Я не собирала тебя на войну, это сделала твоя мать. Но ведь сейчас для меня...
– Нет! – перебил Гущин. – Не надо. Ничего не надо. Давай лучше молчать, как все эти годы...
...Утро только занималось, солнечное, синее, когда Гущин вышел из ванны. Он причесал перед зеркалом свои густые седые, а сейчас стальные от влаги волосы и стал одеваться. В свертке, который он принес с собой накануне, оказались легкие летние брюки, шерстяная рубашка и сандалеты. Он с удовольствием надел на себя все эти новые вещи, и они ладно пришлись к его сухой, сильной фигуре.
Гущин быстро закончил несложные сборы, сунул в карман электрическую бритву, зубную щетку и гребенку. Проверил билет на самолет и положил его в бумажник. Достал из шкафа потертую, но еще сносную замшевую куртку, накинул на плечи.
Он подошел к полке с книгами, провел пальцем по их старинным, тисненым золотом корешкам. Улыбнулся дружески.
Вышел в коридор. Прислушался. Жена и дочь спали. Он постоял в раздумье, словно не зная, разбудить их или уйти тихо, никого не обременяя ненужными сложностями.
– Ну, ладно... – пробормотал он и пошел к двери. – По пути взгляд его упал на старый портфель, валявшийся в прихожей. Освобожденный от всякой начинки, он напоминал не то лопнувший воздушный шар, не то сброшенную змеей кожу – что-то совсем мертвое, отжившее, ненужное. Гущин улыбнулся и потрогал пальцами истончившуюся до лепестковой тонины плоть своего старого верного спутника. Хоть с кем-то простился...
Он осторожно открыл дверь, вышел на лестницу и так же осторожно закрыл за собой. И кинулся с лестницы, как с горы... Даже тихого звука закрываемой двери оказалось достаточно, чтобы прогнать непрочный, тревожный сон Марии Васильевны. Она села на постели и прижала руку к больно забившемуся сердцу. Она сразу поняла, что Гущин ушел. Босиком, в одной рубашке, растрепанная и жалкая, она побежала в столовую.
Окно долго не поддавалось, как всегда бывает, когда торопишься, когда время не ждет. Но вот оно поддалось, в грудь Марье Васильевне пахнуло свежестью утра: ветром чужого счастья. Озабоченное, испуганное и напряженное выражение на ее лице сменилось другим: заинтересованным, жадным, растерянно-добрым. Незаметно для самой себя она помахала рукой в спину уходящему Гущину.
Гущин уходил все дальше и дальше, и она все сильнее тянулась из окна вслед человеку, с которым прожила лучшие годы жизни, так ничего в нем не поняв...
...Гущиным владело чувство бегуна, с полным запасом сил вышедшим на финишную прямую. Ладная одежда усиливала ощущение легкости, владевшее всем его существом. В душе его творилась музыка. Он шел по ранней, только что расцветающей, влажной от полива, гулкой улице, и ему казалось, что впереди возникают очертания Петропавловской крепости – неповторимый силуэт Ленинграда, от которого его отделяла дорога длиною в час. Он с такой нежностью пробуждал в себе образы Ленинграда, словно это Наташа специально для него построила город, перекинула мосты через Неву и Фонтанку, поставила Ростральные колонны, обнесла решеткой каждый парк, перебросила арки там, где дома мешали прорыву улиц к площадям. Гущин шел и улыбался, и музыка, творившаяся в нем, звучала будто извне.
На перекрестке он сдержал шаг, чтобы кинуть последний взгляд на дом, где похоронено столько его дней и ночей. Эх, не оборачиваться бы ему, ведь скольких людей, если верить Библии и народным преданиям, погубил взгляд, брошенный назад!.. Но Гущин оглянулся. Он увидел знакомые стены, окна, и одно окно было распахнуто, из него далеко высунулась женщина и смотрела ему вслед. Он не узнал в первый момент своей жены, но затем в странном неестественном приближении, словно свершилось некое оптическое чудо, он увидел ее небрежное лицо с расширенными порами, погасшие глаза в морщинистых веках, никому не нужное, беззащитное лицо рано постаревшей женщины. Да, в ней ничего не осталось от чистопрудной девчонки! И странно, ни злости, ни ожесточения не было в этом бледном лице; она смотрела сверху, а казалось – снизу, взглядом поверженного всадника, сбитой выстрелом птицы.
И этого Гущин не мог вынести. Он издал горлом какой-то странный глотательный звук и повернул назад. Он шел, и музыка умирала за его спиной. Его шаги гулко, жестко, мертво отдавались в пустоте улицы. Резко заскрипела в этой странной тишине дверь парадного и глухо захлопнулась за Гущиным. Женщины уже не было видно в окне. Некоторое время слышались тяжелые, медленные шаги Гущина на лестнице, и настала тишина. Потом наверху захлопнулось окно.
Самый медленный поезд
литературный сценарий
Из здания почтамта, на ходу читая письмо, появляется высокий, седоголовый человек в плаще с поясом и прочных, на толстой подметке ботинках. Его толкают, он даже на замечает этого, так захватило его письмо.
Затем, дочитав, он прячет письмо в карман, быстро проходит к стоящему возле тротуара "Москвичу", садится и резко трогает с места.
"Москвич" несется по улицам со скоростью, явно превышающей орудовские правила. Мелькают красивые здания, скверы, памятники сегодняшнего весеннего Волгограда.
"Москвич" покинул пределы города, и теперь скорость его возросла до предела. Он обгоняет не только полутоужи, и пятитонки, бензовозы и пикапы, но и "Волги", "ЗИЛы", ловко разминается со встречными машинами. Его водитель очень торопится...
"Москвич" с вынужденной медлительностью ковыляет по разрытой, изжеванной колесами самосвалов, тягачей и МАЗов строительной площадке в окрестностях города. Но вот водитель остановил машину, вылез наружу и сразу стал игралищем жестоких ветров, что свирепствуют веснами в низовьях Волги и неощутимы лишь в городах.
Боком наваливаясь на ветер, человек идет мимо экскаваторов, землечерпалок, мимо молодых парней и девушек, вгрызающихся в землю лопатами, киужами. Вот рядом с ним опорожнила тачку, груженную щебнем, рослая девушка в больших брезентовых рукавицах.
Распрямившись, девушка увидела человека Ее миловидное, но жестко обветренное, с сухими обметанными губами лицо осветилось радостной улыбкой.
– Товарищ Сергеев!
– Здравствуйте, Наденька!. Ну как, еще не обогнали "проклятого" Сенючкова?
– Обгонишь его при таком ветрище! – жалобно говорит девушка.
– Сенючков, видно, ветроустойчив? – шутит Сергеев. Девушка смеется.
– Не знаете, где комсорг?
– Вон торчит! – Девушка показывает на торчащие из-под заглохшего тягача грязные сапоги.
– Остались от козлика рожки да ножки! – напевает Сергеев и вместе с Надей подходит к тягачу.
– Миша! – кричит Надя. – К тебе представитель прессы!
Комсорг вылезает из-под тягача, невысокий, крепкосбитый, симпатичный паренек в испачканном землей комбинезоне и кепке блином. Хочет поздороваться с Сергеевым, но сам первый отдергивает черную от гари и масла руку.
Вера дает ему рукавицу, теперь они могут обменяться рукопожатием.
– Зачастили вы к нам, товарищ Сергеев! – говорит комсорг.
– Ну как же – передовая стройка! – улыбается Сергеев. – Вот что, комсорг, у тебя работает Лена Стрелкова?
Лицо комсорга вытянулось.
– Значит, вы приехали за отрицательным материалом?..
– Там разберемся. Где мне ее найти?
– Да вот, – говорит комсорг и подводит удивленного Сергеева к траурной черной доске, на которой аршинными буквами начертано:
"ПОЗОР ДЕЗЕРТИРАМ СТРОЙКИ: ГАРРИ ОРЕШКИНУ, ВАРВАРЕ ОРЕШКИНОЙ-СВИСТУНОВОЙ, ЕЛЕНЕ СТРЕЛКОВОЙ".
Помрачневший взгляд Сергеева задерживается на последней фамилии.
– А ведь заклеймить – самое простое, комсорг, – говорит Сергеев.
– Я поседел из-за этой чертовой Ленки! – комсорг сорвал кепчонку со своих черных, как смоль, кудрей. – Тяжелейший случай, товарищ Сергеев: в мечтах – кубинская революция, на деле – от дождичка скисает!
– А тут еще подруга, мадам Орешкина, урожденная Свистунова, вмешивается Надя и, явно подражая кому-то, противно гнусавит: – С романтикой не вышло, плюй на все и береги здоровье. Нас тут не поняли...
– Ладно, – жестко обрывает Сергеев, которому явно тяжело все это слушать. – А где она?..
...На этот вопрос он получает ответ от старушки-вахтерши женского общежития:
– Уехала, милок. Ты малость с ней разминулся... Сергеев кидается в "Москвич" и яростно гонит его по ухабистой дороге в сторону шоссе...
На шоссе, уже в виду автобусной остановки, возникает одинокая девичья фигуужа. Девушка идет медленно, то и дело перекладывая из руки в руку тяжелый чемодан. Машина поравнялась с девушкой. Приоткрыв дверь, Сергеев что-то говорит ей, видимо, предлагает подвезти. Та отрицательно качает головой, но потом, сдавшись, садится в машину. "Москвич" быстро удаляется к городу...
"Москвич" приближается к железнодорожному переезду, загроможденному товарняком, и пристраивается в хвосте машин.
– Теперь будем загорать, – говорит Сергеев и выключает мотор. – Раз наше путешествие затянулось, давайте знакомиться: Сергеев, журналист.
– Просто Лена, – называет себя девушка.
– Удивительный это город, – задумчиво говорит корреспондент, окидывая взглядом окрестность, – что ни шаг – чья-нибудь судьба. Видите вон тот столб с часами?
Девушка с равнодушной вежливостью смотрит в указанном направлении. Обычный железный столб, обычные уличные часы. На фоне этих часов звучит голос Сергеева:
– А вот двадцать лет назад...
Тот же столб, но обезображенный снарядными ранами, черный, покосившийся, и на нем часы с разбитым стеклом, с оборванной минутной стрелкой...
За часами исщербленная осколками стена дома, где помещается военная комендатура, на ней надпись: "Отстоим волжскую твердыню". Парень в ватнике и ушанке с ведеужом в руке, взобравшись на груду щебня, кистью вписывает букву "Р", теперь надпись читается: "Отстроим"...
Под часами нетерпеливо прохаживается маленькая женщина. Вот она остановилась и с радостной улыбкой на нежном тающем лице смотрит на работу доморощенного художника. И другие люди, проходившие по улице, – военные и штатские – не оставляют без внимания эту крошечную поправку в лозунге, за которой целая эпоха.
Нетерпеливо-ожидающий взгляд женщины обратился к комендатуре. Она вздохнула и подняла голову, чтобы посмотреть, которыый час, но время на часах давно замерло. С досады, то ли на себя, то ли на часы, женщина сердито топнула ногой. Ей неможется, она проводит рукой по пылающему лицу, распахивает свой романовский полушубок, и мы видим, что ей вскоре предстоит стать матерью.
Из комендатуры быстрым шагом выходит статный, с седыми висками военный; в петлицах у него ромбы и "гадючка" – эмблема медицинской службы. Он подходит к молодой женщине.
– Заждалась, бедная! – говорит он с нежностью. – Все в порядке, вот пропуск... Ты что это – душа нараспашку?.. – он заботливо и властно застегивает на ней полушубок.
– "Старый муж, грозный муж!"... – любовно говорит женщина
– Нельзя так, Ниночка, надо себя беречь. И в дороге...
Он не успевает договорить. Где-то совсем близко раздается громкая автоматная очередь. Чей-то испуганный крик. Метнулись в разные стороны прохожие.
Военврач оборачивается и видит...
...из подвала, поливая улицу автоматными очередями, выскакивает немецкий солдат, худой, грязный, с безумным взглядом, с черным, перекошенным от ярости лицом. Солдат стреляет вслепую: вдоль улицы, по развалинам, ввысь, будто желая расстрелять само небо, и вдруг замечает близ себя двоих людей. Что-то меняется в его лице, словно невидящие глаза загорелись почти сознательной волей. Он опускает автомат и надвигается на военврача и его жену. Нашаривая пистолет, военврач прикрывает собой жену и тут же падает, прошитый пулями. Немец продолжает расстреливать упавшего. Жена бригврача кидается вперед, вырывает у него автомат и убивает солдата.
А затем, шатаясь, с лицом, искаженным дикой мукой, она подходит к убитому и падает на его тело...
...Снова шоссе и разъезд, уже не загроможденный товарняком, трогаются машины, и включается в общее движение "Москвич".
Лицо Лены задумчиво и как-то взволнованно-серьезно, видимо, рассказ ее тронул.
– А вы не знаете, что было дальше с этой женщиной? – тихо спрашивает она
– ...Но вы торопитесь на вокзал?..
– Я успею.
Корреспондент прибавляет скорость, обходит вереницу машин, и вскоре слева от них возникает железнодорожная станция: "Бекетовка". Они подъезжают к зданию станции и останавливаются.
Сергеев жестом предлагает Лене выйти из машины.
Они медленно идут к станции.
– Этот самый медленный поезд на свете уходил отсюда, из Бекетовки, начинает свой рассказ корреспондент...
...К длинному товарному составу нескончаемой чередой брели немцы: в шинелях с поднятыми воротниками, в пилотках, натянутых на уши, с ногами, закутанными с солому, войлок, тряпки, с обмороженными, худыми, смертельно усталыми лицами. Бывший цвет немецкой армии, ныне это сломленные люди, на собственной плачевной участи убедившиеся в безнадежности развязанной Гитлером войны. Один из немцев падает. Конвойный казах подходит и слегка подталкивает его носком сапога: "Штеен!" Снизу вверх глядят испуганные, умоляющие глаза молодого немца
– А что б тебя!.. – с брезгливой жалостью бормочет конвойный, наклоняется и, ухватив немца под микитки, почти несет его к теплушке.
В конце эшелона прицеплен старенький, дачного вида, вагончик с деревянными стенами и окошечками, как в крестьянских избах. Такие вагончики нередко служат жильем рабочим-железнодорожникам.
И здесь идет посадка. Парень в военной форме, с черной повязкой на глазу, подсаживает на ступеньку девочку лет семи-восьми с большими, задумчивыми, серьезными до мрачности глазами.
Подходит человек с погонами майора и туго набитым корреспондентским планшетом, в руке у него цинковое ведро. Левая рука на перевязи. В человеке, хоть он и молод, без труда можно узнать корреспондента Сергеева. Он опускает ведро на землю и помогает забраться в вагон молодой беременной женщине, жене погибшего бригврача. Следом за ней поднимается ее подруга, черненькая девушка, похожая на галчонка.
Подходят трое одинаково одетых мужчин: на всех шинели, поверх дождевики, ушанки, через плечо полевые сумки. Один из них, самый молодой, опирается на палочку.
– Ого! – весело приветствует их Сергеев. – Весь цвет обкома! Куда путь держим?
– На места! – отвечает пожилой инструктор Сердюков. – Это что – боевой трофей? – щелкает он пальцем по цинковому ведру.
– Там миноги, – поясняет корреспондент. Инструкторы дружно смеются.
– Трогательное единодушие, – замечает маленький, полный инструктор Афанасьев.
Слышится сильный паровозный гудок. Бойцы задраивают дверцы теплушек, набитых пленными.
– Прошу садиться в спальный вагон прямого сообщения с тем светом! басит Сердюков, и его товарищи поочередно забираются в вагон.
Лязгают буфера, содрогается всем своим дряхлым телом вагончик. И тут, запыхавшись, подбегает полная, немолодая, со свежим, розовым лицом женщина. Она швыряет свои узлы в вагон.
– Скорей, мамаша! – кричит Сердюков и помогает женщине взобраться на площадку.
– Спасибо, милок! – добродушно улыбается женщина. – Все ж ки успела!.. – Она высовывается наружу, на ее полном, добром лице выражение боли и нежности. – Прощай, мой город, – шепчет она, – прощай Волга!..
...Медленно ползет длинный эшелон по голой, выжженной, вытоптанной, изжеванной снарядами и бомбами сталинградской земле.
Внутри маленького вагончика, где едут наши герои, залаживается своя дорожная жизнь. В средней части вагончика сняты скамейки, здесь установлена печуужа с трубой, выходящей в крышу вагона.
Одноглазый парень "оккупировал" две скамейки, ближайшие к печке. На одной он уложил девочку, на другой готов растянуться сам, но ему мешает черненькая девушка.
– Эй, боец! – говорит она свободным, независимым тоном.
– Освобождай койку!
– Еще чего! У меня тут ребенок!
– А у меня?.. – черненькая показывает глазами на бременную подругу. Хуже всякого ребенка.
Одноглазый парень послушно освобождает койку. И тут же испуганно вскакивает девочка
– Ты куда?..
– Да никуда! Что ты, глупенькая? Я же с тобой, – с нежностью, странной для его мужественного облика, смуглого, заветренного лица и преречеркнутого повязкой глаза, отвечает боец и пристраивается на лавке рядом с девочкой.
Черненькая смотрит на него с удивлением.
– Сестренка? – спрашивает она,
– Дочка, – твердо глядя ей в глаза, отвечает боец. Появляется с ворохом сена полная, добродушная женщина, едва не опоздавшая на поезд.
– Хоть на полу, да все к теплу поближе, – весело говорит она, сваливая ворох сена возле печурки.
– Что ж вы, тетя наша, – замечает одноглазый.
– Это как же тебя, милок, понять?
– А так, что вы всю оборону под самым жутким огнем обитались, а тут...
Другие пассажиры прислушиваются к их разговору.
– Правда твоя! – радостно говорит женщина. – Только тебе-то откуда известно?
– Да вы же нас козьим молоком поили! Вас тетя Паша звать. Вы в землянке за литейной проживали.
– Верно! Ты, стало быть, с четвертой минометной. То-то и мне твоя личность будто приметная.
– Откуда же молоко бралось? – с профессиональной заинтересованностью спрашивает корреспондент Сергеев. Он раскуривал самокрутку от печи.
– У тети Паши там коза была, – с улыбкой говорит одноглазый. – Потому, верно, и не ушла, что козьим молоком нас поддерживала.
– Да будет тебе! – отмахнулась тетя Паша – Какое с козы молоко!..
– И все это под огнем?!. Непонятно
– И мне, милый, непонятно, – отвечает тетя Паша, – а было...
– А куда девалась кормилица-то наша?
– Убило ее осколком.
Парень словно ищет козу в вагоне.
– Нет я уж теперь до конца посевной не вернусь, – видимо, отвечая кому-то из товарищей, говорит инструктор Афанасьев.
– Как это спокойно мы сейчас говорим "до конца посевной", – обращается к Афанасьеву корреспондент. – А еще десять дней назад ну кто об этом мог думать?
– "Поле великой битвы вновь становится пахотой" – вот вам название для очередной статьи, – скрывая под шутливостью иное, серьезное чувство, говорит Афанасьев. – Как вам нравится заголовок?
– Что же, неплохое название! – улыбается корреспондент.
– Хорошо с вами, – замечает Сердюков, – а мне пора сходить. – Он встает и застегивает плащ.
– Счастливого пути! – отзывается Сердюков и идет к выходу.
– Тут вроде нет остановки, – говорит корреспондент.
– Иван Иванович, погодите!..
– Нельзя, брат, – оборачивается Сердюков. – Люди ждут, КАДРЫ!.. подчеркивает он последнее слово.
Трое его товарищей подымаются и следом за ним выходят в тамбур.
Подобрав полы дождевика, Сердюков деловито и спокойно кидается с подножки в заглохший сумрак мартовского дня. С трудом удержавшись на ногах, он через рельсы шагает туда, где его ждут люди... Вечерний режим.
Бегут голые поля, хранящие на себе следы и знаки великой битвы: где зарывшийся носом в землю немецкий бомбовоз, где покрывшийся ржавчиной тяжелый танк, где разбитая повозка, или труп лошади; полнятся вешней водой огромные воронки.
У печки одноглазый парень беседует с тетей Пашей.
– А все же тебе повезло! Много ли с вашей четверки народу уцелело?
– Почитай, никого...
– Почти никого...
(Гнетущая тишина)
– Верно это, что одним глазом в глубину не видишь? – вмешивается черненькая девушка.
– Враки! Вон, за окном водокачка, за ней дерево, дальше – лужа, а еще дальше – роща чернеет.
– Точно! – радостно подтверждает черненькая.
И тут, лязгая буферами, тесня самого себя своим членистым телом, эшелон замедляет ход и останавливается возле развалин, бывших некогда станцией.
Среди развалин ржавеют куски железа, гильзы от снарядов и патронов, немецкие каски, жестяные коробки мин. Внезапно все это исчезает за вагонами и платформами встречного эшелона В окнах мелькают товарные вагоны, цистерны с горючим, платформы, груженные сельскохозяйственными и строительными машинами, грузовиками, кирпичом, бревнами, досками, песком.
– На поправку! – счастливым голосом говорит тетя Паша – Такой город в первую очередь восстановят.
– И будет он самым красивым на свете! – убежденно отзывается черненькая.
Эшелон прошел. Через рельсы в сопровождении бойца, который тащит баул и большой темный предмет, напоминающий футляр от аккордеона, спешит женщина в распахнутой котиковой жакетке, с крашеной золотистой головой.
– Видать, попутчицей будет, – замечает тетя Паша. Из окна видно, как козыряет боец, прощаясь с новой пассажиркой.
Но вот и она сама с шумом появляется в вагоне и сразу направляется к печке.
– Гражданочка, тут местов свободных нет! – полушутя выкрикивает черненькая.
– Да будет тебе! – останавливает ее тетя Паша – Они рядком со мной устроятся.
Но женщина, опустив на пол свои пожитки, с восторгом глядит на черненькую.
– Ой, до чего здорово вы сказали! Как настоящая кондукторша. Сразу вспомнилась Москва, трамвай, вечерняя толчея, огни!..
– А я и есть кондукторша, – смеется черненькая. – Только не московская, а ленинградская... Таврическая! – выкликает она высоким, пронзительным голосом. – Литейный проспект!.. Пять углов!..
Подхватив игру, вновь прибывшая изображает "классического" пассажира:
– "Один до Финляндского!.. Чего толкаешься?.. Шляпу надел, поезжай в такси!.." Простите, это мы вспоминали прошлое.
Смех.
– А вы кто сами будете? – интересуется черненькая.
Тряхнув золотистой, с проседью, головой и чуть распахнув жакет, под которым на шелковой кофточке посверкивает Красная Звезда, женщина отвечает немного вызывающе:
– Артистка!
– Знаменитая? – с легкой ехидцей спрашивает черненькая.
– Да! В своей квартире!
– Ну зачем так! – сразу добреет черненькая. – Ордена небось задаром не дают.
– Задаром, конечно, нет – безапелляционно заявляет артистка. – Мне, например, дали за глупость.
– Вот это да! – восхищен одноглазый. – Сроду такого не слыхал.
– Мы выступали с концертной бригадой на Западном фронте, и в одном городке командир части попросил сыграть "Лунную сонату". Пианиста у нас с собой не было, я же умела только подыгрывать одному парню, кидавшему шары и кольца, и двум девушкам, стоявшим друг у дружки на голове. Да еще одному старому дядьке, который теннисные мячи глотал. И вот администратор говорит мне: "Выручай". Словом пришлось играть. И вот, играю и чувствую, что пот с меня в три ручья течет, до смерти боюсь соврать. Там одно трудное место есть – еще когда я девчонкой была и подавала несбыточные надежды, всегда на нем спотыкалась. Играю, а про себя твержу: "Господи, пронеси, Господи, пронеси!"..!







