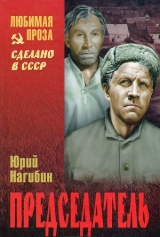
Текст книги "Председатель (сборник)"
Автор книги: Юрий Нагибин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Опять же в баню сможем вместе ходить, – словно поддаваясь гипнозу былого, послышался чей-то звонкий голос.
– Давайте серьезнее, товарищи!.. Райком рекомендует на должность председателя товарищ Кидяеву Марту Петровну. Она заведует парткабинетом в райкоме, хорошо проявила себя на разных участках и вообще развитой, упорно работающий над собой, выдержанный товарищ.
Теперь мы видим и Марту Петровну, сухощавую, похожую на классную даму, ее длинный нос все так же оседлан старомодным пенсне, она, видимо, навсегда застыла в своем безнадежно скучном образе.
– Постой, милок! – раздался голос Комарихи. – Больно уж ты быстрый!..
И с Комарихой, неведомо для себя повторившей собственные слова, вошла новизна. Теперь, видно, как не похож нынешний день Конопелек на те далекие, горькие дни. И Комариха и остальные колхозники одеты справно, даже нарядно. Собрание происходит в просторном, красивом помещении клуба, и состав собрания иной: конечно преобладают женщины, но не мала и «мужская прослойка».
– Можно? – поднялась Софья. – Мы товарищу Якушеву второй план дать обещали. Думаете, легко это? Ой как не легко! Пусть Марта Петровна выдержанная, сознательная, а тут дьявол нужен. Тут нужен такой человек, чтоб нам бубну выбил, а своего б достиг. У нас есть такой человек. Анна Сергеевна, от лица колхозников прошу: стань нашим председателем!
– Анну Сергеевну!..
– Даешь Петриченко!
– Это не баба – антонов огонь!.. – послышались возгласы.
– Как вы относитесь к выдвижению своей кандидатуры в председатели, Анна Сергеевна? – с улыбкой спросил Круглов.
– Что ж, коль Петровну велено переизбрать, я согласна быть председателем. Думаю – справлюсь!
– Кто за Анну Сергеевну Петриченко, прошу поднять руки.
Мгновенно вырос лес рук. Круглов начал считать, на миг столкнулся глазами с Крыченковой, высоко поднявшей руку, и бросил ненужный счет.
– И так видно, избрана единогласно!..
* * *
…Колхозная площадь. Перед выходом на работу Анна Сергеевна впервые напутствует колхозников своим председательским словом:
– …так решило правление, и я смекаю в своей голове: при этой расстановке сил мы и второй план дадим и себя, бог даст, не шибко обидим. Если возраженьев нет, начнем робить.
Молчание, затем все головы поворачиваются к Надежде Петровне.
– Ну чего ж ты, – обратилась к ней Анна Сергеевна, – скажи людям: так или не так?
– Нет уж, отговорилась, теперь я человек рядовой. Ты председательница, тебе и карты в руки.
– Я-то – председательница, – Анна Сергеевна улыбнулась легкой, прекрасной, от души идущей улыбкой, – да ведь ты МАТЬ!
Председатель
Часть первая
Братья
…Околица деревушки. Покосившиеся избы под сопревшими соломенными крышами. Пыльный большак огибает деревушку. На бугре под березами пасется бедное стадо: десятка полтора худых коров, несколько телят, овец, коз. Пожилой пастух играет на жалейке что-то тихое, грустное. Рядом с ним лежит на животе подросток лет шестнадцати, босоногий, в ситцевой рубашке без подпояски и портах «ни к селу, ни к городу». Он задумчиво слушает жалкую мелодийку.
Старик, видимо, хочет передать ему свое искусство. Он вынимает ивовую дудочку изо рта, накладывает пальцы на лады, снова подносит ко рту, дует, и неожиданно слабое его дыхание рождает мощный, волнующий звук боевой трубы.
Парень вздрагивает, подымается на локтях. Из-за перелеска к деревне, клубя пыль на дороге, выходит конная красноармейская часть. Парень вскакивает и стремглав сбегает с бугра.
Как завороженный глядит он на бойцов в остроконечных шлемах с красными звездами, на их усталые, обветренные лица, на их худых, поджарых коней, глаза его горят, каждая мышца тонкого мальчишеского тела напряжена.
Из деревни выбегают ребятишки и подростки, но в них приметны лишь обычное молодое любопытство и та простая радость, с какой дети глядят на конников.
Один из конников держит на поводу оседланного коня, то ли владелец его пал в бою, то ли, раненный, отстал от части. Он замечает страстное напряжение босого паренька и полушутя-полусерьезно подзывает его взмахом руки.
Тот неуверенно подходит. Конник показывает: садись! Парень глядит на него, все еще не веря. И вдруг одним взмахом вскакивает на спину коня и твердой рукой хватает повод.
– Егорка!.. Егорка! – кричит ему с околицы коренастый, широколицый мальчонка. – Ты куда?..
– На войну! – обернувшись, бросает Егорка.
Конники на рысях удаляются прочь от деревни…
Титр: ГОД 1947-й.
Ночь. В мутном свете месяца чернеют стропила сгоревших изб, голые печи похожи на кладбищенские памятники. Сиротливо горбятся соломенные и тесовые крыши уцелевших изб. Где-то тоскливо воет собака.
К околице, разбрызгивая сапогами весеннюю грязь, приближается человек с рюкзаком за плечами. На околице уцелел лишь покосившийся столб, перед ним ямина, полная воды. Человек протягивает вперед левую руку, хватается за столб и перескакивает через яму.
Бешенный, взахлеб, лай прорезает тишину ночи. Черным клубком на человека наскакивает большой худющий пес. Человек замахивается на пса, тот отскакивает, давясь лаем. И в это время другой пес налетает сзади и хватает человека за шинель. Человек оборачивается и ногой отшвыривает пса. При этом сам едва не падает.
Со всех сторон, внезапно отделяясь от тьмы, будто рождаясь в ней, на человека наскакивают тощими призраками голодные, одичавшие псы.
А один пес, посмелее, кидается прямо ему на грудь. Острые клыки звонко клацнули у самого горла человека.
Человек быстрым, цепким взглядом оглядывает «поле боя». Он делает несколько быстрых шагов и прислоняется к стволу обгорелого тополя – теперь он защищен с тыла. Двигая плечами, он стягивает со спины рюкзак. Тут обнаруживается, что у него нет правой руки, пустой рукав засунут в карман.
Внимательно следя за собаками, порой отбиваясь от них ногами, человек, кружась на каблуке, беспорядочно молотит рюкзаком по собачьим головам. С визгом, с рычанием худые призраки разбегаются.
Человек быстро пересекает улицу.
Собаки устремляются за ним следом, но человек уже достиг крыльца большой, справной избы под железом. Он колотит в дверь рукой.
Никто не отзывается. Человек колотит в дверь сперва носком, потом каблуком сапога. Наконец в сенях послышался слабый шум, под притолокой возникла узкая полоска света.
С лязгом упал железный засов, тренькнул крючок, и ржаво заскрипел в замке ключ. Дверь приоткрывается едва-едва.
– Да пустите же, наконец, – говорит человек. – И так кабыздохи чуть не сожрали.
Дверь распахивается во всю ширь. Защищая рукой фитилек керосиновой лампы без стекла, наружу выглядывает кто-то небритый, с широким плоским лицом, на котором написаны испуг и смятение.
– Егор! – Губы небритого поползли в расслабленной улыбке. – Братуша!..
– От кого запираешься? – с усмешкой спрашивает Егор.
– Братуша! – будто не слыша, повторяет Семен и, пятясь, входит в дом.
Егор кидает рюкзак на лавку, сбрасывает шинель, он слышит, как Семен снова накидывает на дверь многочисленные запоры.
– Донь! – приглушенно зовет Семен, глядя на печь. – Донь, слазь, Егор приехал.
– Не ори, детей разбудишь! – слышится с печи женский голос.
Ситцевая занавеска колыхнулась, показалась полная белая нога. Отыскивая опору, нога заголяется все выше, открылось круглое, полное колено, мясистая ляжка, тут Доня наконец сообразила откинуть подол.
– Здравствуйте, – говорит Доня, протягивая Егору маленькую толстую руку. Она невысока ростом, лицом, белым и румяным, красива.
Семен тем временем повесил лампу на длинный крюк, выкрутил посильнее фитиль. По стенам к потолку пополз трепещущий свет, озарив все углы большой неопрятной избы. Жестяной умывальник, под ним лохань с помоями, почерневшая печь, сальные чугунки; на железной кровати крепко спят двое мальчиков, на лежанке вытянулся долговязый подросток, на сундуке – девочка лет тринадцати, в зыбке, подвешенной к матице, видимо, помещается младенец.
– Сколько их у вас? – спрашивает Трубников, присаживаясь на лавку.
– Шестеро, – отзывается Доня, – в зыбке близнята.
– Живем тесно! – балагурским голосом заговорил Семен. – В темноте все друг на друга натыкаемся… А ты обзавелся наконец?
– Провоевал я свое потомство… Мы с женой за все время, может, и года вместе не были.
– А все ж хватит, чтоб пацана родить, – замечает Доня, собирая на стол.
– А я и на дочку был согласен, только жена боялась остаться вдовой с ребенком на руках. Не вышло – и все!
Доня зачем-то отправилась в сени. И вдруг, остро глянув на брата, Егор спрашивает шепотом:
– Все свои? Фрицевых подарков нету?
– Один, – так же шепотом, нисколько не удивленный вопросом, отвечает Семен. – Петька.
Брезгливая жалость на лице Егора Трубникова Неловкое молчание.
– А что мне было – на пулю лезть? – сумрачно оправдывается Семен. Зато дом сохранил, семью сохранил…
– Даже с прибавком! – зло бросает Егор.
С миской соленых огурцов и квашеной капусты входит Доня. Подозрительно поглядела на шептавшихся мужчин, подвинула Егору хлеб и сало.
– Привозной? – спрашивает Егор, беря сыроватый, тяжелый хлеб.
– Факт, не колхозный! – с вызовом говорит Доня.
– А что так?
– Колхоз тут такой: что посеешь – назад не возьмешь.
– Одно прозвание – колхоз, – бормочет Семен, роясь в стенном шкапчике.
– Это почему же?
– Председателя силового район прислал, – весело говорит Доня, – из инвалидов войны, вроде вас, только без ноги. Так он два дела знал: водку дуть да кровя улучшать.
– Это как понять?
Семен ставит на стол бутылку мутного сырца и граненые стопки. Разливает спирт по стопкам. Жена следит за его движениями.
– Дамочек больно уважал. Я, говорит, хороших кровей и должен вам породу улучшить…
– Ну, со свиданьицем, братуша!
– Не пью.
– Брезгуете с братом выпить? – язвит Доня. Помедлив, Трубников холодно объяснил:
– Меня мой комиссар от этого отучил, ненавижу, говорил, храбрость взаймы, воевать надо с душой, а не с винным духом. Я и зарекся.
– Мы не воюем, – говорит Семен, – а храбрость нам и взаймы сгодится. Цокнув стопкой но стопке Дони, он опрокинул водку в рот и, зажмурившись, стал тыкать наугад вилкой в ускользающие огурцы.
Доня тоже выпила в два глотка и, услышав плач, прошла в детский угол поправить сползавшее с дочери одеяло.
– Скажи, Семен, только честно: ты при немцах подличал?
– Ладно тебе, – печально и серьезно говорит Семен. – Меня уже таскали-перетаскали по этому делу. Ни с полицаями, ни с какой сволочью я не водился. А партизанов насчет карательного отряда предупредил. Где надо, о том знают.
– Так чего же ты боишься?
– А всего, – так же серьезно и печально говорит Семен. Налив себе водки, он выпивает одним духом. – Всего я теперь боюсь. И чужих боюсь, и своих боюсь. Начальства всякого боюсь, указов боюсь, а пуще всего – что семью не прокормлю.
– Ну, это тебе вроде не грозит: хлеб-то с сальцем едите. Вернувшись, Доня взяла соленый огурец и стала сосать.
– На соплях наша жизнь, чужой бедой пробавляемся…
– Барахолишь?
– Когда в доме восемь ртов, выбирать не приходится, – спокойно подтверждает Семен.
Гримаса сдерживаемой боли исказила лицо Егора. Левой рукой он схватился за культю правой.
– Ты что?
– Рука, – трудным голосом говорит Егор. – Болит, сволочь, как живая.
– Эка страсть! – равнодушно ужасается Доня. Чтобы заглушить боль, Трубников встает из-за стола, берет свой рюкзак и протягивает Доне.
– Гостинцы вам привез… – Он присел на лавку. Запустив руку в рюкзак, Доня достает оттуда бостоновый отрез на мужской костюм. Оторвав нитку, подносит ее к светильнику, нюхает. Нитка не горит и пахнет паленой овечьей шерстью: порядок! За отрезом следует полушалок, который тоже подвергается придирчивому осмотру.
Трубников заинтересованно следит за ней, сидя на лавке; он убирает руку с культи – видимо, боль его отпустила.
– …Такая, Егор, наша житуха, – напрашиваясь на сочувственный разговор, вздохнул Семен, – хоть репку пой… – махнул он рукой.
– На шармачка, известно, не проживешь… – замечает Трубников.
– А как же еще прикажешь?
– Колхоз надо подымать!
– Что? – Семен поднял_чуть захмелевшие, невеселые глаза. – Какой еще колхоз?
– Не ерничай…
– Я думал с тобой по-серьезному, – обиженно. говорит Семен, – думал, может, помощь какую окажешь, хоть присоветуешь… Неужто нет у тебя для меня других слов?
– Других слов нет и быть не может, – жестко говорит Егор. – Советскую власть не отменяли. А пока есть Советская власть, будут и колхозы. И тому, кто землю ворочает, нет другого пути.
– Помолчал бы уж о земле, – тихо, но с не меньшей жесткостью говорит Семен. – Что ты в земле понимаешь? Ты еще пацаненком от земли оторвался. Тебе чины и награды шли, а мы эту землю слезой и кровью поливали…
– Нешто он поймет тебя? – вмешивается Доня. – Начальство. Известно, по верхам глядит.
– Бросьте, какое я начальство?! А только еще раз напомню: живем мы при Советской власти.
– Плохо нас твоя Советская власть защитила, – медленно проговорил Семен, – ни от фрицевых пуль, ни от фрицевых лап… – Он мельком взглянул на Доню, и скулы его порозовели. – Не защитила. Хватит! Ничего нам от вас не надо, только оставьте нас в покое с нашей бедой, будем сами как-нибудь свою жизнь ладить.
– В одиночку никакой вы жизни не заладите, да и не дадим.
– Вон как!.. Это по-братски, спасибо, Егор. Только тебе-то какая в том корысть? Ты в наших делах посторонний…
– Ты так думаешь? – улыбается Егор.
Острый, чуть испуганный взгляд Семена.
– Я у вас председателем колхоза буду, если, конечно, выберете.
На плоском широком лице Семена – глубокая, искренняя жалость.
– Друг ты мой милый, за что же тебя так? Чем же ты им не угодил? Сколько крови пролил. Руки лишился. Ты ли у них не заслужил?
– Брось чепуху городить! Я сам попросился.
– Вот дьяволы, что с людьми делают! Разве на них угодишь?
– Да перестань ты, дура-голова! Говорю тебе: по своему желанию пошел.
– Хочешь от меня совет?.. Переночуй, отдохни и утречком прямым рысом на станцию.
– Шутишь?
– Нет! – с твердой печалью произносит Семен. – Какие уж тут шутки. Не лезь ты в нашу грязь. Мы к ней прилипшие, а ты человек пенсионный, вольный. Ничего не добьешься. Только измучаешься и здоровье даром загубишь… Может, думаешь, тебе тут кто обрадуется? – Голос его окреп гневным напором. – Мол, приехал герой, избавитель… Да кому ты нужен? Устали мы, изверились. Любой пьяница, бабник, вроде того хромого старшины, людям доходчивей, он по крайности никого не трогал. Я четыре класса кончил, а знаю: помножай нуль хоть на миллион, все равно нуль останется… Уезжай-ка ты подобру-поздорову, не срамись понапрасну.
– Да… – коротко вздохнул Егор. – Хорошо поговорили. Но только, – и в голосе его звучит угроза, – в колхозе я вас всех заставлю работать: и тебя, и ее, – кивок на Доню, – и старших ребят. Не думайте отвертеться, я человек жестокий.
– Ладно вам, – зевая, говорит Доня. – Разошлись петухи! Спать надо ложиться.
– И то правда, – как-то разом остыв, соглашается Семен. – Утро вечера мудреней.
Доня стелет Егору на лавке, Семен забирается на печь, вскоре туда же отправляется и его супруга.
Егор Трубников начинает разуваться. Сапоги разбухли, и одной рукой сделать это нелегко. Он упирается пальцами в подъем, носком другого сапога силится сдвинуть пятку.
– Он так и будет у нас жить? – явственно слышится с печи шепот Дони.
– Куда ему деваться? А потом он же мне деньги на дом давал…
– Слушай, Сень, а он нам жизнь не изгадит?
– Брат все-таки… – неуверенно произносит Семен. Трубников приподнимается на лежанке и толчком распахивает окно.
– Чего там? – крикнула Доня.
– Душно у вас, окно открыл.
– Ишь, распорядитель! Избу выстудишь!
– Ладно!.. – Трубников захлопывает окно…
* * *
Утро.
Русоволосый, голубоглазый мальчонка помогает Трубникову натянуть сапог.
– Еще раз, взяли! – командует Трубников. Они тянут сапог за ушки и обувают ногу.
– Молодец, Петька, силен, – хвалит Трубников мальчонку.
– Это на войне тебе руку оторвало? – спрашивает мальчик.
– Ага.
– У, фрицы проклятые! – повторяя не раз слышанное от взрослых, говорит Петька.
Попив воды из кадки, Трубников накидывает шинель и выходит на улицу.
Улица густо замешана толстой черной грязью. По закраинам апрельское солнце уже просушило землю, выгнало из нее зеленую траву, желтые и синие цветочки. Сейчас видно, что уцелело куда больше изб, нежели казалось ночью.
Перебравшись по мостку через канаву, бурлящую водой, Трубников увидел слева по другую сторону улицы длинный приземистый сарай под соломенной, зияющей огромными прорехами крышей. Возле распахнутых ворот высится груда раскисшего навоза. Он осторожно переходит улицу. Сапоги вязнут в грязи, его заваливает влево, в перевес тела, – словом, это ему не просто, вроде как перейти речку вброд.
Из ворот коровника выходит старуха с подоткнутым подолом и, прикрыв козырьком ладони глаза, глядит вверх, на остатки крыши.
– Здравствуй, бабушка, – говорит Трубников, подходя. – Ангелов божьих высматриваешь?
– А тебе что за дело? – огрызнулась старуха с узким носатым лицом и сухими, тонкими губами.
– Так, к слову, на земле сейчас больше интересу. Это у вас что коровник?
– Аль ослеп? Не видишь?
Трубников видел в полутьме сарая загаженные стойла, желоб, полный мочи и навоза, смутно темнеющее тело лежащей коровы. Дальше хлев не проглядывался.
– А ты кем тут работаешь? – спрашивает он старуху.
– Скотницей, – неохотно отвечает старуха, вычесывая граблями соломенную крышу.
– А доярки где?
– По домам сидят.
– Это почему же?
– Чего им тут делать! Оголодала вконец скотина, навозом доится. – В нудном, скрипучем голосе старухи горечь.
– Ну-ка, зайдем!
Трубников шагнул в смрадную полутемь коровника. В навозной жиже лежит около десятка коров, похожих на рогатых собак – так мелки и худы их изможденные голодом тела. Голубое небо глядит на них в разрывы соломенной крыши, отблескивая в печальных глазах.
– Корма еще осенью кончились. Подстилку скормили, вон крышу скармливаем. – И старуха тонко всхлипнула.
– А чего на луг не гоните?
– Да, милый, они ж подняться не могут!
– Ступай по домам, старая, приведи сюда доярок. И кнут раздобудь. Ясно?
– Так точно! – по-солдатски гаркнула старуха. Длинноликая, носастая, угрюмая, она вдруг поверила, что этот незнакомый, умеющий приказывать человек спасет от гибели несчастных животных, улыбнулась ему тонкими губами, еще выше забрала подол и кинулась вон из хлева.
Трубников медленно идет вдоль закутков, читая написанные чернильным карандашом прозвища коров. Будто в смех, прозвища все красивые, нежные: Белянка, Ягодка, Роза, Ветка… А владелицы этих красивых, любовно выбранных имен валяются в навозной жиже – скелеты, обтянутых залысевшей шкурой.
Возвращается старуха в сопровождении нескольких женщин и ребятишек. И кнут она принесла, старый кнут с отполировавшимся в шелк кнутиком. Лица женщин холодны, настороженны, ни одно не ответило Трубникову тем слабым светом, какой исходил сейчас от лица старой скотницы.
Трубников попробовал щелкнуть кнутом, но волосяной конец завяз в навозном болоте. Среди женщин слышится смех. Трубников рванул кнут, веревка спетлилась и упала у его ног – не так-то легко управиться с кнутом левой рукой. Женщины смеются уже громко. Мысленно выверяя каждое движение, Трубников снова взмахнул кнутом. Звонко, крупно ахнул выстрел. Еще и еще!
И, заслышав знакомый звук, вещающий о пастбище, о сладкой траве, коровы зашевелились, повернули к Трубникову худые грустные морды, а Белянка даже попыталась встать на ноги.
– Подымайте! – кричит Трубников женщинам. Старуха скотница ухватила Белянку за облезлый хвост, на помощь ей приходит статная женщина в белом вязаном платке. Но вот и другие женщины с ленцой и неохотой следуют их примеру. И ребятишки включаются в это дело, как в игру.
Трубников палит кнутом, порой жалит им задние ноги коров, чтобы поддать жару. Хлюпает навозная топь, шумно и жалостно дышат коровы, ругаются друг на дружку и на детей доярки, и командирски покрикивает старуха скотница…
Первой, разбрызгивая вонючую жижу, оскальзываясь, разъезжаясь ногами, будто телок, впервые пытающийся стать на слабые ножки, поднялась Белянка. Поднялась, зашаталась. Трубников подскочил и привалился плечом к ее ребрастому, зелено облипшему боку, помог устоять. Коровы одна за другой становятся на ноги, оставляя в грязи, крывшей деревянный настил, отпечатки своих тел.
Лишь Ветка, несмотря на все усилия людей, так и не сумела подняться. Она тянулась мордой вверх, сучила ногами, но не смогла оторвать тела от земли.
Коровы стоят, прислонясь к столбам, поддерживающим кровлю, и кажутся теперь еще худее и меньше.
– Коровье кладбище, – пробормотал про себя Трубников.
Вокруг него жили голоса. Люди сделали какое-то маленькое общее дело, это сблизило их, развязало языки.
– Моть, у тебя навоз на роже…
– Одерни мне сзади, Петровна…
– Знала бы, хоть фартук надела б…
– А трудодни нам начислят?..
– Ясное дело! Раньше задаром работали, теперь будем за так…
– Хватит трещать, сороки! – сказала женщина в белом вязаном платке.
Трубников глянул на женщину, и ее свежие, розовые скулы ярко вспыхнули.
– Толкайте их к воротам! – кричит Трубников и вновь принимается палить кнутом.
Бедные животные упираются, будто там, в голубом прозоре, их ждет неминуемая гибель. Две коровы снова плюхнулись наземь.
– Стой.! – кричит Трубников. – Найдется у вас тут, кто на дудочке играет?
– На чем? – переспросила старуха скотница.
– На жалейке.
– Да вот дедушка Шурик, я ему наказала прийти, только он пьяненький с утра.
– Надо его сюда доставить.
Но дедушка Шурик появился сам. Щуплый, крошечный, похожий на лесного гнома; в белых хмельных глазах дедушки теплится хитреца.
– Здравствуй, дед! Ты меня помнишь?
Дедушка Шурик молча моргает седыми ресницами.
– Громче говорите, – предупреждает Трубникова старуха скотница. – Он только про водку хорошо слышит.
– Понятно!.. – И Трубников звонко, обещающе щелкает себя по шее: мол, хочешь?..
Дедушка Шурик радостно кивает в ответ, его белые глаза зажглись сознательным интересом.
– Тогда играй! – орет Трубников в большое, заросшее седым волосом ухо старика. – Играй, дед, и помалу катись к выходу!.. Надо этих одров на луг свести!.. Понял?.. А вечером тебе водочка будет. Понял?
Дед без слова отходит от Трубникова и подносит жалейку к губам.
Тоненько, нежно и жалостно запела под пальцами старика ива. Она пела о грустном, одиноком человеческом сердце, но для коров то была песнь росистого луга, пробудившегося зимой, песнь сочной травы, теплого солнца, прохладной реки.
Тоненький, готовый вот-вот оборваться звук будил память о трудолюбивой жвачке, ленивой сытости, блаженной отягощенности чрева. И сквозь эту влекущую мелодию разрядом весеннего грома прогремел бич.
Робко, неуверенно шагнула вперед одна из коров. Остановилась, поводя шеей, будто прося о помощи, и вдруг засеменила к старику, к его дудочке. Пятясь, дедушка Шурик повлек ее за собой. Следом двинулись другие коровы, поднялись две упавшие и, шатаясь, побрели к выходу.
Заливалась, звала жалейка, пугал, жалил, гнал вперед кнут.
Тоскливо замычала, забилась Ветка и вдруг рывком отняла от земли свое тело. Старуха скотница и женщина в вязаном платке, подпирая Ветку с боков, поволокли ее к воротам.
Мимо расступившихся женщин Трубников выходит из хлева.
По-прежнему пятясь и будто пританцовывая – его плохо держат пьяные ноги, – ведет за собой дедушка Шурик жалкое коньковское стадо. В ясном свете утра коровы кажутся призраками, выходцами из навозных могил, но они идут и идут, ниточка звука не дает им упасть.
Волоча за собой бич, Трубников зашагал им вдогон. Поравнявшись со старой скотницей, он крикнул ей с веселой яростью:
– Наша взяла, старая!
За околицей со стадом повстречался мотоциклист. Он объехал стадо и взял путь к коровнику.
Трубников оборачивается на треск подъехавшего мотоцикла. Мотоциклист слезает со своего бензинового конька, снимает очки. У него молодое лицо с гладкой розовой кожей и тугая морщинка между бровей, придающая ему не столько серьезный, сколько озадаченный вид. Он подходит к Трубникову.
– Товарищ Трубников?.. Инструктор райкома партии Раменков.
– Добрый день, – отзывается Трубников.
– Мы вас в райкоме ждали.
– Так ведь я еще не председатель, – усмехается Трубников. – Частное лицо.
– Ну, это мы мигом… Я за тем и приехал, чтобы выборы провести…
– Хорошо, что вы на колесах, – говорит Трубников, – мне надо в Турганово за водкой съездить.
– Как?.. – поперхнулся Раменков.
– Я пастуху пол-литра задолжал.
– Простите… Но удобно ли? – мнется Раменков.
– Давши слово – держись. Старик мне помог… а пешком я к вечеру не обернусь.
Вздохнув, Раменков идет к мотоциклу. Трубников следует за ним.
– Бабушка, – на ходу обращается он к скотнице Прасковье, – мы по-быстрому съездим, а ты тем временем собери народ.
Они садятся на мотоцикл. Трубников вцепляется своей калеченой рукой в пояс курточки Раменкова, и мотоцикл мчится прочь в голубых клубах дыма.
– Егор Иванович, – поворачивается к Трубникову Раменков, – вы когда будете выступать, то покороче… Так, в общих чертах о международной обстановке, о задачах на сегодняшний день… а то пойдут вопросы, то да се не выкрутишься. – Он резко поворачивает руль, чтобы разъехаться со встречной подводой.
– А ну как провалят? – усмехается Трубников.
– Да что вы! – искренне удивлен его наивностью Раменков. – Мы таких охламонов проводили… А вы – это вы! Только предоставьте все мне.
– Вон как! – иронически приподнял брови Трубников.
Мелькнул колхозный двор, кузня, возле которой свалены поковки, однолемешные плуги, старые бороны.
Пожилой, в прожженном фартуке кузнец, отставив молот, поглядел вслед Трубникову и задумчиво погладил опаленные волосы.
– Ширяев… – повернув голову к Трубникову, говорит о кузнеце Раменков. – Единственный тут член партии.
– А ну-ка остановите!
Трубников соскакивает с мотоцикла и идет к кузнецу.
– Товарищ Ширяев, будем знакомы – Трубников.
– Да я ж тебя пацаненком помню, – отвечает кузнец.
– Тогда, дядя Миша, я тебя как коммуниста прошу: обеспечь, чтоб все трудоспособные колхозники пришли на собрание. Не «кворум» формальности ради, а действительно все.
– Будет сделано, – спокойно отвечает Ширяев, наклонив кудлатую голову.
Трубников возвращается к Раменкову. Унылый звук гонга разносится над деревней. Мотоцикл скрывается вдали.
Маленькое, тесно набитое помещение конторы. За колченогим столом, крытым кумачовыми полосами – сквозь тонкую ткань можно различить перевернутые буквы каких-то лозунгов, – сидят Трубников и кузнец Ширяев. Раменков стоя держит речь. Собрание состоит сплошь из женщин, если не считать парня на деревяшке и двух-трех подростков.
– Товарищ Трубников ваш односельчанин. С юных лет связал свою судьбу с Красной Армией, – говорит Раменков. – Он участник боев в Маньчжурии, под Хасаном и Халхин-Голом, штурма линии Маннергейма, участник Великой Отечественной войны…
В дверях появляется дедушка Шурик и делает Трубникову какие-то знаки.
Трубников машет рукой, встает из-за стола и пробирается к выходу.
– Товарищ Трубников награжден четырьмя боевыми орденами и пятью медалями! Инвалид Великой Отечественной войны, пенсионер, он по собственному желанию поехал на работу в деревню! – с пафосом продолжает Раменков. Неожиданно он умолкает, глядя в сторону Трубникова.
Трубников вытаскивает из бокового кармана пол-литра и дает дедушке Шурику, тот радостно кивает.
– Первач… – шепчет с завистью парень на деревяшке.
– А ведь ты, дед, меня на жалейке играть учил, – говорит Трубников дедушке Шурику.
– Разве всех упомнишь, – равнодушно бормочет старик
– …Товарищ Трубников член Коммунистической партии с 1921 года… снова продолжает Раменков.
– Надо же, какой человек, – слышится насмешливый женский голос. – Вот и кончились наши страдания!.. – Это Полина Коршикова, средних лет, но еще миловидная женщина.
По собранию прокатывается невеселый смешок. Трубников, возвращаясь на свое место, тоже странно, медленно усмехается.
– Слово предоставляется товарищу Трубникову, – говорит Ширяев.
Тот повернулся к собранию лицом и вдруг увидел, что в дверях появилась женщина в белом платке. Они сталкиваются взглядами, и по-давешнему вспыхивают свежие скулы женщины.
По собранию проходит нетерпеливый шум – Трубников слишком затянул паузу.
– Я сперва отвечу Поле Коршиковой, – говорит Трубников тихим, спокойным голосом.
– Неужто узнал? – насмешливо и смущенно вскинулась Поля.
– Узнал… Ты всегда побузить любила. Так вот, Полина крикнула, что кончились, мол, ваши страдания… Нет, товарищи колхозники, ваши страдания только начинаются. Вы развратились в нужде и безделье, с этим будет покончено. Десятичасовой рабочий день в полеводстве, двенадцатичасовой – на фермах…
Раменков что-то торопливо пишет на бумажке и подвигает Трубникову. Тот читает. «Не то. Зачем запугивать?»
– Вам будет трудно, – продолжает Трубников. – Особенно поначалу. Ничего не поделаешь, спасение одно: воинская дисциплина. Дружная семья и у Бога крадет!
– Товарищ Трубников, конечно, преувеличивает… – с неловкой усмешкой начал Раменков, но осекся под тяжелым взглядом Трубникова Он смешался, нагнул голову.
– Вот чего я хочу, – продолжает Трубников. – Сделать колхоз экономически выгодным и для государства и для самих колхозников. Нечего врать, что это легко. Семь шкур сползет, семь потов стечет, пока мы этого достигнем. Первая и ближайшая задача: колхозник должен получать за свой труд столько, чтобы он мог на это жить – конечно, с помощью приусадебного участка и личной коровы.
– Постой, милок! – крикнула старая колхозница Самохина. – Ври, да не завирайся. Ты где это личных коров видел?
– Во сне, бабка, мне приснилось, что через год у всех коровы будут, а мои сны сбываются.
– Вопросы можно задавать? – спрашивает молоденькая сероглазая бабенка Мотя Постникова.
– Валяйте.
– Вы, товарищ орденоносец, в сельском хозяйстве чего понимаете?
– Да! Знаю, на чем колбаса растет, отчего у свиньи хвостик вьется и почему булки с неба падают. Хватит?
Снова по собранию прокатывается невеселый смешок.
– Вы холостой или женатый, товарищ председатель? – кричит та же сероглазая бабенка.
– Товарищи, это к делу не относится! – пробует вмешаться Раменков.
– Почему же? – прерывает его Трубников. – Женатый.
– А чего вы жену с собой не взяли?
– Я-то брал, да она не поехала.
– Это отчего же? – интересуется Мотя.
– Охота ей бросать Москву, отдельную квартиру и ехать сюда навоз месить!
– Вы-то поехали! – это сказала женщина в белом платке.
– Я как был дураком, так дураком и умру.
Раменков схватился за голову, а по собранию прокатился негромкий добрый смешок.
– Нешто это семья: муж в деревне, жена в городе? – спрашивает Полина Коршикова.








