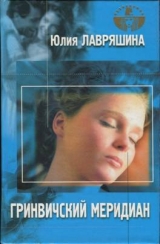
Текст книги "Гринвичский меридиан"
Автор книги: Юлия Лавряшина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Глава 6
Ночь я провела беспокойно, потому что уже отвыкла делить с кем-либо постель. Мне не снилось никаких историй, но все же сны были яркими: цветные пятна, сочные, как на полотнах моего любимого сумасшедшего Ван Гога, наплывали друг на друга, то сливаясь, то отталкиваясь, словно весенние льдины. И в этом причудливом зрелище было что-то зловещее…
– Ты стонала во сне, – сказал Пол, когда я открыла глаза. – Я хотел будить, потом поцеловал тебя, и ты… стала спать тихо.
Он сидел на краю дивана, одетый в махровый халат, большой и мягкий, как плюшевый медведь. Рядом на столике исходили паром две чашки кофе. Пол виновато сказал:
– Я не знаю, любишь ты кофе или нет.
– Люблю, – ответила я, думая совсем не о кофе.
Пол улыбнулся, приподняв верхнюю губу, подал мне чашку и освободившейся рукой провел по моему плечу. От ладони его исходила ощутимая вибрация, тотчас разбежавшаяся по моему телу. Чтобы отвлечься, я поспешно сделала глоток.
– Что это за кофе? – удивилась я незнакомому вкусу.
Он с гордостью признался, что привез его с собой из Лондона.
– Я знал, что здесь такого не будет. Это мой любимый.
– А я думала, что в Англии пьют только чай.
– Пьют, – согласился Пол. – Принято приносить утром чай… близким. Но я пью кофе.
– Потому что ты не типичный англичанин? Разве это так уж плохо быть типичным англичанином?
– Нет. Но я всегда хотел… как это? Потрясти буржуа.
Для учителя это было более, чем неожиданное признание.
– Чем, Пол?
– Моими… – он внезапно замолчал и потер высокий лоб. – О…
– Пол, ты – сплошная загадка. Ты был коммунистом?
Его ясные глаза удивленно раскрылись:
– Коммунистом? О нет. Нет. Я… потом, хорошо? Я потом буду рассказывать.
– Как твоя нога?
– Нога? О, почти не болит. Завтра я должен идти в школу.
– Ты преподаешь в школе?
– Это называется лицей. Я учу детей английскому. Они так хорошо говорят! Я удивился, – засмеявшись, он добавил: – Только они все торгуют.
– Чем торгуют?
Он пожал плечами:
– Не знаю. Я только вижу… Они передают что-то, считают деньги. Я думал, это будет лицей, как у Пушкина.
– Пол! – протянула я с укоризной. – Разве Англия та же, что была во времена Шекспира?
Он согласился:
– Нет. Конечно, нет. Глупо, что я надеялся…
Вдруг Пол отставил чашку и коснулся пальцем моей щеки:
– Родинки… Они еще здесь.
– Разве они могут исчезнуть?
– Не знаю. Я боялся спать. Я думал… вдруг ты исчезнешь? Я тебя сторожил. А ты стонала…
Его губы растянулись и напряглись, и я поняла, что Пол едва сдерживается, чтобы не наброситься на меня. Я протянула руку, он вжался лицом в мою ладонь и опять застонал, как от боли. Так и не допив кофе, я поставила чашку, и Пол потянулся к моему лицу. В его обычно невозмутимых глазах было столько робости, что у меня сжалось сердце.
"А вдруг он уже правда меня любит? – ужаснулась я. – Что же с нами будет?" Но стоило Полу обнять меня, как страх отступил и исчез, будто его и не было. Даже в исходившей от его тела страсти было успокоение. Я потянула поясок халата и погрузилась в его тепло.
В отличие от Славиного, его тело не вызывало у меня эстетического восхищения. Отстраненный взгляд нашел бы Пола несколько грузноватым. Но именно это мне и нравилось: его магически действующая на меня мощь. Пол нависал надо мной, будто небо, и поглощал целиком, ведь небо всегда больше земли. И мне было приятно чувствовать себя поглощенной…
Между нами лежали десятки женщин, которых он узнал за свою долгую жизнь, настоящих леди и проституток, но сейчас я их не ощущала. Они мелькали где-то с краю моих мыслей, бесформенные и серые, и мне не было до них никакого дела. И в то же время я понимала, что через год стану одной из них – ведь контракт Пола составлен на год.
– Пол.
– Что? Что? Что?
– Я люблю тебя.
– О…
Три слова вознесли его на вершину экстаза, как тройка неудержимых коней. Он так вскрикнул, точно из него выплеснулась сама жизнь. И упал рядом совершенно обессиленный и весь мокрый. Даже на коротких волосах, как на серебристой траве, блестели мелкие капли. Я отерла его висок, а он благодарно поцеловал мне руку.
– Ты, как Бог, – сказал он без улыбки. – Лучше тебя нет.
– Ты же католик, Пол! Ты должен знать, что нельзя сравнивать человека с Богом.
– Я – грешник. Но Бог меня любит. Я нашел тебя. Это Он разрешил.
– Позволил.
– Да, позволил.
– Пол, это все, как сон, тебе не кажется?
– Кажется… О, как у меня мало слов! Русских слов. Я не могу говорить! Это так…
– Мучительно.
– Да, мучительно.
Я попыталась его ободрить:
– С каждым днем ты будешь запоминать все больше. Через месяц мы обо всем поговорим.
– А этот месяц?
– Мы будем весь месяц целоваться, для этого слова не нужны.
В голосе Пола зазвучала тревога:
– Месяц? А потом не будем?
– Будем, Пол, будем.
И мы действительно проводили время будто в одном непрерывном поцелуе. Я готовила завтрак, а Пол раскладывал вещи, и каждый, вроде, был занят своим делом, но создавалось впечатление, словно мы ищем друг друга в лабиринте квартиры, а сойдясь наконец, начинаем целоваться, как школьники, оставшиеся без родителей. Рот у него был большой, и мне все казалось, что рано или поздно Пол забудется и проглотит меня целиком. Но даже это меня не пугало.
Хотя кое-какие страхи еще давали о себе знать.
– Ох, Пол, отпусти меня, пожалуйста! Так я не приготовлю завтрак даже к вечеру.
Чуть отстранившись, он посмотрел на меня с недоумением:
– Ты так хочешь есть?
– А ты разве не хочешь?
– Хочу. Но это… пустяки.
– И ты не будешь злиться, если я промедлю?
У Славы в такие моменты случались приступы бешенства.
– О! Злиться? Почему?
– Пол, ты лучше всех! – убежденно сказала я, а он только рассмеялся в ответ.
Когда мы наконец сели за стол, Пол улыбнулся, указывая пальцем:
– Ты поставила передо мной солонку… Как будто я – хозяин! Так в средние века… показывали место хозяина. Только тогда было серебро.
– Ты и есть хозяин, Пол.
Он тотчас перестал улыбаться. Потом, коротко взглянув, запинаясь, проговорил:
– Мне понравилось… вчера ты давала мне ягоду. Я хочу так еще.
– Ты хочешь малины?
– Нет. Я хочу…
– Чтобы я покормила тебя?
– Да! – с облегчением подтвердил он.
Как ему удавалось быть таким трогательным в свои пятьдесят лет? Я взяла его вилку и подцепила кусочек омлета. Мне казалось, что все это должно развеселить его, но Пол глядел так печально, будто я кормила его в последний раз. Я не смогла этого вынести и взмолилась:
– Не смотри так, Пол! У меня руки дрожать начинают.
– Я не могу не смотреть.
– Что тебя мучает? Я тебя чем-то расстроила?
– Я думаю о смерти, – неожиданно сказал он. – Я смотрю на тебя и думаю о смерти.
Это признание ошеломило меня. А я-то надеялась, что он подумывает о жизни. О нашей с ним совместной жизни.
– Что на тебя нашло, Пол? – спросила я таким тоном, чтобы он догадался, как меня задели его слова. Но то, как он ответил, разом примирило меня с его печальными размышлениями.
– Любовь, – сказал Пол. – На меня нашла любовь. В первый раз.
– Ой ли?
– Что?
– Не может быть, чтоб в первый раз!
– Да, – уверенно ответил он. – Меня любили. Я – нет. И не знал, что я… как это? Больной?
– Ущербный.
– Да.
Мне хотелось спросить о его погибшей невесте, но я боялась погрузить его этим вопросом в еще большую меланхолию. Однако Пол сам вспомнил о ней.
– А Джейн я не любил еще больше. Она была несчастна. Может быть, она хотела смерти.
– Ты чувствуешь себя виноватым перед ней?
– Конечно, – удивленно отозвался Пол. – Я же человек.
Я заметила:
– В вашем языке "человек" и "мужчина" звучит одинаково.
Он усмехнулся:
– Да. Это правильно. Ты – не человек. Ты – звезда.
– Если я упаду, загадывай желание.
Пол не понял и встревожился:
– Куда упадешь?
– Я пошутила.
– Я не понимаю шуток по-русски, – пожаловался он. – Я слишком плохо знаю язык.
– Ничего. Мы будем побольше разговаривать, и ты все усвоишь.
– А целоваться?
Притянув за руку, он усадил меня на колени.
– Я не хочу есть. Я хочу целовать тебя.
– Пол, ты меня сводишь с ума! Я никогда еще столько не целовалась.
– О! Правда? – обрадовался он.
– Правда, правда. Мы сегодня идем на обед к моим родителям. Ты не забыл?
– Не забыл. Это хорошо, там будем есть. Там нельзя целоваться.
Я погладила его мягкую щеку:
– Ты так смешно произносишь это слово.
– Я смешной?
– Нет. Ты такой.
– Какой?
– Такой! Тебе не больно ногу?
Вместо ответа Пол вобрал мои губы, и сразу стало горячо и сладко. Его руки блуждали по моему телу, и из каждой ладони через одежду просачивалось волнение, пульсировавшее в его крови. Но и это, как ни странно, не нарушало исходившего от него успокоения.
– Ты моя, – прошептал Пол.
Я знала эти слова. В какой бы земле не был рожден мужчина, он должен сказать их женщине, даже не ожидая подтверждения с ее стороны. Эти слова – особая мужская мантра, клич победителя. Пусть потом окажется, что победа была Пирровой, но этот возглас: "Ты моя!" должен издать каждый уважающий себя мужчина.
Омлет совсем остыл, но мы съели его с жадностью, ласкаясь взглядами. Мы словно вкушали плоть друг друга и становились единым целым, бесполым и не имеющим возраста. Еще вчера утром я не могла и представить, что способна сходить с ума от человека, который старше на четверть века, и не особенно хорош собой, и сказать толком ничего не может. Но вот Пол сидел со мной за столом, и у меня голова кружилась от его близости.
После завтрака Пол с каким-то болезненным любопытством углубился в изучение аудиодисков, оставшихся от Славы. Мой музыкант хотел забрать их с собой, но Жаклин что-то сказала своим напевным, печальным голосом, и он тотчас отступился.
Выбрав диск, Пол вопросительно посмотрел на меня: "Можно?"
– Конечно, Пол! Ты можешь делать здесь все, что захочешь.
Никогда я еще таким образом не слушала музыку – лежа на полу в каком-то метре от колонок. Она лилась на нас сверху и обволакивала, а мы целовали друг друга так осторожно, будто делали это впервые. Обычно уже начальные такты наполняли меня желанием рисовать, настолько сильным, что руки начинали подрагивать, а воображение растягивалось до невероятных размеров, показывая картинки настолько яркие, что хоть сейчас на холст. Но сейчас мне ничуть не хотелось изобразить то, что я видела. Мне хотелось это пережить.
Ажурные переливы Шопена покачивали нас, и я едва не теряла сознание от этой музыки, и от близости Пола, и от грусти его поцелуев. Я никогда не запоминала названий отдельных вещей, и Славе приходилось подсказывать. Но я помнила ассоциации, рожденные той или иной музыкой, и знала, что отныне Шопен навсегда будет для меня связан с любовью… Когда наступила тишина, я решилась заговорить:
– Не знаю, что ты представлял… Для меня эта музыка… Она как море. Мы плыли с тобой по морю… Не очень яркому, спокойному. Как твои глаза. И ты смотрел на меня, хотя чайки задевали тебя крыльями. Ты улыбался… Был в чем-то белом и небрит.
Пол непроизвольно потрогал свою щеку, и я засмеялась. А он взмолился:
– Говори, говори! Так хорошо…
– Что говорить, Пол? Скоро все это сбудется, правда? Ты увезешь меня на лодке в море, где никто не увидит нас, кроме чаек. И никаких людей! И мы будем любить друг друга, не боясь перевернуться. А потом искупаемся в теплых водах Гольфстрима. И ты никогда, никогда от меня не уйдешь…
Он откликнулся:
– Никогда… О, как красиво! У меня слов не хватит так сказать. Я буду путаться.
– Ничего, Пол. Главное, чтобы ты все это видел.
– Я вижу, – он мечтательно улыбнулся. – Ты бросаешь хлеб. Чайки ловят его над водой.
– Это будет?
– Так скоро будет! Как говорят? Ахнуть не успеешь?
– Да, Пол. Так говорят…
В гости к моим родителям Пол собирался долго, как на свадьбу, и все расстраивался, что не может не хромать.
– Твоя мама будет думать, что я – инвалид! – восклицал он, прохаживаясь по комнате и следя за своими движениями в зеркале.
– Не беспокойся, – заверила я, – отец ей уже все рассказал. Но даже если б ты был инвалидом, кого бы это смутило?
Он даже остановился и напряженно наморщил лоб:
– Тебя – нет?
– Ни капли.
– Правда?! – Пол так обрадовался, что сразу стал похож на школьника, которому девочка первой призналась в любви.
Я не ощущала никакой возрастной дистанции. Наверное, потому, что давно перестала чувствовать себя ребенком. Я рано начала читать взрослые книги и никогда не играла с другими детьми. Иногда мне чудилось, что я уже родилась женщиной, и это, конечно, было ненормально, как и многое во мне. Я с трудом осознавала, что Пол старше на четверть века, что он родился и провел половину жизни в другом мире, где еще не было меня. Его заслуга была в том, что он не таскал за собой этот отживший мир. Он весь был сегодняшним. И мы жили с ним здесь и сейчас, а не среди призраков прошлого.
– А если бы мне отрезали ногу? Там, в лесу? – зловещим тоном спросил он.
– Тогда я не дотащила б тебя до дому.
Пол изумился:
– Бросила?
– Конечно.
Несколько мгновений он смотрел на меня, приоткрыв рот, на который я старалась не глядеть, чтобы не наброситься на него, затем широко улыбнулся:
– Ты шутишь!
– Конечно, шучу! Какие ты гадости про меня думаешь! Бросила бы…
– Прости, – вкрадчиво пропел он и шагнул ко мне.
Пол приближался ближе положенного, и у меня прерывалось дыхание. Пол даже не прикасался ко мне. Мы стояли на расстоянии ладони, смотрели в глаза и задыхались. Это было невероятно, я опять чуть не потеряла сознание. Но Пол сделал шаг назад и, закусив губу, спросил:
– Мы уже должны идти?
– Ты с ума сошел… Куда идти? Я не могу никуда идти…
– Нет?
– Нет.
Мы что-то еще бормотали прямо в губы, словно поили друг друга простыми, ничего не значащими фразами. Неожиданно его шепот обрел английское звучание, и какие-то слова повторялись. Он твердил их снова и снова, и в тот момент мне казалось, что я понимаю, а потом, конечно, ничего не смогла вспомнить. Весь тщательно подобранный наряд Пола оказался скомканным на ковре, но, даже придя в себя, он не обратил на это внимания. Главная его нетипичность как британца заключалась в том, что Пол не замечал мелочей. А если и замечал, то не позволял им вмешиваться в ход своей жизни.
– Вот теперь можно идти, – пробормотала я, пружиня ладонью волосы на его груди.
От того, как Пол опустил голову, следя за моей рукой, у него обозначился второй подбородок. Я легонько ухватила его пальцами.
Он обиделся:
– Я – толстый?
– Ну… Не худой, скажем так.
– Ты любишь худых?
– Я люблю тебя. И мне все равно – толстый ты или худой, седой или кудрявый, с ногами или без… Запомни это, пожалуйста.
Пол удрученно вздохнул:
– Это не может быть правдой.
– Наверное. Но так оно и есть.
– Так оно и есть, – недоверчиво повторил он. – Это значит – правда?
Усмехнувшись, я потянула губами его волоски у ключицы:
– Пол, почему ты так любишь слово "правда"? Тебе нравится, как оно звучит? Или ты такой борец за истину?
– Я не борец, – печально сказал он. – Когда-то был… теперь нет.
– Не разочаровывай меня, пожалуйста! Я ведь влюбилась в тебя, когда ты один боролся с целой армией, вооруженной пилами.
Пол слегка покраснел:
– О, это… Это было глупо. Наверное, они имели право. Я был тогда зол. Мне все казалось неправильным. Я думал, Россия другая.
Я продолжила:
– Веселая, раздольная, с бубенцами и девушками в сарафанах!
Он с упреком остановил меня:
– Я не так… наивен. Я знал, что это в прошлом. Но я думал… хоть что-то осталось.
– Что-то осталось, – подтвердила я не очень уверенно.
– В тот день… Утром… Я видел, как убивали собак… Как это?
– Бродячих, – еле вымолвила я.
– Да. Прямо во дворе, рядом с отелем. Дети смотрели. Собаки так кричали… О!
Ткнувшись в мое плечо, Пол больно потерся лбом, потом оторвался и продолжил:
– Я ничего не сделал. Я смотрел из окна. Я просто…
– Оцепенел…
– Да. Я думал, русские – добрые люди. И вдруг такое. Я захотел уехать. А потом встретил тех людей и пошел с ними в лес. Вот так было.
Мне даже сказать на это было нечего. Я не могла убедить его, что в России любят животных, потому что и сама не верила в это. Когда я выводила какую-нибудь из собак, на меня выливалось столько людской ненависти, что в первые дни я возвращалась в слезах. А потом привыкла.
Пол вдруг счастливо вздохнул:
– Мы поедем в Англию. Я покажу тебе Гастингс. Я там родился. Это очень древнее место. Там были битвы с Вильгельмом… В Лондоне тогда жили хитрые люди. Они открыли ему ворота и сохранили свое богатство. И Вильгельм сделал Лондон самым главным на острове.
– И я это увижу?
– Да, – он разулыбался и поцеловал мои волосы. – Я буду показывать тебе.
– Не будет этого, Пол…
Он всполошился:
– Как не будет?! А море? Лодка? Ты не хочешь ехать со мной?
– Хочу. Но это уж слишком… фантастично. Такое не сбывается.
– Но твой муж уехал в Париж, – безжалостно напомнил он.
– Тем более. В одной семье такой номер дважды не проходит.
Пол настороженно сказал:
– Я не понял эти слова.
– Ну и хорошо, – я села и погладила его забинтованную ногу. – Не разбередили?
– Что?
– Не… Ой, Пол, как же нам трудно разговаривать! Нога не болит?
– Ты уже спрашивала, – бесстрастно напомнил он.
– Если б ты все понимал, я спросила бы по-другому.
Не прикасаясь ко мне, Пол сел рядом и, опустив седую голову, спросил:
– Ты устала?
– Нет, Пол! Что ты…
– Хочешь, я буду учить тебя своему языку? Я – хороший учитель.
– Уверена, что хороший!
– Правда?
Почему-то он все время подозревал меня в желании льстить ему. Я побожилась, хотя не видела в этом необходимости. Но Пол продолжал допытываться:
– Почему?
– Ой, Пол! Я не знаю – почему. Просто я так чувствую. Разве можно объяснить, почему я сразу почувствовала, что ты – хороший человек?
– Нельзя, – без ложной скромности согласился Пол и успокоился.
До центра, где жили мои родители, мы добирались на трамвае, состоявшем из двух сцепленных вагонов. Я затащила Пола во второй, надеясь, что в нем окажется мало народа и можно будет украдкой целоваться. Это желание не покидало меня ни на минуту, оно стало просто навязчивой идеей.
Но стоило нам сесть, как Пол тут же отвлекся, потому что в середине вагона, занимая сразу два сиденья, сидел мужичок забулдыжного вида и играл на гармошке. Перед ним лежала засаленная клетчатая кепка, пока совершенно пустая. Пол повернулся к нему, облокотившись о спинку сиденья и выставив в проход свои роскошные туфли.
– Тебе кто-нибудь наступит на ногу, – предупредила я, но он только поморщился: не мешай!
Я слушала гармониста, не спуская глаз с Пола. Его рот слегка приоткрылся, будто он вдыхал эту незнакомую для себя песню про одинокую рябину, а взгляд засветился совсем русской тоской. Песни сменяли одна другую, и я знала каждую, а он все слышал впервые. Польщенный таким неподдельным вниманием иностранца, – а увидев Пола, каждый сразу же угадывал его происхождение, – гармонист старался вовсю, и музыка лилась, как положено, с вольной широтой и пронзительным надрывом.
– Нам пора выходить, – тронула я Пола за плечо, и он, очнувшись, полез за бумажником.
– Только рубли, Пол, рубли!
Однако он вытащил бумажку в десять фунтов стерлингов и я едва удержалась, чтобы не выхватить купюру из кепки, где она оказалась единственной. Подав мне руку, Пол вдруг стиснул ее, что я задохнулась от боли.
– Что с вами?! – закричал он, когда трамвай тронулся. – Никто не слушал! Вы – русские. Это ваша музыка. Почему слушал только я? Где ваша душа? Ее больше нет? Он ведь играл за-ме-ча-тель-но!
– Не произноси длинные слова, ты путаешься, – пробормотала я, подавленная его внезапным гневом. – Он играл обычно. Просто тебе это в диковинку. У нас многие так умеют. Особенно в деревнях.
Так же быстро успокоившись, Пол сказал:
– Я хочу увидеть деревню.
– Пол, там все пьют с утра до вечера.
– А это?
Он изобразил игру на гармошке.
– Ну, одно другому не мешает.
– Поедем? – Пол вдруг помрачнел, словно вспомнил о чем-то неприятном. – Не сейчас. Я не могу. Потом…
– В каникулы?
– Да, в каникулы, – он посмотрел на меня с благодарностью. Потом опомнился и взглянул на часы: – О! Мы совсем опаздываем!
Но я удержала его:
– Не страшно, у нас всегда все опаздывают. Не надо так быстро, тебе же больно.
– Нет. Почти нет.
– Обопрись о мое плечо, как тогда.
Пол беспомощно огляделся:
– Люди. Это стыдно. Такой большой мужчина и такая девочка. Я сам дойду.
– Не обращай ни на кого внимания, тебе ведь так будет легче. Пусть думают, Что ты меня обнимаешь… И вообще, представь, что здесь никого нет. Ты и я. Хватайся за мое плечо, Пол.
– Ты – не… обыкновенная.
– Пойдем же.
Он обнял меня, и нам обоим стало легче.








