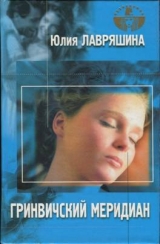
Текст книги "Гринвичский меридиан"
Автор книги: Юлия Лавряшина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Глава 16
Пол напился ночью, пока я была на съемках. Это было непохоже на него, что перепугало меня до смерти. Наверное, он вообразил самое худшее, чего на самом деле и быть не могло. Я не осуждала его, но и себя мне не в чем было упрекнуть. Хотя, говоря себе, что утаиваю от Пола свою странную связь с Режиссером единственно ради того, чтобы сделать ему великолепный сюрприз, я чувствовала, что слегка кривлю душой.
Эти ненормальные встречи пугали меня и завораживали. Я никогда не общалась с людьми настолько необычными, как Режиссер. Меня тянуло к нему, но только поговорить. Да, только поговорить. И еще испытать за короткое время съемок тот веселящий ужас, который он внушал мне своими идеями.
Пол проснулся часов в пять утра, когда и светать-то не начало. И я еще во сне почувствовала, что он смотрит на меня. Но когда наконец открыла глаза, его взгляд был устремлен к потолку. Обычная седая щетина торчала сегодня как-то особенно жалко… Мне захотелось потрогать ее, но я не смела прикоснуться к Полу, хотя по-прежнему ни минуты не сомневалась в своей невиновности. Ведь я не была его женой. Он не хотел меня сделать ею… И все же его молчаливое страдание делало меня преступницей.
Только я хотела заговорить, как Пол повернул голову и быстро сказал, будто предупреждая мои объяснения:
– Ничего не помню. Я пил виски?
– Ты допил все, что оставалось в бутылке.
– Кошмар! – вздохнул он. Это слово Пол усвоил недавно, и оно чем-то понравилось ему.
– Пол, я хотела…
Он опять перебил меня:
– Принеси мне пить. Пожалуйста.
Мне подумалось, что, может, он просто хочет, чтоб я убралась с его глаз, но делать было нечего. Я отправилась на кухню, а по пути заглянула к Алене. Она крепко спала, сбросив одеяло на пол и поджав босые ножки. Укрыв ее, я различила исходящий от легких волос едва заметный запах Пола и догадалась, что ему пришлось ночью убаюкивать девочку. Или просто мне везде чудился его запах?
Внезапно я ощутила нечто похожее на ревность: он тоже провел это время не со мной. Ему так хочется ребенка… Может быть, даже больше, чем жену.
Достав из холодильника вишневый сок, я наполнила огромный бокал, который когда-то моя мама подарила Славе, и осторожно понесла в комнату. Темная красная жидкость густо колыхалась, пытаясь вырваться наружу. На мгновенье мне представилось, что я несу Полу выжатую из кого-то кровь. Моему обожаемому вампиру… Властителю моих ночей…
Я так вошла в роль, что едва не опустилась на колени, протянув Полу бокал. Он с подозрением проследил мое прерванное движение и, залпом выхлебав весь сок, со стоном откинулся на подушку.
– Я умираю, – жалобно протянул он. – Как это меня…
– Угораздило, – помогла я.
– Да. Не помню.
– Пол…
– Я вставал ночью. Алена плакала.
– А я…
Он никак не давал мне договорить:
– А ты спала. Я не хотел будить. Почему я начал пить?
– Потому что тебе было плохо…
– Нет!
– Нет?
– Нет. Мне хорошо. И сейчас хорошо. Ты здесь. Только голова хочет лопнуть.
– Давай поглажу, – предложила я, забравшись на постель.
Пол покосился на меня и удрученно вздохнул:
– Я – маньяк. Сейчас я буду к тебе приставать.
– Пол, угомонись! Тебе же плохо.
– Я тебе надоел, да? Все время что-то болит.
– Ты никогда мне не надоешь… Помнишь, как ты обещал любить меня, когда я стану старушкой?
Он моргнул и улыбнулся.
– Теперь я это поняла… Я научилась представлять тебя стариком, и мне это понравилось. Ты будешь таким солидным, благообразным стариком. Но я не забуду, как ты умел целоваться.
– Я и тогда буду уметь, – пообещал Пол. – Целоваться может даже импотент.
– Ну и прекрасно! Через тридцать лет мне этого будет вполне достаточно.
Пол с ужасом переспросил:
– Тридцать лет? О… Я не смогу жить так долго!
– Сможешь, – заверила я и легонько провела рукой по его седым волосам. – Ты будешь жить долго-долго, потому что я поделюсь с тобой остатком моей жизни. Мне она ни к чему…
Я не добавила: без тебя, но Пол все понял. И чтобы я не расплакалась от жалости к себе, потому что голос у меня уже задрожал, он принялся деловито подсчитывать:
– Тебе двадцать два. Значит до восьмидесяти еще пятьдесят восемь. Так… восемнадцать ты можешь отдать мне.
Я засмеялась и потерлась о его крепкое, горячее плечо:
– С радостью, Пол.
– Составим контракт? – осведомился он.
– Как?! Ты не веришь моему честному слову?
– Верю, – без промедления ответил он и, повернувшись, посмотрел мне прямо в глаза. – Если ты скажешь: "Честное слово", я поверю.
Стараясь даже не моргнуть, я положила ладонь на его колючую щеку и сказала:
– Я люблю тебя, Пол. Тебя одного. Честное слово!
У него дрогнул подбородок, и он тотчас привычно выпятил губы, чтобы я ничего не заметила. Потом признался:
– Я так хочу тебя поцеловать. Но я… пахну виски.
– Это ничего, – я обняла его за шею и, прижавшись, еще раз шепнула: – Честное слово!
Почему-то мой шепот действовал на Пола, как добрый глоток возбуждающего напитка. Казалось, что похмелье с него как рукой сняло – такое он выделывал со мной. Еще не было и шести утра, а мы уже снова уснули совершенно обессиленные и счастливые. По крайней мере, я. Но и Пол, наверное, тоже, потому что, засыпая, он улыбался.
В лицей в этот день он решил отправиться без меня, ведь теперь у нас появился ребенок. Пол так радостно хлопотал над ней и так баловал, точно Алена и впрямь могла навсегда остаться с нами. «А вдруг можно? – пришло мне в голову. – Вот было бы здорово! Готовая дочь. И рожать не надо». Почему-то мне с детства мерещилась смерть во время родов.
Пол заметно мялся, слоняясь по квартире, и я уже подумала, что он собирается сообщить мне нечто ужасное, однако, он спросил:
– Можно, я возьму ее с собой?
Как будто я имела на девочку какие-то права…
– В лицей? Но ей же будет скучно, Пол!
– О нет! Она хочет учиться.
Может, он и не думал меня упрекнуть, но я так и сжалась от стыда. Я не любила учиться, это правда. И то, что я бросила институт, было не столько жертвой мужу, сколько избавлением от шестилетнего ярма. С тех пор я ни минуты не жалела о том, что сделала, хотя было немного стыдно перед отцом, использовавшим все свои связи, чтобы я поступила. И в лицей с Полом я отправилась не из желания овладеть его языком, а чтобы просто быть рядом.
– Пол, я никогда не выучу английский, – удрученно призналась я, взявшись за его рукав.
Он по-отечески погладил меня по голове:
– Это ничего. Я обещаю лучше выучить русский. Вечером я начну читать Достоевского в…
– В подлиннике. Но, Пол, если уж говорить о языке, то лучше прочитай Тургенева.
– О! – легкая гримаса исказила его лицо. – Я читал "Отцы и дети". Это не мое.
– А "Преступление и наказание" значит твое?
Не заметив иронии, он ответил всерьез:
– О да, это мое. Хотя Достоевский звал убивать католиков! Но все равно… Он – мой писатель.
– Почему?
Пол растерянно повторил:
– Почему? Как это объяснить? Этого нельзя сделать. Есть писатели, которые входят в… душу. Прямо в душу. Почему? Как? Это надо у них спросить. Хотя… Я думаю, они и сами не знают. Это колдовство.
Я подумала о Режиссере: вот на чем зиждилась его самоуверенность – он умел околдовывать. Мне вдруг так захотелось проверить, действуют ли чары Режиссера при дневном свете, что я едва не вытолкала Пола за дверь. Он заметил мое нетерпение, и лицо его сразу напряглось, как бывало, когда он чего-то не понимал по-русски и пытался догадаться. Испугавшись, что это удастся ему и на этот раз, я кликнула Алену и, наспех пригладив ей щеткой волосы, подтолкнула к Полу:
– Ну, не опоздайте.
– А… – начал Пол и остановился. Но стало ясно, что он хотел выяснить, чем я собираюсь заняться.
Но поскольку он не договорил, то и отвечать я была не обязана. И это было мне на руку, потому что обманывать я совсем не умела. Замешкавшись в дверях, Пол оглянулся и то ли улыбнулся, то ли болезненно поджал губы. Я помахала ему одними пальцами, а он, как всегда, сказал: "see you…"
Когда дверь закрылась, я бросилась одеваться. Пол говорил, что в узких в бедрах расклешенных светлых брюках я похожа на Русалочку, отдавшую ведьме свои волосы. Натянув их, я мельком взглянула в зеркало и поразилась – и щеки, и уши мои пылали. Появиться перед Режиссером с таким лицом было немыслимо, но я надеялась, что пока доберусь до Красного замка, осенний ветер остудит его. Хотя осень сегодня была больше похожа на бабье лето…
Почему я была совершенно уверена, что Режиссер окажется там? Объяснить я этого не могла, но очень удивилась бы, если б его не оказалось в замке. Впервые я вошла туда одна, но никто не остановил меня, и двери оказались незапертыми. Внутри всегда был другой воздух, не душный и не теплый, а как бы иного состава, чем за стенами замка. Стоило сделать вдох, и все оставшееся снаружи начинало казаться чем-то нереальным, будто не там, а здесь проходила настоящая жизнь. То ли Режиссер силой своей магии заряжал здешнюю атмосферу, то ли наоборот – пропитывался ею, чтобы обрести силу, – я не знала. И меня не очень интересовало, почему, попадая в этот мир, я начинаю чувствовать себя околдованной. Мне это просто нравилось.
Он сидел в пустом зале за тем самым столиком, который облюбовал Пол в тот вечер, когда мы пришли сюда впервые. Режиссер пересыпал что-то из ладони в ладонь, будто играл сочными струйками.
– Чего ты хочешь сегодня – отчаяния или радости? – ничуть не удивившись моему появлению, спросил он, когда я подошла.
– Радости, – ответила я, не задумываясь.
– Конечно, – Режиссер усмехнулся, и на миг его неуловимое лицо точно проступило из тени, но я не успела его рассмотреть.
Присев напротив, я спросила:
– Ты предполагал, что я отвечу именно так?
Продолжая улыбаться, он несколько раз кивнул:
– Кому же хочется отчаяния? Сегодня даже мне хочется радости. Самой глупой, совершенно бессмысленной радости. Со мной это редко бывает. Я не люблю счастливых людей.
– Потому что сам несчастен?
– Потому что я умен.
– Ты смешиваешь разные вещи, – осмелилась возразить я. – Любовь к жизни и глупость – разве это синонимы?
Он насмешливо спросил:
– А разве нет? Жизнерадостность говорит о поверхностности размышлений. Задумайся посерьезнее, копни поглубже – и станет не до смеха. Твой друг, похоже, однажды задумался. И крепко.
– Почему ты так решил?
– Судя по цвету его волос. От радости не седеют к сорока годам.
Я в который раз с досадой подумала, что ничего не знаю про жизнь Пола, кроме того, что погибла девушка, которую он не любил. Режиссер следил за мной из-за темных линз, я ощущала его взгляд.
– Какого цвета у тебя глаза?
– Глаза?
Наконец-то мне удалось хоть немного его удивить. Но Режиссер быстро приходил в себя. Поправив очки, он небрежно ответил:
– Красные. Как раскаленные угли. Чувствуешь, как я пытаюсь прожечь твою кожу?
– Чувствую. Тебе не нравится моя кожа?
– Нравится, – не согласился он. – Все-таки я художник… Как-никак… У меня обостренное чувство красоты. Я вижу ее даже там, где другие находят лишь уродство.
– Например, в уличных кражах…
Он с жаром подхватил:
– А разве нет? Разве ты не испытала восторг той ночью? Острый, пьянящий восторг… Это ли не красота ощущений? Не действий, но ощущений.
Пришлось признать, что отчасти он прав, хотя сама правильность его утверждений была неправильной. Наверное, если б я была чуточку умнее, то смогла бы с ним поспорить. Вот Пол, наверное, смог бы… Если бы диспут велся на английском языке…
Режиссер довольно кивнул:
– Одно плохо: привыкание к радости риска наступает быстрее, чем к наркотикам. Во второй раз ты уже не почувствуешь этой красоты. Придется придумывать что-то новое. Старый дуэлянт становится под пистолет по привычке, не испытывая никакой радости.
– Радость от близости смерти? – с сомнением пробормотала я.
– А почему?
– Так ты эту радость мне предлагаешь?
Он засмеялся и разжал ладонь: на ней лежали четыре таблетки.
– Пилюльки доктора Айболита! Желаете радости? Тогда для вас розовенькие, глупенькие. А белые мы пока не будем трогать.
– Что это такое? – заколебалась я.
– Ты опять боишься?! – с раздражением воскликнул он. – Разве я позволил тебе упасть с крыши? Или разбил на мотоцикле? Нет. И у тебя все получилось. А знаешь почему? Вовсе не потому, что я был рядом. Человек, которого всю жизнь страхуют, не перестанет бояться. Ты сама была смелой, вот в чем секрет. Не разочаровывай же меня. Ты ведь моя героиня! Как бы ни был жалок персонаж фильма, если он главный, то все равно зовется героем.
– Во мне нет ничего героического.
Режиссер оскорбительно легко согласился:
– Пока немного. Но уже начинает прорастать.
– Я – поле?
– Да, – он опять засмеялся и, вложив мне в губы розовую таблетку, вторую закинул себе в рот. – Именно поле. Тебе дать воды?
– Я уже проглотила.
– Великолепно! Вот это настоящая героиня, – похвалил он. – А теперь пойдем…
На всякий случай я спросила: "Куда?", хотя уже готова была идти куда угодно. Не ответив, Режиссер взял меня за руку и вывел из зала. Пройдя неосвещенными коридорами, мы долго спускались по лестничным спиралям, и я уже решила, что он ведет меня прямо в ад, как Режиссер толкнул дверь. Солнечный свет окатил нас потоком жизни.
Глава 17
Это было пшеничное поле, уже убранное, но кое-где попадались оброненные колоски. Я зачем-то подбирала их и в неузнанном за целую жизнь запахе находила что-то щемящее. Будто давным-давно я вдыхала его, и это было удивительное, счастливое время, которое совсем забылось…
Все вокруг было настолько перенасыщенно цветом, точно сам безумный Винсент прошелся тут своей не знающей удержу кистью: желтое-прежелтое поле сливалось с небом невиданной синевы, а белые облака на нем были так ослепительны, что просто впивались в глаза.
– Как жарко! – сказала я, вместо того, чтобы признаться, как мне хорошо.
Режиссер запрокинул голову и, прислушавшись, серьезно сказал:
– Ветер уже близко.
Я засмеялась нелепости его предсказания, но в тот же миг мое лицо обдуло прохладой, и мне стало не до смеха.
– Как ты узнал, Режиссер?
Оглянувшись, я увидела его на другом конце поля. Его алая рубашка билась на ветру, как знамя победителя. Была ли она на Режиссере, когда мы сидели в замке? Я не помнила этого…
– Беги ко мне! – крикнул он. – Беги навстречу ветру! Это великолепно!
"Но он же будет дуть мне в спину", – хотела сказать я и тут же почувствовала, что ветер сменил направление. Я сделала пару шагов, и воздушная волна подхватила меня и понесла к этому красному пятну, что зависло над желтизной.
"Он вышел из Красного замка в красной рубашке и с красными глазами", – мелькнула у меня мысль, но я не успела ее додумать и к чему-либо привязать, потому что налетела на Режиссера, и мы повалились на землю.
– Великолепно! – засмеялся он и, протянув руку, погладил меня по щеке.
Я быстро отодвинулась, но он не рассердился, а снисходительно усмехнулся:
– Опять боишься. Запомни, я не трону тебя, пока ты сама не попросишь.
– Я не попрошу.
– Посмотрим, – он сел, сорвал сухой стебелек и зажал его зубами. – Вот она Россия… А ты хочешь променять эту дикую красоту на английскую ухоженность? Ты в своем уме?!
Я так и ахнула:
– Откуда ты знаешь?
– Я все знаю, – невозмутимо ответил он. – Я же Режиссер! Я должен следить за всем, что происходит с моими героями.
– Но это ведь происходит со мной не в кино! Ты и за моей жизнью следишь?
Режиссер вытащил изо рта соломинку и переломил ее пополам.
– Жизнь, кино… Где их границы? Бунюэлевский фильм очень точен в этом смысле.
– Ты снимаешь в таком же духе?
Его передернуло:
– Я?! Мой дух неповторим!
"О, началось", – с тоской подумала я. Когда Режиссер опускался до бахвальства, то становился неинтересен.
Подражая Полу, я строго сказала:
– Неповторим только Бог.
Он опять вскинулся:
– Все вы прикрываетесь Богом, когда нечего сказать! Ты со мной разговариваешь, а не с Богом, так будь добра слушать меня.
– Я хочу вернуться. Хочу домой.
– Еще заплачь, – Режиссер с отвращением скривился, потом слегка потряс головой. – Ладно, извини. Я не хотел омрачать твою радость. Сейчас я все исправлю. Пойдем!
Легко вскочив, он протянул мне руку, и я, правда не без опаски, ухватилась за нее. Режиссер поставил меня на ноги, но только я попыталась заглянуть ему в лицо, как он подтолкнул меня в спину:
– Побежали, побежали!
Но я не тронулась с места:
– Почему ты все время заставляешь меня бегать?!
– Ты красиво двигаешься. Ты же помнишь, что я говорил о Красоте? Красивый человек обладает огромной властью над душой художника. Он может вдохновить на создание сонаты, которую принято называть "Лунной", а может иссушить вдохновение вообще.
– Ты преувеличиваешь… Не так уж я и красива.
Режиссер удивился:
– А я и не о тебе вовсе… Я вообще о Красоте. Женщины, мужчины, ребенка… Вон лошади, видишь? Разве они не способны вдохновить? Ты ведь тоже претендуешь на звание художницы, значит можешь судить.
– Откуда ты… Ах да… Ты же все знаешь!
– Ну побежали! – умоляюще воскликнул Режиссер, и не успела я ответить, как его ослепительная рубашка уже замелькала впереди.
Я бросилась на красный цвет, который впервые не останавливал, а призывал к движению. Колкие стебли сухо потрескивали у меня под ногами, кое-где в светлой стерне проглядывали розоватые головки клевера, и детское воспоминание о сладости их прохладных лепестков оживало на языке.
Как ни странно, лошади, что паслись у самого края березняка, не шарахнулись от нас, а продолжали выискивать траву посочнее. То и дело какая-нибудь из них встряхивалась и фыркала, отгоняя мух. Длинные хвосты ни на секунду не оставались в покое. Оглядев их с самодовольством хозяина, Режиссер спросил:
– Какую хочешь?
– Что?! Я ни разу в жизни не сидела на коне!
– Тем лучше. Впервые все лучше. Кроме секса…
– Да я даже не подойду ни к одной!
Не слушая, он поймал за гриву белую лошадь и подвел ко мне:
– Белые обычно спокойнее.
– Еще и без седла?!
– А какая тебе разница? – беспечно отозвался Режиссер. – В седле ты ведь тоже никогда не сидела.
Я пообещала свернуть себе шею, но Режиссер напомнил, что лошадь не выше Красного замка, и поспорить с этим было невозможно. Опустившись на одно колено, он сцепил руки "замком" и уверенно сказал:
– Ну, давай!
Когда я с горем пополам вскарабкалась, в голове у меня поплыло: эта лошадь оказалась высотой с небоскреб. Не слушая моих причитаний, Режиссер ловко запрыгнул на красивого, в белых "гольфиках", вороного коня и, подобравшись ко мне поближе, спокойно сказал:
– Ты уже вышла из круга – постель, раковина, плита. Назад тебе не захочется. Так что… Вперед!
Он ударил ладонью мою лошадь по крупу и сам поскакал рядом.
– Выпрями спину! Чувствуешь? Это свобода! Только здесь и сейчас, потому что твоя душа на воле. Ты не найдешь свободы, бегая по миру. Она в тебе! Во мне! В нас!
Оглушительно гикнув, Режиссер вырвался вперед, но моя лошадь не отставала. Мы точно срослись с ней в то мгновение, когда тронулись с места. Ветер окутал нас невидимым коконом, слепил друг с другом, и я знала, что никогда не упаду. Мы словно превратились в безумно счастливого Кентавра, которому не нужна даже любовь Афродиты. Пока в ушах так вольно поет ветер… И все же было в нашей скачке что-то яростное, и радость наша была злой, будто мы топтали в эти минуты все, что душило нас. И даже в песне ветра все отчетливее слышался надрыв.
Мы скакали долго, наверное, целую жизнь, но Я ничуть не устала и не пресытилась остервенелой радостью. Режиссер не обманул – я получила ее сполна. Никто и никогда не давал мне больше…
Горизонт, которого мы пытались достичь, из багряно-лилового стал густо фиолетовым, и только тогда до меня дошло, что наступила ночь.
"Пол! – ужаснулась я. – Пол ведь уже давно дома!"
Словно угадав мои мысли, Режиссер удержал коня, и моя лошадь тоже остановилась.
– Надо возвращаться, – сказал он.
– Как же мы вернемся? Мы так далеко ускакали от того места…
Режиссер рассеянно ответил:
– Места здесь везде одинаковые. Я доставлю тебя домой, не волнуйся. Только сначала ты должна мне помочь.
Я ничего не спросила, ожидая продолжения, и тогда он сказал:
– Мне нужно срочно отснять один эпизод. Прямо сейчас.
– Что за эпизод?
– Свадьба.
– Свадьба?!
Он соскочил с коня и подставил руки:
– Прыгай!
Его ладони обжигали, и весь он был разгорячен скачкой. Но стоило мне коснуться земли, как Режиссер убрал руки. Потом хлопнул обеих лошадей:
– Бегите!
Они удалились ленивой рысью. Режиссер сказал:
– Закрой глаза. Подставь лицо ветру, пусть остудит. Нельзя выходить замуж сгоряча.
– Но это же только кино!
– Конечно. Только кино. Но ты ведь помнишь, что мой принцип – полная правдоподобность? Ты должна прожить все на самом деле, а не просто сыграть. Тем более, что играть-то ты не умеешь. Если б тебе не было в действительности так жутко и весело на коне, ты бы этого не изобразила.
– Жаль, что ты не снимал…
Он оскорбленно воскликнул:
– Как – не снимал?! Весь этот день войдет в мой фильм.
Теперь настал мой черед изумляться:
– Но ведь нигде не было ни души! Кто же снимал? Где-то опять была спрятана камера?
Усмехнувшись, Режиссер широко взмахнул руками:
– Везде! Мой фильм – в этом воздухе, на этой траве, на твоих ресницах… Как снег. Потом я просто соберу его и слеплю все, что мне захочется.
– Этого не может быть! Но я почему-то верю тебе.
– Потому что я особенный, – важно заметил он. – Гениальный и неотразимый.
Я не удержалась от смеха:
– Может, и так… Может, ты и вправду лучший режиссер на свете. Жаль, что я до сих пор так и не видела твоего первого фильма.
Во взмахе его красивой руки выразилось пренебрежение:
– А, он уже умер… Для меня умер. Я начал снимать новый фильм, и тот перестал существовать. Он мне так нравился! А теперь я не могу смотреть его… Все не так, не то, фальшиво. Надеюсь, что этот выйдет таким, как я хочу.
– А потом ты начнешь снимать третий фильм.
– Да, – со смехом подхватил он, – и все повторится… Грустно. Грустно жить без прошлого. Или с тем, которого только стыдишься.
Не в силах скрыть зависть, я сказала:
– Зато у тебя есть будущее. Ты чего-то добиваешься. А я даже не вижу себя в завтрашнем дне.
– Постель, раковина, плита, – насмешливо напомнил Режиссер. – Это тебя уже не устраивает?
– Устраивает! – резко возразила я. – Только… Это в радость, когда знаешь, ради кого ты это делаешь. Понимаешь? А мой друг… Я даже не знаю, какие у него планы. Он ведь не делал мне предложения.
– Значит, ты рождена для того, чтобы варить ему овсянку и стирать носки?
– Если это облегчит ему жизнь – почему бы и нет? Я знаю, что способна на что-то еще, но зачем непременно противопоставлять одно другому? Лишать себя чего-то… Я вполне справилась бы со всем, что составило бы мое счастье. Человек ведь очень многое может, главное, знать – ради чего… Когда я хотела стать художницей, то вовсе не собиралась лишать себя любви. Знаешь, мне даже жалко западных женщин… По-моему, они сами страдают, заставляя себя непременно делать выбор. Зачем обделять себя? Лучше приложить немного больше сил для того, чтобы все успеть!
Режиссер с сомнением покачал головой:
– Ты хочешь запрячься в тяжеленный воз и в одиночку тащить его, как все русские бабы?
– Почему это – в одиночку?! Я же как раз и говорю о том, что не хочу обрекать себя на одиночество!
– Ну как знаешь, – равнодушно ответил он. – Я могу предложить тебе только свой путь. Если твой друг никак не решится… Я обещал повести тебя на самую высоту, и это будет. Я помогу тебе достичь пика ощущений, пика удовольствия… А потом мы спустимся так низко, что, может быть, нас расплющит.
– И мы умрем? – замерла я.
– Не сразу, – спокойно заверил он. – Несколько лет у нас есть.
– Для чего все это?
– Чтобы перед уходом вобрать эту жизнь целиком. Со всеми ее пороками и радостями, с грязью и чистотой.
Он и сам не замечал, что ставит порок на первое место. Но я решила выяснить все до конца:
– Разве человек не должен стремиться к тому, чтобы уйти из этой жизни чистым?
Режиссер ласково тронул меня за подбородок:
– Дурочка… Ты совсем еще ребенок. Что за радость тогда от жизни?
– Но ведь радость может быть и чистой! Когда мы скакали на лошадях…
– Которых украли…
– Украли?!
– А разве они были похожи на диких? Не пытайся обмануть себя. Главное в твоей сегодняшней радости составлял привкус греха. И ты это чувствовала… Сами встречи со мной привлекают тебя именно тем, что оставляют потом ощущение запретности. Ведь ты не рассказываешь о них своему другу, верно? Хотя ничего греховного между нами не происходит. И все же на них – неуловимый налет порочности. И в этом вся радость.
Я призналась:
– Мне трудно с тобой спорить. Я медленнее соображаю.
Режиссер не стал меня добивать. Пропустив мои последние слова, он озабоченно спросил:
– Ну, как насчет свадьбы? Ты готова?
– А платье? – всполошилась я. – Где мы сейчас возьмем платье? Его привезут?
– Какое еще платье? Ты забыла, о ком наш фильм? Дай мне руку. Закрой глаза. Повернись лицом к ветру. Вот так… И не подглядывай, а то все испортишь.
– Нас снимают?
– Снимают, снимают. Зоркий глаз следит за нами неотступно. Ты готова?
– Кажется. А что я должна делать?
– Верить, – строго сказал Режиссер. – Больше от тебя ничего не требуется. Ты должна поверить, что на самом деле выходишь за меня замуж.
Видимо, на моем лице отразился такой ужас, что Режиссер залился высоким смехом:
– Ну, не настолько, – воскликнул он. – Это все же кино. Закрой глаза.
Его рука сильно сжала мою, голос зазвучал торжественно:
– Северный ветер, великий Борей, мятежный и непокорный! Соедини два сердца, что должны принадлежать друг другу, таких же мятущихся сердца, как ты сам. Тебе приносим мы свою клятву верности, ведь ты самый частый гость в эти краях. Забери все наше прошлое, но не остужай пыла наших сердец. И да будет наш союз вечен!
Его горячие, влажные губы коснулись моих так осторожно, будто он боялся спугнуть. Но я ничуть не испугалась. Я ведь знала, что за свадебной клятвой всегда следует поцелуй, только слегка забылась, еще раз произнося про себя все слова Режиссера, чтобы потом увести Пола навстречу ветру и повторить эту необычную клятву. Впервые мне захотелось сыграть в жизни сцену из кино… Очень уж проникновенно говорил Режиссер.
– Вот и все, – сказал он. – Можешь открывать глаза.
Я послушалась и тут же вскрикнула – мы снова стояли на крыше замка. Заливисто захохотав, Режиссер крикнул:
– Шампанского!
Какие-то нарядно одетые люди тотчас высыпали на крышу с бокалами в руках. В темноте их улыбки ослепляли, как фотовспышки. Знакомый официант поднес нам наполненные бокалы и почтительно отступил. Я озиралась, ничего не понимая, а Режиссер все смеялся и чокался со всеми.
– Кто это? Съемочная группа?
– Массовка! – отозвался он. – Толпа это всегда массовка. Нас поздравляют, улыбайся.
И я улыбалась и поддерживала все тосты, все больше входя в роль и пьянея. Изредка приходя в себя, я неизменно оказывалась на руках у Режиссера, и это не вызывало у меня ни малейшей неловкости. Один раз я очнулась от того, что вдохнула какой-то порошок с его руки, и он засмеялся, вытирая мне нос. А потом сознание настигло меня на мотоцикле, который мчался по городу, едва не сбивая светофоры. Я даже не испугалась, мне все было нипочем. Я что-то кричала, размахивая бутылкой, неведомо откуда появившейся у меня в руках. А потом швырнула ее в одно из темных окон.
– Класс! – завопил Режиссер, повернув голову. – Буди проклятых филистеров!
Мы остановились посреди улицы, которую я не смогла узнать, и стали бить окна камнями, обломками кирпичей, которых всегда полно возле дорог, и всем, что попадало под руку. Режиссер был в восторге и выкрикивал какие-то угрожающие лозунги.
– Мы их разбудим! – он схватил меня за плечи и благодарно поцеловал. – Они у нас вылезут из своей скорлупы! Мы их заставим наконец взяться за свою страну!
Я соглашалась со всем, что он говорил. Мне еще никогда не было так весело.
– А будет еще лучше! – пообещал Режиссер, опять угадав мои мысли. – Это только начало.
Я пришла в себя дома, над унитазом. Меня рвало так, что выворачивало внутренности. Пол стоял рядом на коленях и лихорадочно гладил меня по спине. Потом оттащил в ванную и поставил под душ. До постели он донес меня на руках и, уложив, долго сидел рядом, закрыв ладонями лицо.
Мне нечего было ему сказать. Я просто не сумела бы объяснить, что со мной происходит. К тому же, я совсем не знала его языка.
В моем сне кони били копытами по окнам, а я кричала, потому что стекла сыпались мне на голову. Я пыталась закрыть ее руками, и вскоре они уже были изрезаны, и кровь лилась мне в глаза. Весь мир окрашивался в красный цвет. А где-то надо мной, на крыше замка стоял Режиссер, все в той же рубахе, и руководил действиями Всевидящего Ока. Я просила, чтоб он прекратил съемку, что я больше не выдержу, но он только покрикивал сверху: "Смелее! Не пугайся боли, ты должна взглянуть ей в лицо".
Но боль не отступила, даже когда я проснулась. Все мое тело разламывалось, и было тошно так, словно я неделю пропьянствовала. Давно уже рассвело. Пол сидел в кресле и читал Достоевского.
"Преступление и наказание?" – спросила я.
Он закрыл книгу и ровным голосом сообщил:
– Тебя не было три дня.
Я чуть не подскочила, но боль снова пригвоздила меня.
– Три дня? Нет, Пол, не может быть!
Убеждать меня он не стал. Просто сидел и смотрел своими ясными, спокойными глазами. И его взгляд был убедительнее слов.
– О боже! – простонала я, и вправду не понимая, как такое могло произойти.
– Что ты принимала? – спросил Пол, не повышая голоса.
– Шампанское.
Он уточнил:
– Какие наркотики?
– Наркотики? Нет! Что ты! Хотя… Какую-то таблетку… И еще… Кокаин? Не помню…
Пол поднялся, и я невольно съежилась. Но возле дивана он встал на колени и взял мою руку.
– Смотри. Тебе делали уколы. Не помнишь?
– Ой нет! – меня бросило в жар. – Пол, это невозможно!
– За три дня можно… как это? Посадить на иглу.
– Пол! – взвыла я. – Зачем?
– Я сам так делал, – неожиданно холодно ответил он. – Когда продавал наркотики.
Я даже отвлеклась от своего страха.
– Ты?!
– Я же говорил… Я был ужасным.
– Настолько? – мне все еще не верилось.
– Хуже, – голос его прозвучал жестко, разбив последнюю надежду.
Он опустил мою руку, но я сама схватилась за его ладонь.
– Что же делать, Пол?! Что мне теперь делать?
Его лицо сразу размягчилось, он прижал мою руку к губам.
– Может, ничего? Ты такая здоровая девочка… Может, не возьмет так быстро? Надо ждать.
– Я больше не пойду туда, Пол! – покаянно произнесла я, забыв, что он и не знает, где я была.
Пол сдержанно сказал:
– Это ты сама должна решить.
"И тут я сама!" – едва не вскрикнула я в отчаянии.
– А ты мне не поможешь?
– Я здесь. Я весь твой. Но я не могу решать за тебя. Это твоя жизнь.








