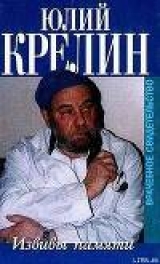
Текст книги "Извивы памяти"
Автор книги: Юлий Крелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Булат не любил, а может, боялся летать на самолетах. Да собственно, куда летать-то? Он еще тогда был невыездной, а в Ригу, Ленинград, Тбилиси или Крым вполне и поезд сойдет. Но вот начались первые поездки – прорвало плотину еще в брежневские времена, и каждый раз не только для него, для всех нас это было волнующее событие.
В то время неписаным законом было устоять при прямой покупке "партией и правительством". Но порой сдавались при возможности поехать в страны уже много лет гниющего капитала. После чего павшие, в своем глазу бревна не видевшие, смотрели на мир взором ясным и глазами ели начальство. Но к Булату это отношения не имело. Даже не в принципах дело, а в гордости его. Не могу себе представить Булата, отвечающего на вопросы маразматиков из выездной комиссии райкома: "А скажите нам: кто сейчас руководитель компартии Венесуэлы?" Тьфу ты… Даже вспоминать тошно. Говорили о гордости кавказской, а, по-моему, просто достоинство истинного интеллигента. Истинный-то блюдет честь свою не слабее горского князя. Истинных, наверное, как и князей, мало. Он – был.
Одна из первых поездок его была в Гамбург, и он по старой привычке сел в поезд. Он уехал, и все радовались такому его успеху. Только сейчас понимаешь, какими были мы самодовольными дураками, порой просто мелкими людишками с хорошими мыслями, правда, чаще приватными, кухонными… и по месту высказывания, да и по существу.
Он уехал вчера, а сегодня днем вдруг стук в дверь моего кабинета в больнице – и в проеме Булат.
Не описать моего удивления. Впрочем, удивление было мимолетно. В силу профессии моей удивление сменилось беспокойством.
Даже и без отъезда в Гамбург накануне, да еще и без предваряющего звонка, ко мне так просто не приходят. Может, и к сожалению. Я всегда мечтал, чтобы ко мне тянуло без оглядки на мою работу. Но профессия надела что-то вроде кандалов на мои взаимоотношения с друзьями, на отношение ко мне, на мое отношение, в конце-то концов, к себе.
И когда Булат, уехавший вчера в Гамбург, возник на моем пороге, я подумал: что-то со здоровьем!
Я не могу вспомнить, в чем был тогда Булат, – настолько пронзительно в моем мозгу нарисован образ испуганного Булата. Наверное, он был в своей кожаной курточке. В те дни кожаный прикид был большой редкостью. Своей кожаной одежды у нас, по-моему, не было со времен гражданской войны. А незадолго до того, когда мы с Булатом были в Дубултах, он мне сетовал, что не может добыть куртку или пиджак из кожи, о чем давно мечтает. И вскоре после того кто-то подарил ему вымечтанное. Кажется, Миша Рощин. И Булат не расставался с этим подарком. И еще мне запомнилась необычная кепочка, такая рдяно-коричневая, почти красная. И в клетку… а, может, в полоску.
Вообще-то он отродясь и до конца дней не носил ничего бросающегося в глаза. Вот когда ко мне в больницу приходит Евтушенко, от его разноцветной кепочки мои девочки-сестры просто цепенеют. Евтушенко, кстати, кепочки коллекционирует, что многое в нем объясняет…
Кепки бросаются в глаза в первую очередь не от их расцветки, а от манеры ношения. Например, их можно напяливать, накидывать на голову, так сказать, по-ленински. Да и все его приспешники тоже носили кепки, отодвинув основную ее часть от козырька назад. Эдакая рабочая лихость. А держишь речь – ее в руку возьмешь, сомнешь и даешь ею отмашку, будто шашкою рубаешь по капитализму. Они, политики наши тех времен, видно, хотели отличаться от буржуазных деятелей, с которыми они общались в эмиграции, или от тех, что из прошлого этапа российской истории. Те ходили в шляпах, котелках, цилиндрах. А тут, нате вам, выкусите – кепка, для бесшабашной революционности мы еще заломим назад. А те, кто мнил себя полководцем, серьезные ребята типа Троцкого, Сталина, – те в картузах полувоенных. Вроде бы и не фуражки царского времени или белогвардейские, но и не кепки, хотя все же ближе к кепкам.
А еще кепки были национально-географическим признаком. Скажем, кепки кавказские – широкие, блинообразные «аэродромы». Почему на Кавказе выбрали эту форму головного убора – не знаю.
Наконец, кепки сегодняшнего дня. Вот у Жириновского полукепка-полукартуз. Такие полу– я встречал на старых снимках и в кино дореволюционном на евреях из местечек. Тут, наверное, Жирик дал промашку. А может, и великий смысл заложил. Ну и, безусловно, кожаная кепка столичного мэра. Это уж настолько его прикид, что порой его даже кличут «Кепкой». Кепка был, Кепка сказал, ну и так далее…
Так вот, возвращаясь на четверть века назад. Булат вошел и повесил кепку на вешалку…
Выяснилось вот что: в поезде у него начало чесаться тело, появилась крапивница, он стал задыхаться, стало ему столь нехорошо, что в Бресте он выскочил, побежал в аэропорт. В аэропорт! На самолете! Чего боялся больше? Смерти или катастрофы?..
Тут и кончился его страх перед самолетами. В дальнейшем он много летал. Чуть ли не каждый год в Америку – не по морю же идти. По мне, так плыть на чем-то страшнее. На самолете, в случае чего, недолго мучаться. А в море сколько еще барахтаться, уцепившись, если повезет, за какой-нибудь бочонок или полено.
Итак, типичная аллергия с астматическим компонентом. Болезнь не для моего отделения, но я положил его к себе. Разумеется, терапевты ради Булата бегали бы и дальше, чем в соседний корпус. Это же сам Окуджава!
А сам Окуджава прошел в отдельную палату и, стесняясь своей известности, отсиживался в этой келье-камере, не высовывая носа. Лишь когда слышал, что в коридоре пусто, быстро проходил к моему кабинету – я ему оставлял ключ – и звонил по делам, друзьям, домой.
У Булата порой трогательно сочеталась стеснительность, застенчивость с… Не знаю, как это назвать. Он стопорился, когда встретивший его столбенел. То была переходная пора от неприятия его властями и высоким, как ныне говорят, рейтингом. И чем больше ходило слухов о неприязненном к нему отношении верхов, тем больше, естественно, он становился мил обществу. Булат, ну прямо как девушка, терялся, тушевался, не знал, как вести себя. Потому пробегал ко мне в кабинет тишком. "Мне неловко, – говорил он, – как же мне объяснять, почему я хожу к заведующему в кабинет?". Будто кто-то его спросит… Потом-то он привык к своей популярности, узнаваемости. Однажды, помню, мы зашли в ресторан ЦДЛ пообедать. Официантка, по старой дружбе, говорит: "Булат, подожди немного, я сейчас занята, вот тот стол обслужу и подойду". – "Так еще со мной здесь не разговаривали", – вдруг сказал Булат. Мне почудилось тогда, что и эта показная реакция была следствием его вечной стеснительности. Он стеснялся стоять на виду и ждать, когда его поймут, полюбят… А может, это моя фантазия. Природа стеснительности не всегда ясна. Я сам стеснительный человек. Даже ради уточнения адреса стесняюсь обратиться к прохожему. Лишь с годами я понял, что это просто результат самодовольства. Боязнь оказаться в смешном положении. У Булата застенчивость была иного рода – мне казалось, что он боится другого поставить в неловкое, смешное положение…
Булат поехал в Гамбург, и на него обрушилась тяжелейшая болезнь. Аллергия плюс астма – что потом его и погубило в Париже… Аллергия чудовищная. Даже на хлеб он выдавал кожную реакцию. Дыхательные же проявления постепенно уменьшались. Оле, жене его, приходилось ежедневно что-то менять в диете и каждый день ездить от Речного вокзала, где они тогда жили, к нам, в Кунцево.
После некоторого улучшения с дыханием застопорились мы на кожных проявлениях – чуть что не так, появлялась крапивница. В конце концов, пришлось ему перейти в другую больницу, в специализированное аллергологическое отделение…
Верхняя его одежда висела в шкафу, в моем кабинете, а кепочка – на внешней вешалке, за шкафом. Когда он стал одеваться перед отъездом, кепочки мы не обнаружили. Кабинет у меня, пока я на работе, не запирался. Кто-то спер.
Так до сих пор и не знаю: кепочка ли, сама по себе необычная, притянула руку экспроприатора или то был сувенир, грех Булатова фаната…
Но с той поры почему-то больше я никогда не видел на Булате одежды нестандартной.
БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ
Италия. Милан. Поезд. Римини. И вот уже вечер – я у Тонино и Лоры. Дом в горах. За окном шумит ветер, проливной дождь, но в доме тепло. Я устал, мне бы лечь да заснуть, но душа графомана тянет руку к перу. И я пишу, с ходу, так сказать, хочу зафиксировать настоящее. Строго говоря, настоящего не существует. Есть явное прошлое и гипотетическое будущее; но также существует скользящая с неимоверной быстротой, мелькающая грань между ними. И эта грань бежит сейчас с быстротой моей руки…
В Римини, на вокзале, встретил меня Джанни. Добрый человек. Его улыбка без зубов, его растрепанные волосы – все, прямо, стреляет, вспыхивает добротой. Потрясающе! Ну как может подобное добро быть с кулаками? А Тонино горюет, что у нас нет литературы абсурда. Добро и кулак несовместимы, как гений и злодейство… Джанни приехал в Римини специально, чтобы встретить меня. Чтоб я не мыкался по автобусам.
Он узнал меня сразу – мы уже виделись. И я узнал его. Высокий, худой. Зубов – кот наплакал. Не лечит и не вставляет принципиально. К родному городу своему отношение иное. Ходит по нему – и то камни где-то красиво уложит, подправит, то фонтан где-то строить начнет. Они с Тонино вдвоем следят за городом, за его красотой, опрятностью, естественностью. Пользуясь своим значением и популярностью, Тонино давит на мэра и многого добивается к вящей пользе города.
Много людей ходят в красном. Что ли, модно нынче так? В России «красное» происходит от «красивого». А может, наоборот. И с противоположным значением. Знамя наше – кровь рабочих, погибших за правое дело. Пионерский галстук – кровь революционеров на шее ребенка. Какой-то макабрический бред. А здесь – просто модно. Что значит – модно?..
Мы поднимаемся в машине в горы. То на одной из вершин, то на другой видны крепости. А вот и городок в горах. Это Сан-Марино.
Проехали какой-то маленький городишко, на площади толпа хорошо одетых людей под охраной трех всадников в средневековой одежде, но в очках. "Что это?" – «Сан-Марта». Праздник святого Мартына.
Едем выше, выше. Машин полно. Оказывается, едем в ресторан. Видно, сестренка обед не приготовила, и, стало быть, есть будем в ресторане.
А вот и ресторан. Вошли. Боже мой! Длиннющие столы, ор, гам – человек двести. Во главе сидит Тонино. Оказывается, праздник – какой-то сыр год лежал в земле, где и становился сыром. Юбилей сыра! По этому поводу Тонино нарисовал и напечатал свой очередной плакат, которые он время от времени издает и вывешивает в городах. "Тонино, кто это?" – "Это жители здешние: тут и крестьяне, и коммунисты, и социалисты, и… И все… Это добрые все люди". И все вместе: чиновники, ученые, писатели, крестьяне, художники, социалисты, артисты…
Почему же, за что нам?!
Помню, как лет семь назад я привел на Красную площадь друзей Тонино, семейство Маджолли. Они огляделись, осмотрели: "Bellissimo!" Дружный, несколько раз повторенный возглас. И я огляделся, осмотрел как бы новыми, чужими глазами. Действительно! Как красиво! Если бы выкинуть из памяти цоканье летящих коней с тачанками и пулеметами, тяжелый топот армейских сапог, скрежет, грохот, лязг и рык танков, медленно двигающиеся ракеты, все увеличивающиеся и увеличивающиеся по мере их выползания на площадь. И этих монстров наверху, на гробнице, следящих с животной радостью за той злой силой, что продвигалась под ними (над нами) по площади и давила каждого из нас оптом и в розницу. На наших глазах пелена, и мы не видим красоты на том месте, где были кровь, грязь и ложь. Потому и невыносима для нашего глаза красота, потому и не спасает…
А Тонино говорит, что в Италии люди искусства, литературы, культуры не могут жить лишь своим любимым делом.
Они все тут зависят от заработка, от денег. И становятся слугами системы.
У нас мы зависели не впрямую от денег, а от привилегий, положения, распределения благ. Нам, пишущим, помогали по принципу "плюс к деньгам". И плюс был первее, важнее. И плюс был более зависим от распределяющего, чем заработки. Мы (некая элита) могли поехать в Дом творчества, нам легче было купить машину, был у нас, избранных, закрытый для остального мира ресторан, свой книжный магазин, в случае нужды нас мог ссудить Литфонд.
Слуга системы ищет себе новые, дополнительные заработки – все зависит лишь от количества денег и привилегий… Убрав последние, сразу лишаешь всего. Сколько же надо накопить денег, чтобы не бояться лишения привилегий?! Конечно, более всего это относится к купленной элите чиновникам и другим разным рычагам, винтикам, шестеренкам, трансмиссиям режима. И чем выше ты забрался – тем большая зависимость. Естественно, падать с большей высоты – и больнее, и опаснее, и ближе к гибели.
У них слуги системы – у нас рабы режима.
Прошлись по Пеннабилли, городу, городку, городочку в полторы тысячи жителей. Тонино и Джанни здесь все перевернули. Джанни – даже президент какой-то выставки.
Здесь реставрационные мастерские. Это большой дом, куда чуть ли не со всего света слетаются реставраторы.
Театр XVI века. Закрыт – готовят к реставрации. Осмотреть его нутро можно только через щелку в дверях. В театре пять ярусов. По размерам зал не уступает большим московским театрам (полторы тысячи сельчан!). Неподалеку от театра собор и пристроенный к нему дом с объявлением о какой-то выставке. Оказывается, это местный Киноцентр.
В стены некоторых домов вделаны керамические плитки с Тониновыми текстами. Вот, например, некролог синьоре, что прожила в этом самом доме более восьмидесяти лет, охраняла цветы, как написано на памятной плитке, и ничего не просила ни у людей, ни у Бога, кроме дарования ей легкой смерти. В марте 91 года она уснула, чтобы никогда больше не проснуться – и это увековечено.
Да кто же знает, легка такая смерть или тяжела? Для окружающих легка. А как происходит умирание, и сколько длится оно, и какими мерами там все исчисляется, – нам неведомо; никто еще не вернулся и не рассказал…
А еще Тонино создал здесь Сад забытых деревьев. Он с помощью друзей, учеников, соратников и мэра собрал по Италии деревья, которые перестали выращивать и которые практически вымерли в Италии. Да и не только в Италии. А я даже не знаю, есть ли такие у нас в России – вымершие деревья?.. Эти деревья высадили, за ними ухаживают, растят – авось, возродят.
А еще из старых разрушенных церквей Италии они насобирали камней, после чего из этого мусора сотворили символическую часовню. А вот одинокая дверь и рядом еще один керамический комментарий Тонино Гуэрра, что дверь в часовню, хотя часовни нет – имитация памяти кого-то, или чего-то, что я не запомнил.
Камни разрушенных церквей. Старинные камни. Собственно, камни всегда старинные. Чтобы камни создались, нужны века… тысячелетия. Старинные камни?! Это кирпич старинным может быть.
Тонино много лет насаждал на стенах домов города картины и разместил их так, что от торчащей посередине каждой картины стрелы падает тень. Солнечные часы. Так что в солнечную погоду, когда люди на улице, в любой части городка можно увидеть на стене время. Было бы солнце – будет и время. А в одном месте солнечные часы выложены на земле. Отмечено, в каком месте должен встать человек, чтобы по тени от самого себя определить время. «Я» мера времени?
Стены старых домов он украсил керамическими афоризмами, пожеланиями, наставлениями. На одной плитке я прочел приблизительно такие стихи: "Ты любишь цветы – и рвешь их; ты любишь животных – и ешь мясо; ты говоришь, что любишь меня – я боюсь тебя". Еще одна настенная керамика: "Если у собаки много денег, ее зовут Синьор Собака".
Он разбросал по разным домам керамические некрологи людям, жившим в этих стенах, излучавшим доброту и любовь, благодаря которым еще возможно жить на этой земле. (И без особого постановления правительства.)
Придумал он "Музей одной картины". В некоем месте в горах, после землетрясения, несколько веков тому назад разрушилась церковь. Земля в этом месте была зыбка, временами тряслась, и здесь никак не могли восстановить храм. Однажды, по легенде, летом выпал снег и при таянии сохранился лишь в одном месте. Люди расценили это как знак, решив, что церковь надо строить именно тут. Построили. И она стоит до сих пор. Тонино написал об этом стихи. Художник на эту тему написал большую картину. И стоит в Пеннабилли музей, где в одной комнате на стене только стихи Гуэрра, в другой – только картина во всю стену…
Тонино украшает свой дом, сад, город, скалы, стены разрушенной крепости князей Малатеста, украшает страну… жизнь. Вот они, остатки стен, останки крепости, вылезающие из земли. А вот и скалы, грозящие оползти, упасть, разрушиться, исчезнуть. Но Тонино бдит! И куда-то в щель заливается цемент – укрепляется скала. Руины стен крепости – тоже предмет ушедшей истории. Тонино вешает открытые клетки-гнезды для прилетающих и пролетающих птиц. И подрезывается миндаль, к которому прививается персик или инжир.
При мне к Гуэрра приехала делегация из какого-то маленького городка. Городок старинный. Во время войны был сильно разрушен, а сейчас восстановлен. По их мнению, был испорчен современными зданиями, не соответствующими духу Италии. Как сделать, чтобы дух вернулся? Тонино тотчас включил свою мыслительную машину. Идеи из него посыпались, словно последние десятилетия он только об этом и думал. Так же и в Москве было, когда кто-то начинал с ним говорить о своем задуманном сценарии, – хотел всю Москву преобразить!.. Вот и сейчас он сыпал образами. Предложил украсить город фотографиями прошлого. Из пластилина сделать макет старого города – и пусть дети весь год, проходя мимо, впитывают и вдыхают ушедшее. Выяснить, какие крупные художники там родились или работали, и на холсте репродукции их картин. И повесить их в городе, в самых доступных местах. Дальше он предложил устроить какие-то фейерверки – деталей я не понял.
Мы едем к его Каменным коврам. Мне много говорили про это, но я никак не мог взять в толк, что они имеют в виду. Тонино сделал что?
Каменные ковры! Едем, едем в гору. Приблизились почти к самой вершине. Еще десять шагов пешком – и мы на самом верху. Вершина – площадка, покрытая сочной, свежей травой. Конец ноября! В центре площадки башня без входа. Почему? Зачем? А вокруг – впаянные, вделанные, вбитые в землю ковры из керамики, сработанные по рисункам Тонино, при участии Тонино. И рядом с каждым ковром – посвящение какому-либо человеку или событию. И подпись под каждым: Гуэрра.
Один ковер посвящен монаху, жившему подле этой башни и основавшему орден капуцинов. Другой – другу Данте, к которому тот в свое время сюда сбежал. Есть ковер, посвященный одной парижанке XVI века, которая вышла замуж, чтобы жить во Флоренции, а оказалась в доме близ этой башни. Она сошла с ума и кричала: "Париж! Спаси меня!"
Теперь сюда стала приезжать молодежь. Гуляют, танцуют, трахаются, но не митингуют, не дерутся, не колются.
Короче, наследил Тонино тут прилично, дай Бог ему здоровья!
Вновь идет дождь. После очередного обхода города с Лорой весь остальной день просидел в доме. Только и видел – невообразимо красивый пейзаж из окна. Даже в дождь красиво. Выбрал же Тонино место по себе, по своему образу и подобию. Или это место его выбрало?
Сидим в доме. Разговариваем. Неспешная, тихая беседа через Лору – я же безъязыкий. Тихо и неспешно, насколько это возможно в Италии.
Как-то, году в восемьдесят четвертом, по-моему, звонит мне Лора из Италии. У Тонино обнаружили опухоль мозга. Требуется операция, и он хочет, чтобы это делал Саша Коновалов, их старый приятель, муж давней, школьной подруги Лоры. "А что, у вас нет нейрохирургов?" – спросил я, представив бытовые условия института нейрохирургии, где Саша директор. Старое запущенное здание, давно ждущее ремонта. "Есть в Швейцарии какой-то гениальный турок, но Тонино верит Саше. Может, он сумеет для Тонино выделить отдельную палату, ведь я должна быть с ним постоянно, хотя бы как переводчик – он же не знает языка".
Короче, я встретил их в Шереметьево, отвез домой, и из дома тем же вечером они поехали к Коновалову. Дело было в воскресенье. Саша осмотрел Тонино и всю папку его исследований. В понедельник утром в институте сделали кое-какие дополнительные анализы и назначили операцию на среду. Во вторник вечером к Тонино домой приехали его будущий палатный врач и анестезиолог. Осмотрели, дали какие-то лекарства и велели быть в среду в девять утра в кабинете Коновалова, куда я и привез его в назначенное время. В кабинет подали каталку, погрузили на нее Тонино и увезли в операционную. До следующего утра был он в реанимации. Еще сутки провел с Лорой в кабинете заведующего отделением, который освободили ради Гуэрра. А в пятницу утром он вышел ко мне своими ногами, и я его увез домой.
У Гуэрра в голове полным-полно великолепных идей – есть что рассказать. Но все идеи его – для мирной жизни. А мы всю жизнь свою – либо воевали, либо готовились к войне, вооружались, накачивали себя на борьбу. А теперь и вовсе… А его придумки все рассчитаны на иную жизнь, иной менталитет. Как-то днем я увидел мужчин у кафе с бокалами вина и удивился; Тонино сказал: "Они работают, когда ты еще спишь. Разве не видно по результатам? – И он повел вокруг себя рукой, указывая на магазины, чистые улицы, кафешки. – Они с утра хорошо поработали и теперь отдыхают…"
Как тут не вспомнить рассказ одного очевидца на банкете в редакции Большой Советской Энциклопедии по поводу 90-летия их тогдашнего главного редактора, старого большевика Петрова. Кроме коллег по редакции, пришли его соратники. Многие из них вернулись из лагерей, где расплачивались за свои старореволюционные заслуги и раннесоветские грехи. Был среди гостей и наиболее послушный холоп диктатора – красный маршал Клим Ворошилов. В эти годы он уже был глухим, как пень, и потому в общем разговоре принимать участие не мог. Он сидел, увлеченно ел и временами бросал реплики. Один из экс-революционеров, бывший военный, бывший зэк, а ныне держатель персональной пенсии, рантье по-старобольшевистски, вдруг возник перед ковыряющим в тарелке своим бывшим командующим и стал кричать, ожесточенно размахивая руками, приблизительно так: "Клим, твои руки по локоть в крови, ты пересажал и перестрелял всех лучших людей в армии, ты и твой хозяин предали революцию, вы погубили дело рабочего класса, ты палач и убийца…" – ну и так далее. Подбежавшие холуи пытались урезонить обличителя, а Клим поглядел на товарища и, по-видимому, ничего не расслышав, но увидев мелькающие руки и отверстые уста, решил успокоить бывшего соратника: "Ну, что ты орешь? Мы хорошо поработали, теперь хорошо отдыхаем". Вот так-то…
Как-то я спросил у Лоры, не скучно ли ей здесь, в захолустье. Она воскликнула: "Что ты! Конечно, нет". Сейчас я понял, что это был глупый вопрос. Тонино создал в Пеннабилли своеобразную "Ясную поляну", куда едут к нему не только со всей Италии, но и из других стран.
Гуэрра давит на мэров окрестных городов, он заставляет их беречь прошлое – не только творения рук человеческих, но и пейзаж, рожденный природой. Он призывает их думать о потомках. Он их ругает, они едут к нему за советом.
А кто он? Более всего Тонино известен в мире кино.
По сценариям его делали фильмы Феллини и Антониони, Ангелопулос и Рози, братья Тавиани и Тарковский. Сам он считает себя прежде сего поэтом. Кроме того, он романист, новеллист, эссеист. Художник, плакатами которого, с эдакими, как он говорит, «манифестами», завешиваются города. Выходят с его рисунками календари, открытки. По его рисункам делают мебель, камины.
Он, я бы сказал, агрессивен, но совсем не в прямом смысле слова – он агрессивен, словно вода, заполняющая все пустые пространства.
Все больше и больше городов области Романьи включает он в орбиту своих идей, придумок, доброжелательных и конструктивных сумасбродств. Деньги дают мэрии, банкиры, простые люди. Ныне его идеи вышли уже за пределы Романьи и заполняют соседнюю Тоскану.
О нем пишут в газетах и журналах. Он и сам имеет периодическую колонку в одной весьма влиятельной газете страны. Его деятельность не распространяется на устройство общества, но в высшей степени влияет на природу, историю, память страны.
В один из дней мы едем в Сант-Арканджело. На родину Тонино. Там какая-то конференция с его участием. В машине Тонино с Джанни всю дорогу обсуждали, глядя на мелькавший пейзаж, где тут можно еще что-нибудь улучшить.
В Сант-Арканджелло, где я был пять лет назад, большие перемены. Центральная площадь, под непосредственным давлением Тонино, весьма изменилась. Там теперь не стоят машины, а сидят за столиками кафе да гуляют горожане. Раз в неделю здесь раскидывает свои шатры шмоточный рынок. Посреди площади фонтан. Ровная гладь в бассейне, когда фонтан вдруг перестает бить, являет собой зеркало, в котором отражается старинная арка.
Тонино не дает осмотреться: "В Сан Джовезе, в Сан Джовезе!" Я никак не мог понять, что за конференция в каком-то мифическом Сан Джовезе, куда он меня призывает. Оказывается, там собрались его ученики.
Какие ученики? Чему он учит? Писать стихи, романы? Делать кино? Рисовать?
Он учит жить. Это "двор поэта". В смысле – его придворные, ближайшее его окружение. По словам Лоры.
В кафе "Сан Джовезе" собралось около двадцати человек. Они сидели за большим столом, пили прекрасное вино, ели замечательную еду и планировали празднование Рождества в соседнем городе. Там они хотят устроить выставку, я не совсем понял какую, но что-то необычное.
Вот это и есть конференция.
Ничего не сказать о кафе "Сан Джовезе" – это значит не все рассказать о Гуэрра. Идея кафе его. Все и внутри придумал он. Деньги дал хозяин, местный банкир, издатель, владелец магазинов, отелей Маджолли. Я к нему отношусь с должным почтением. Во-первых, он издал нашу совместную с Эйдельманом книгу "Итальянская Россия", во-вторых, он спонсирует, более чем кто другой, прелестные и полезные сумасбродства своего друга Тонино.
Кафе – в подвале. Стены сложены из кирпичей и камней разрушившихся зданий. Много зальчиков, комнат, галерей. Всюду стоят столики. Скатерти, салфетки с его рисунками. Мебель сделана по его проектам.
Но и это не все. Выше – три этажа, где собираются сделать библиотеку, зал для конференций и лекций, кинозал. То есть создать в этом городке на 12 000 населения культурный центр. И это делается – это не Нью-Васюки.
В одном из залов за столиком скромно сидел Маджолли, хозяин, со всем семейством. И нет у них, что ли, для богатых, для элиты, престижных, закрытых ресторанов, больниц, роддомов? Нет же. Тут не распределяют покупают. И не нужно ничего закрытого, а комфорт купить можно всем, кому что по силам, по карману. Были бы в кармане деньги. Всеобщий и всесторонний эквивалент всего. Деньги платят за работу, за дело, за способности, за таланты.
Вот и мы, кажется, входим в иные законы жизни… Как-то на нас они скажутся? Что скажет в ответ наш российский менталитет, сдобренный десятилетиями своеобразного, «развитого», лагерного социализма и извечной нелюбовью ко всему богатому, с привычкой к коллективизму (который теперь иные зовут "соборностью")?..
По дороге домой, в Пеннабилли, Джанни и Тонино обсуждают какую-то завтрашнюю очередную акцию преображения округи. А вернее, приукрашения ее, да так, чтобы не нарушить природной красоты.
Вокруг Тонино клубятся многие энтузиасты, патриоты края. Кто-то восстанавливает церковь, забытую и полуразрушенную, но так живописно расположенную на горе, будто всегда стояла там. "Ох! Если бы восстановить!" У мэрии таких денег нет. Но существуют же богатые люди, любящие тратить деньги на «излишества» и «нежности». Например, для подхода, а то и подъезда к этой церкви хорошо бы мост подвести. Но это безумные деньги! А у какого-то богатого чудака сохранился военный, быстро наводящийся мост. И Гуэрра уже у него. И мост гподарен. Тонино трудно отказать. Он же не себе выпрашиваает, а местности, пейзажу, стране потомкам. Начало положено. И на саму реставрацию Гуэрра тоже раздобыл у кого-то много миллионов лир. Как хорошо, когда есть богатые люди! В истории России тоже было много богатых чудаков, способствовавших украшению и улучшению страны… И снова, дай Бог, появятся. Наутро мы едем к этой церкви – она уже в лесах. Тонино рассказывает историю места. Историю князя Малатеста, без которого нет средневековой Италии. Объясняет, что истинная Италия в маленьких городах, а не в Венеции или Милане. Чтсо удобства – теплая вода, ванна, телефон, дороги – все это везде одинаково, и всюду нынче жить можно одним, единым уровнем жизни. Я подумал о лозунге тоталитаризма – одна страна, один народ, один вождь. Но нет одного уровня жизни. У нас, уехав из Москвы в областной город, попадаешь как бы в другую страну. Даже русский язык и тот становится другим, вне зависимости от местных диалектов. Набор слов другой. Меняя областной город на меньший, скажем, уездного значения, еще больше меняешь систему жизни – другой уровень и в райцентре.
А здесь в маленьких городках есть все, чего бы ни придумала цивилизация. Когда у людей в провинции есть все, что есть в столицах, они могутг озаботиться сохранением старины, исторического национального духа, природы, какой она была во все времена. А иначе все силы уходят лишь на поддержание сил физических и уже не до духа, не до его величия. Как там в физи ке? Силы центростремительные, центробежные, гравитацигя, сцепление, трение… – на все уходит энергия.
На что идет энергия свободного времени? Если есть оно, время свободное, для которого потребен комфорт и удобства.
Пеннабилли – полторы тысячи человек!
Опять прибегает Джанни. Входит рабочий, строящий что-то возле дома. Еще кто-то что-то делает в доме с электричеством. Это работник местной школы и тоже «придворный» Тонино. Приезжают его ученики. Приходят соседи. Тонино пишет или рисует. Смотрят на его рисунки, дают советы. А он их спрашивает. Завтра, говорит, поедем смотреть что-то, сделанное его учениками в керамике. Что? У меня уже голова кругом идет…
Пеннабилли. Самое потрясающее мое впечатление от поездок по Италии. "Перке?" – спросил бы Тонино. Он любит спрашивать так. И любит порой сам отвечать на свои вопросы. И действительно – почему? Я был в Венеции, Риме, Флоренции. Но ко всему этому был подготовлен книгами, читал, смотрел фильмы, разглядывал фотографии, атласы, альбомы – совершенно не был подготовлен к тому, с чем встретился в Пеннабилли. Эта странная диспропорция между малыми размерами места, количеством живущих людей и большим размахом, большими желаниями и вожделениями, реализуемыми соответствующими возможностями. Я-то привык к «самому-самому»… Все самое большое: страна, магазин, завод, народ. А жизни, оказывается, больше всего в маленьком. Маленький магазин, маленький заводик, маленький музей… Величие не в силе, а в креативности. А оно реализуется при свободном времени.







