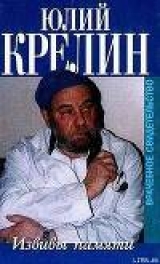
Текст книги "Извивы памяти"
Автор книги: Юлий Крелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Легендарные сестры Суок. Имя это известно нам из «Трех толстяков» Олеши. В жизни эту фамилию носили три сестры. Я их узнал, когда две из них были уже вдовами. Ольга Густавовна – вдова Олеши. Лидия Густавовна – вдова Багрицкого. Серафиму Густавовну я видел лишь пару раз и лишь пару слов мы сказали друг другу. Она была женой Шкловского.
Ольга и Лидия Густавовны жили вместе в Лаврушинском переулке, и я их встречал то у Казакевичей, то у Алигер.
Однажды позвонила мне Люся. Она постоянно бывала у этих двух сестер, и я о ней знал лишь только, что она была невестой погибшего Севы Багрицкого, сына поэта. Еще я знал, что она врач и преподает в медучилище. Собственно, про ее прошлое я и сейчас знаю столь же мало, в силу того, что столько лжи было наворочено о ней в газетных статьях, когда она стала Еленой Георгиевной, женой академика Сахарова… Да и какая нужда в этом была разбираться! Достаточно того, что мы о ней знали и чему были свидетелями при ее активной жизни в содружестве с Андреем Дмитриевичем и после его кончины. Кстати, незадолго до его смерти кто-то мне сказал, что у А.Д. грыжа и будто бы был разговор, чтоб я его оперировал. А вскоре после этого слуха Сахаров умер. И я подумал: если б это случилось после моей операции, каково бы было. Как бы я смотрел людям в глаза. Какими бы глазами смотрели на меня. Запоздалый эгоистический испуг. Из жизни не выкинешь. Думалось.
Вторично я познакомился с Люсей, с Еленой Георгиевной, в ЦДЛ. Мы сидели в ресторане и обедали втроем с Володей Максимовым и Булатом Окуджавой. Мимо проходили Сахаров с женой, искали свободный столик. Володя их подозвал и предложил присоединиться к нам. Что они и сделали. Булат спросил, что занесло их в ЦДЛ. Сахаров ответил: "Я больше не пойду в Дом ученых, где мы хотели сегодня пообедать". Как обычно, говорил он медленно, заикаясь и запинаясь, к чему мы потом привыкли, слушая его выступления на съездах народных депутатов, когда его перебивали, захлопывали – и не могли остановить. Но в тот раз его перебила жена и сама стала рассказывать. Андрей Дмитриевич не возражал.
Они пришли в ресторан Дома ученых и заказали нечто, в том числе и судака. На что им было сказано, что академику судак полагается, а его спутнице, не академику, официант принести не может. Ей не положено. Это хамство сорвало академика со стула и вынесло его из Дома ученых, как он тогда полагал, навсегда. В ЦДЛ это хамство припудривалось флером лицемерия и фальши. Здесь, более или менее, стеснялись откровенного хамства режима. Тех, кому было положено съедать нечто более благородное, чем то, что давалось в общий зал, прикармливали где-то в отдельном помещении.
О-хо-хо! Обхохочешься!
Но я отвлекся.
Так вот, звонит мне Люся и просит зайти посмотреть Ольгу Густавовну. Она сломала руку. Первую помощь ей оказали в Склифе. Далеко не все, кто нынче называет институт Склифом, знают, что и кто под этим звуком таится. Никогда не забуду, как в детстве мы играли во дворе, в закутке, за дверью в квартиру, где жил в те времена мальчик, уже студент, по имени Изя. И место это называлось нами «Заизиковоепарадное». Говорилось: "Побежали за Изиковое парадное". Потом уже стало произноситься вместе, одним словом. Потом сократилось до «заизиковое». Потом была война. Изя ушел на фронт. Семья эта выехала с нашего двора. Выросло новое поколение ребят, никогда не видавших Изю. Но по-прежнему слышался крик: "Айда заизико!" Я спрашивал у ребят незадолго до того, как снесли наш домик в приарбатском лабиринте переулков, что значит «заизико». Они пожимали плечами: "Вон то место так называется". – "А почему?" Молча пожимали плечами.
Опять отвлекся. Ольге Густавовне в Склифе наложили гипс, но рука болит еще больше, и Люся просит забежать, взглянуть и что-то посоветовать.
Пальцы, торчащие из гипсовой повязки, были отечны, что особого беспокойства не вызывало. Я немножко ослабил повязку, подрезал ее по краю и, успокоив сестер и Люсю, уехал домой, наказав вечером померить температуру и позвонить мне, коль не станет лучше.
Позвонили они, уж не помню кто, лишь утром, на работу. Сказали, что постеснялись вечером меня беспокоить.
У Ольги Густавовны вчера вечером поднялась температура.
Боль усилилась. Ночь не спала. Существует правило у нас: если при гнойном процессе нет сна из-за болей – разрезать, вскрывать гнойник. Так называемый "симптом бессонной ночи". Но здесь-то перелом, а не гнойник. Я снял гипс и обнаружил флегмону – тяжелый гнойный процесс, начинавшийся в месте перелома и переходящий теперь на всю кисть.
Либо причиной был некачественный раствор, которым обезболивали, либо просто ошибочно введено какое-то иное средство. Гнойный процесс кисти вещь достаточно опасная, серьезная. Необходима была операция, и специалистами, хорошо владеющими лечением флегмон. У нас в больнице не было гнойного отделения, и я поехал с Ольгой Густавовной в больницу, где такое отделение было, и заведующий которого, старый хирург, много лет занимался подобными несчастьями.
Сравнительно недавно получила Сталинскую премию книга "Очерки гнойной хирургии" В.Ф. Войно-Ясенецкого. Написана она была великолепным старым русским языком, который давно уже не встречался в нашей медицинской литературе. Юдин, который тоже писал отменно, только что выпущен был из тюрьмы, и книги его, хоть и были уже написаны, еще не вышли. "Очерки гнойной хирургии" получили Сталинскую премию, Юдин же получил срок в сталинском лагере. Это был один из изысков игры Сталина с людьми. Скажем, одного Вавилова посадить и уморить, а его брата сделать президентом Академии наук. Автор «Очерков», хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в миру, он же епископ Лука, по всем законам того времени должен был получить свое место в лагере, недалеко от Юдина. Впрочем, хирург, принявший сан до войны, отсидел свое, но был выпущен до большого террора.
Я думаю, что наше увлечение книгой Войно-Ясенецкого было еще и результатом неосознанного противления официальным представителям науки, затурканной лысенковской, якобы мичуринской, биологией, якобы павловской физиологией, квазинаучными идиотствами Лепешинской и Бошьяна, поиском приоритета российских откровений в науке, лечением "сонной терапией" дизентерии и борьбой неизвестно с чем. "Очерки гнойной хирургии" были прочитаны почти всеми студентами.
Начитавшись Войно-Ясенецкого, я повез Ольгу Густавовну к старому врачу, который когда-то был знаком с епископом. Как выяснилось, видал он его лишь однажды, на какой-то конференции, но отблеск этого знакомства украшал старого Михаила Юрьевича.
Я обо всем случившемся рассказал Михаилу Юрьевичу. Я предупредил его, чтоб он не закладывал понапрасну несчастных травматологов, совершивших эту ошибку, так как ни исправить ее, ни доказать их вину невозможно, а семью растревожим и сподвигнем еще, пожалуй, на поиски справедливости, которая принесет кому-то несчастье, а пользы и радости никому.
Я позвонил в Склиф травматологам, сказал им о беде, чтоб они проверили растворы и все, что могло привести к несчастью. Мир не гарантирован от повторения ошибок. Всякое бывает.
Ольгу Густавовну оперировали. Были повреждены сухожилия, омертвела на некотором протяжении кожа. Долго заживала рана. Рука была обезображена, и пользоваться ею с прежней ловкостью она уже не могла… Да, к сожалению, недолго еще ей пришлось ею пользоваться – лет Ольге Густавовне было много.
Прошло лет тридцать после того, и кто-то мне сказал, что единственная из сестер Суок, тогда еще жившая Серафима Густавовна, кому-то говорила, что я бездарный, невежественный костоправ и рвач, а вовсе не "квалифицированный специалист и гуманист", как обо мне отзывался некто, удачно у меня лечившийся.
Ну и хватит об этом.
НА ВЫРОСТ
Дымится трубка на столе, куртка висит на спинке стула… а сумки нет.
"Где Рост?" – "Роста не видали?" – "Кто-нибудь видел Роста?" – только и слышишь в редакции.
"Да где-то здесь. Вон его куртка, трубка…" Трубка уже не дымится, но еще теплая.
Трубка еще теплая, но Рост звонит уже из Тбилиси, где всегда есть о чем написать, что сфотографировать, снять что-то на видео. Или он уже в Киеве, где живет мама, где друзья детства и где тоже есть мгновение, которое хочется остановить на снимке ли, в слове. А то и из Питера, где он учился, приобретя высшее физкультурное образование, в дальнейшем дополнив его образованием филологически-журналистским. А когда пришла новая пора, снявшая запреты на свободное общение с Западом… да и с Востоком… впрочем, как с Югом, так и с Севером, неожиданно можно было услышать его ликующий голос из, скажем, Мюнхена или Найроби, с Аляски или из Непала. Годы идут, а он так же легок на подъем и непредсказуем в своих перемещениях.
Ищут Роста. Думаете, он срочно нужен по работе? Да нет, он работу себе находит сам. Ему не нужны поручения начальства. Его ищут, чтобы поболтать с ним. Общение с ним согревает. Он уходит, и остается надолго тепло, не то что свет, пропадающий вместе с источником его.
Начальство Роста не ищет. Оно привыкло, что сам Рост найдет работу и порадует читателя чем-нибудь необычным. Придуманный им жанр – фотопортреты с очаровательными, изящными эссе, – по-настоящему греет душу. Тепло объекту, которого Рост сфотографировал, тепло и нам, глядящим на портрет, оттого, что еще много людей хороших… И вообще, оказывается, еще много хорошего на земле. И если объект не был его другом до этого, то после уж никогда не остынет от дружеского отношения к Росту. Юра любит всех, кого снимает. Он не снимает тех, кого не любит. Потому и идет теплота и от него непосредственно, и от его работы.
Даже когда он пишет о чем-то грустном, печальном, даже ужасном, мы чувствуем его теплоту и заботу. Никогда не забуду его очерк в "Литературной газете" о поселке ли, городке, а то и просто станции Зима, которую до Роста воспел ее уроженец Евтушенко, о том старом времени, когда мы все были даже не молодыми, но маленькими. Юра увидел и нам показал на примере этого городка тот ужас, в какой погрузилась вся наша держава. Давно мы туда опускались, а нынешние – просто не имеют сил остановить или замедлить это скатывание в бездну.
Рост всегда сам находил себе работу, которая была нужна и по времени и по состоянию умов читателей. Даже если не пришло время напечатать его материал, он лежал в загашнике и ждал своей минуты. Помню, как нам сообщили: завтра из Горького возвращается Сахаров. Когда, в какое время ничего не известно. Лида сообщила об этом Росту. Никто его в редакции в тот день не нашел. С утра он был на вокзале, встречая каждый поезд ожидаемого направления. И он встретил. И записал первые слова Сахарова на московской земле. И первые снимки по приезде тоже сделаны им. И первая помощь, понадобившаяся Сахарову и жене его, была оказана Ростом. И стали они с Сахаровым с того дня друзьми до последних дней его, а с Еленой Боннэр и до сего дня.
Тепло, тепло, когда он рядом… И те, кто любил его когда-то, и тех, кого он любил (в том числе и женщины, к которым он любовно относился и после расставания), всегда в душе, да и в теле, ощущают теплоту общения с ним.
Много у него друзей, как бы ни говорили, что друзей много не бывает, как бы ни говорили, что друг бывает всегда единственный, – просто у Роста много единственных друзей. Спросите у них, у всех единственных. Я вспоминаю фильм Юриного единственного друга Отара Иоселиани "Жил певчий дрозд" – в каком-то смыле это и о Росте, артисте по жизни. Только не гвоздик для кепки напоминает о нем, когда он куда-то исчезает, а теплота общения с ним еще долго греет сподобившегося его участия.
Художник! Художники люди ранимые, а порой при кажущейся открытости совсем закрытые ребята. Замечания художнику о его работе надо делать с предельной деликатностью. Если, конечно, ты не редактор. Когда художник (писатель ли, журналист, артист или живописец – любой художник) близким людям показывает свою работу, замечать нечто неудавшееся надо осторожно. Сделать лучше он уже не сможет – разве что исправить мелочи.
Рост художник ранимый. Никогда я не забуду, какую боль причинил ему, прочтя очерк о его единственном друге, очень хорошем человеке, замечательном хирурге Славе Францеве, ныне покойном. Слава болтанул ему что-то, что звучало весьма эффектно, красиво, но хирурги знают, что такое фантазия в голове или на языке увлекшегося рассказом коллеги. Юра любил Славу – он и подумать не мог проверять слова друга. Он поступал как любящий. И это главное в нашей жизни. Я же поступил бездумно, как холодный человек, стремящийся к объективности: без обиняков высказал Юре все, что думаю о написанном, как профессионал-дурак. Погнался за мелочью, ничего не сказав про главное, про суть. Я никогда не забуду его реакции. Он был не просто ранен – он был подстрелен. Он аж побледнел, потом его кинуло в жар, он подставил голову под холодную воду – он был расстроен до тошноты. В результате плохо было нам обоим. Ему от моей прямоты. Мне от моей неделикатности. Как мы не жалеем друг друга… Да и способствуем разным болезням…
Кстати, о болезнях. Юра и болезни переживает по-ростовски. Поначалу взволнуется, а чуть ему лучше – и уже все забыто, лечение заброшено, впереди лишь жизнь с ее радостями, помощью друзьям.
Спортсмен. Ватерполист в прошлом, он и сейчас порой позволяет себе расслабиться в воде с мячом в руках. Расслабился – получил в глаз. Отслойка сетчатки. Операция. Естественно, доктор Саксонова, что удачно его оперировала, стала его еще одним единственным другом. После операции он какое-то время ходил в очках, заклеенных черным, с вырезанной маленькой щелочкой, чтоб ориентироваться в пространстве. И в таком состоянии взялся перегонять свою машину из дома в мастерскую. Это сравнительно недалеко. Ехал он медленно, осторожно. Разумеется, помешал какой-то машине сзади. Нетерпеливость и недоброжелательность наших сограждан-водителей достойны отдельного описания, но сейчас удержусь. Не о том речь. На ближайшем перекрестке взбешенный ведомый подлетел, матерясь, к Юре. Рост: "Извините, пожалуйста, я слепой". Испуганный такой неожиданностью водитель затих и тоже кротко сказал: «Извините». И пошел к своей машине. Юра располагал к себе сотни людей – ему все верили. Поверил и этот человек. Уж не знаю, разглядел ли тот его заклеенные очки? Поверил? Поверил. Поверил!
Рост вообще как бы сделан на вырост. Как шкура у щенка бульдога. Еще много там под шкурой, еще много места, еще увидим. Надеюсь.
Так что же он? Беспорочен? Так не бывает. Главный недостаток необязательность. Скажет, что придет через пятнадцать минут, и лишь через неделю вдруг позвонит из Астрахани.
Но это так, чтоб ни я, ни он не выглядели бы в глазах читателя уж очень голубыми (не в смысле сексуальной ориентации, а в смысле романтического взгляда на жизнь и друг на друга).
ТОЛПЫ БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА
Помнится, мне тогда Лева Копелев позвонил:
– Юлик, Павлик Литвинов вернулся. Кончился срок.
– Знаю, разумеется. Не вчера же.
– Отсидел свое, но с добавочкой – язву приобрел.
– Тоже мне новость. Лечится?
– О том и речь. Нельзя ли его положить к вам?
В хирургическое отделение просто так с язвой желудка лечь нельзя. Мы чуть схитрили, изобразили на бумаге язвенное кровотечение, и он водрузился на койку в моем отделении, чтоб провести исследования, доказать наличие язвы, а уж потом перевести в терапию для планомерного лечения.
Уж сейчас точно не помню, но вскоре кто-то из диссидентского мира мне вновь позвонил – возвратился, закончив отпущенный режимом срок, Алик Гинзбург, и тоже с язвой.
Язва – порождение не той пищи, не тех нервов и еще чего-то не того, что мы недопонимаем. В стрессовых ситуациях общества увеличивается количество язвенников. Мы, хирурги, можем судить о положении в стране по увеличению прободных язв и кровоточащих, не только в весну или осень, когда эта болезнь законно обостряется, но и летом и в зиму.
Много пришедших из лагерей дали врачам возможность почти подружиться с этим недугом. Когда я был в Израиле, то удивился малому количеству язвенников, и уж совсем редкость у них операции.
Кто же мне позвонил? Хочу вспомнить…. Может, Игорь Хохлушкин, был такой борец с режимом, бывший зэк, попавший на нары в семнадцать лет. Одно время мы с ним были очень близки. Он перенес большое горе в семье и некоторое время жил у меня, приходя к норме после несчастья. В то время мир внутреннего сопротивления готовился к пятидесятилетию Солженицына, и друзья, чтобы занять Игоря чем-то отвлекающим, нагрузили его тиражированием фотографий Исаича. В ванной он устроил фотолабораторию и целыми днями проявлял, печатал, обрезал. Весь дом был завален обрезками фотобумаги. Сейчас я его редко вижу. Лишь иногда в экране телика промелькнет: когда где-то выступает Шафаревич, Игорь обязательно присутствует. Он совсем перестал мне звонить. Может, мое еврейство разделило нас, как и бывший диссидентский мир.
Или позвонила Рая Орлова? Дом Копелевых был как бы центром интеллектуального крыла диссидентства. Они были в некотором роде крестными конфронтирующих, но не в смысле командирства, атаманства над ними, а в смысле домашнего тепла, крыши, но, разумеется, не в сегодняшнем понимании. Дом Левы и Раи дотошно проглядывался гэбэшниками, был постоянно на прицеле. Каждый входящий фиксировался и запоминался, если только гэбэшники хорошо работали. Да только думаю, что коли вся страна, во всех своих ипостасях работала плохо, чего бы вдруг этот орган общего организма не халтурил. Если б они хорошо, честно работали, то, может, и не понадобилось бы диссидентство.
Игорю Копелевы очень помогали – и Лева, и Рая Орлова. Они уехали, их выгнали из страны, а потом там и умерли – не знаю, контактировал ли с ними Игорь последнее время при их приездах. Во всяком случае, когда привезли и хоронили здесь урны с их прахом, оба раза он с женой был.
Я отвлекся, но все по поводу. Прямолинейных бесед не бывает, по крайней мере, они скучны. А нынешние вспо-минательные флуктуации, так сказать, и есть результат того, что я вроде беседую, рассказываю кому-то, кто сидит передо мной, – только я его не вижу. И все отвлечения – ответы на уточняющие вопросы.
Да, может, это Рая Орлова звонила. Может, Леве было неудобно меня обременять таким широким охватом больных диссидентов. Может, они с Раей поделили больных.
Павлик Литвинов был Леве зять, женат на его дочери Майе. Он был внуком известного революционера-большевика, впоследствии наркоминдела, вплоть до самого альянса Сталина с Гитлером, когда еврея терпеть на этом месте уж совсем невмоготу стало. А может, и у Самого появился повод задвинуть еще одного еврея подальше от себя. Сын Максим Максимыча Литвинова, наркома, Михаил Максимыч был отцом Павлика. А потому он говорил, что сначала был сыном Литвинова, а потом стал отцом Литвинова, так и не приобретя в глазах общества самостоятельного значения. Шутка.
У меня были друзья в этом противоборствующем режиму мире, но сам я прямого участия в их деле не принимал, хотя у Левы с Раей был частым гостем, а порой и помогал им своими профессиональными умениями и знаниями. Вообще-то я никогда не любил и боялся революционеров. Так сказать, ментальности их боевой сторонился, опасался их решительности, когда ради благородного дела они пренебрегали спокойствием и душевным комфортом окружающих. Это не значит, что я ратую за конформизм. Просто мне кажется, что решительность душевно легче, чем осторожность и задумчивость. Представляю, сколько мне навешают за эти мещанские слова. Да я и мещан люблю и горюю, что слой сей в России не развился и вечно был жупелом для российского интеллигента. Мещанство это коллективный стабильный разум. А революционные «подвижки» порождают своеобразный безответственный коллективизм – толпу. Это уже не разум, а коллективные эмоции. А эмоции порождение незнания. Страх, например, когда не знают, что делать и что от кого и как произойдет какое-нибудь нечто. Скажем, монтажник-высотник знает, что делать, и делает, а я бы только страху натерпелся. Или, допустим, любовь. Не знаем, отчего она нас застигла на этом месте – потому как, если знаешь, что и почему, тут уж не безотчетная любовь, а расчет. Гнев, ненависть – когда покопаешься в своих чувствах, поймешь – либо не знаешь, почему так сделалось, либо не знаешь, что делать.
Толпы божественная сила и сатанинские последствия. Революция – это не прогресс, а «подвижка» куда-то. Прогресс происходит от Единиц, от индивидуальностей. Действенные люди вынуждены меньше думать, им не до этого – жизнь бежит, несется, и действовать надо с этой же скоростью.
А иные революционеры подставляют ближних – ведь они страдают и рискуют ради лучшей жизни ближнего, а оттого и потерпеть от них можно страстотерпцы же…
И вот лежат они оба у меня в отделении. И того, и другого я раньше не встречал, несмотря на частые гостевания у Левы. Сначала мы не совпадали своими визитами, а потом они были посажены, затем ссылка, и вот только теперь болезнь их со мной свела. На удивление, это оказались два тихих и, пожалуй, нерешительных, сомневающихся интеллигента. Они ни на чем не настаивали, говорили почти неслышно. Разговор – словно шелест, шорох. Где же та, страшившая меня, решительность? И это Павел Литвинов, который вышел в тяжкие дни танкового прохода по городам Чехословакии, на Красную площадь, к Лобному месту, тем самым показывая, что он отчетливо понимает свое ближайшее будущее! Сидит напротив, шелестит словами – вполне интеллигентен, в моем духе, так сказать. Сама нерешительность.
Это Алик Гинзбург, который один раз уже сидел за издание журнала, неприемлющего режим! И снова, выйдя на волю, занялся тем же – стал держателем фонда Солженицына помощи арестованным. Он-то знал, что ему будет за это и что его снова ждет там. Сидит напротив и тоже вполне мирно шуршит своими мягкими, ненаступательными мыслями.
И это же не уголовники, всю жизнь прожившие в воровстве и разбоях и не знающие другой компании, кроме как себе подобных, ничего другого не умеющие, никаких иных интересов, кроме отобрать и погулять. И выйдя на волю, вновь стемящиеся обрести покой в знакомых кондициях тюрьмы или каторги, где все свои. Хотя Феликс Светов, тоже посидевший свое, говорил мне, что в тюрьме уголовники отнеслись к нему весьма благосклонно, несмотря на явно еврейскую внешность, как только узнали причину посадки – неприятие коммуняк… Ну всем режим поперек горла был!
Они – Павлик и Алик – заходили ко мне в кабинет, и мы тихо разговаривали, чаще вовсе не на политические темы. Они деликатно не злоупотребляли частыми визитами, боясь как-нибудь меня подвести. Да уж что мне можно было еще прибавить, когда я лечил Солженицына, опекал в тяжелые дни Максимова, дружил с уехавшим Коржавиным, хотя сам, повторю, ни в каких революционных деяниях не грешен.
Однажды они зашли ко мне вдвоем:
– Наша подруга Ира Якир страдает псориазом и тоже язвой. Чтоб вылечить ее чудовищный ныне псориаз, необходимо сначала утишить язву. Нельзя ли её тоже положить сюда?
Ира Якир!
Внучка известного военачальника из мозгового центра Тухачевского и вместе с ним расстрелянного. Дочь известного уже в наше время диссидента Петра Якира. Жена всеми любимого Юлика Кима, имя которого в то время не допускалось ни на страницы, ни на экраны. С ним я познакомился на проводах еще одного «выдворенного», ныне покойного Толи Якобсона.
Дед расстрелян, отец с детства сидел в лагерях, жил в ссылках, где и познакомился с Ириной матерью. Ира и родилась-то в ссылке… или даже в лагере. Когда наступила эпоха реабилитации, им все равно приходилось быть полуизгоями. С молодых лет Ира постоянно болела, несколько раз оперирована была, в том числе и мной в последние годы, два раза, по разным поводам. И тем не менее закончила институт. Осталась незлобивой, постоянно приветливой, улыбчивой, с открытой душой для всех страдающих и несчастных. И не обязательно это были социальные несчастья – любое страдание, любое горе, болезнь, отсутствие денег…
В жизни она себя ограничила рамками вины и благодарности. Ограничила? Так гены в ней устаканились – может, именно поэтому и возникли границы ее существования.
Подпольные выпуски "Хроники текущих событий", процессы над инакомыслящими. Проводы, демонстрации. Сбор средств для всего, что режиму противопоставлено. Всего я и не знал, да и сейчас не все знаю.
Как я ее себе представлял до знакомства? Я исходил из своих застывших формул. Я всегда считал, что самое опасное и неправильное – обобщения. Опасно обобщать. А сам!.. ("Рабы застывших форм осмыслить жизнь хотят, / Их споры мертвечиной и плесенью разят…")
Ира одна из лучших женщин, что встречались мне. В ней поразительно были сбалансированы сдержанность и раскованность, аристократизм и демократизм, правдивость и скрытность, деликатность и откровенность, честность и лукавство… Как можно ходить так по краю… по краю всего. И это не воспитание, если вспомнить, как она росла. Это от Бога, так распорядилась Природа. К тому же она была еще и красива… Все при ней, кроме здоровья. Всегда болела, однако не озлобилась, не строила из себя несчастную, оставалась открытой для помощи другим страдальцам. Почему-то хватало ей времени, сил и души.
Диссидентка, революционерка? Да просто чуткая к чужим горестям, разумная, нежная, красивая душа.
– Нельзя ли ее тоже положить сюда подлечить?
А в это время велось следствие над Петей Якиром и Красиным. Готовился процесс.
– Ребята! Три члена – это уже ячейка. Не забывайте историю нашей партии, не к ночи будь помянута. Я же никогда больше не смогу никого положить из ваших. Я же не сумею и дальше помогать. Давайте я ее лучше уложу к каким-нибудь своим друзьям, в другой больнице.
– Да нет, нельзя так нельзя. Просто, если б всем вместе, так было легче и приятнее. А три человека – и впрямь ячейка.
Мы посмеялись и стали вспоминать нечто из детской софистики. "А три человека – толпа?" Один человек – не толпа. Два – тоже, просто пара беседующих. А вот три – партия, опять же не к ночи будь помянута, считала это ячейкой. Три человека – это уже, наверное, толпа.
Какие хорошие они все люди, а я так боялся толпы.
Толпа – это еще и: "третьим будешь?" От них толпа.
Но Ира и толпа! Бред.
Толпа всегда склонна искать справедливость. А справедливость идеальная, абсолютная, ставшая нормой, – лишь мечта, мираж перед глазами несчастных. Толпа всегда состоит из недовольных, даже когда приветствует и одобряет. Толпа, когда ей плохо, требует навести порядок. И демагоги, потворствуя толпе, стараются навести этот порядок, но от неумения, да и от недоумия, от страха за себя, а то и от корыстной подлости, прибегают к запретам, ограничениям, угрозам.
Чтобы навести порядок на дорогах, надо, чтобы дороги были хорошие, чтобы светофоры работали, чтобы полиции хорошо платили… Тогда и вежливости, доброжелательства прибавится, и штрафы будут справедливые, и конфликтов будет меньше, ибо нарушитель будет точно знать, что он нарушил, а не грубо или денежно добиваться справедливости. А вот Ира, встречаясь даже с каким-то частным беспорядком, не норовила конфликтом устранить несправедливость, а просто старалась помочь попавшему в ситуацию "наведения порядка".
Жаль, что я с ней не был тогда знаком. Может, и не был бы столь категоричен? Меньше было бы проколов?
Да нет, наверное, толпа все равно бы увлекла судить, отметки ставить, клеить ярлыки…
Проколы, проколы, проколы… Толпе бы сказать: "Не суди, да не судима будешь". Так ведь уже было сказано.
Чего же я?!







