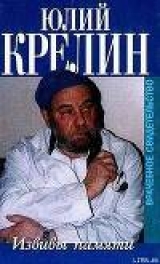
Текст книги "Извивы памяти"
Автор книги: Юлий Крелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Мы с Юрой Карякиным сидели на диванчике у стола, прихлебывая кофе, перемежая каждый глоток затяжечкой сигареты. Эмка Коржавин мерил комнату неуклюжими быстрыми шажками.
Коржавина мы никогда не звали, скажем, Эммой, или его настоящим именем Наумом, о котором я, кстати, узнал далеко не сразу. Сначала у меня, да и у всех, на слуху был Эмка Мандель, который имел большой успех в окололитературных домах послевоенного времени, читая свои стихи, бывшие странным сочетанием коммунистического восприятия мира с одновременным отвержением происходящего в стране. Он всегда был какой-то антисоветский сталинист.
1945: "Мы родились в большой стране, в России!/ Как механизм, губами шевеля,/ Нам толковали мысли неплохие/ Не верившие в них учителя (…) Мы родились в большой стране, в России,/ В запутанной, но правильной стране./ И знали, разобраться не умея/ И путаясь во множестве вещей, / Что все пути вперед лишь только с нею,/ А без нее их нету вообще". И в том же году, про Сталина: "Встал воплотивший трезвый век/ Суровый жесткий человек, / Не понимавший Пастернака".
1953: "Моя страна!/ Неужто бестолково/ Ушла, пропала вся твоя борьба?/ В тяжелом, мутном взгляде Маленкова/ Неужто нынче / вся твоя судьба?"
Ему приписывали строки: "Народ врагом народа стал". Апокриф гласил, будто бы он, удивившись этим родившимся в нем строкам, пошел советоваться насчет них в свой партком, и будто бы консультация с партийными отцами и братьями через несколько дней привела его на Лубянку. Не знаю, не спрашивал у Эмки…
Вернусь к тому, с чего начал: как мы с Карякой пили кофе и курили, а Эмка семенил по комнате. Мы – да и не мы одни – в те дни были возбуждены. Только мы с Юрой, выпив немного «кренделевки» и закусив кофе, молча дымили, а некурящий Эмка проявлял свое возбуждение беготней на вынужденно малые дистанции. «Кренделевка» – это водка с парой острых среднеазиатских стручков перца, который я привез из Душанбе; а еще была «коржавинка», в которой водка «облагораживалась» обычным перцем, укропом и чесноком. Поскольку чеснок я на дух не переносил, такого ингредиента в моих рецептах быть не могло. Значит, бегал Эмка по комнате и при этом держал руки перед собой на уровне лица, шумно потирая ладошками и при этом издавая странные, какие-то чмокающие звуки.
Внезапно Эмка остановился около стола, склонился над газетой и, ткнув пальцем в фотографию на первой полосе, всхлипнул: "Чтоб ты сдох! И ты! И ты! Нет… – вдруг сменил он свой гнев на милость. – Ты не надо… Еще посмотрим".
Мы с Карякой рассмеялись. Юрка напомнил: "Кровь зазря – не для любви…" Эмка: "Да при чем тут любовь! Они – и любовь!" На фотографии в открытой машине стояли Брежнев, Косыгин и президент Чехословакии генерал Свобода. Понятно, что дело было в 68-м. Хоть и смеялись мы, но, как теперь говорится, было "за державу обидно". Причем перед вполне конкретными людьми: Юра работал в Праге в журнале, и у него было там достаточно приятелей, у меня были там переводчики, которых я тогда еще не знал лично, но все равно чувствовал некую душевную связь с ними. У Эмки тоже были там знакомые.
Наша вина! – как ни крути…
Эмкина реакция хоть была и смешна, но абсолютно понятна.
Вообще-то мы привыкли к подобным Эмкиным реакциям.
Вспоминаю другой эпизод – имевший место десятью годами раньше. Дни безумных сатурналий властей предержащих всех отраслей советского бытия по поводу пастернаковской Нобелевской премии. Мы собрались, уж и не помню, где и у кого. Кто бушевал, кто горевал, кто стыдился, так сказать, не выходя за пределы кухни. Эмка тогда так же проделывал свои экзерсисы негативного возбуждения, бегая по комнате, по кухне, по коридорчику. Наконец, он забежал в совмещенный туалет. Вскоре оттуда послышался его возмущенный голос. Точнее, возмущенное бормотание. Наша официальная архитектура много лет, видимо, считала высшим пилотажем, во всяком случае, признавала нормальным соседство туалетных комнат с кухней. Порой еще и окно зачем-то прорубали между кухней и туалетом. Соседство кухни с санузлом позволило нам, не отходя от питейного стола, слышать практически все звуки за неприступной дверью. И мы услышали: "Так для вас Пастернак, значит, свинья, товарищ Семичастный? Этого-то уж я вам не прощу никогда!.." Он там и еще с чем-то разбирался, но мы уже не слушали – все ясно.
Порядочность должна сохраняться или рождаться где-то между чувством вины и чувством благодарности. Но все это существует исключительно в личном плане, потому и виноватыми себя чувствовали мы не перед Социалистической Чехословакией, а перед ее жителями.
В начале сентября шестьдесят восьмого года, сразу после танковой акции в Праге, я со студентами был отправлен в колхоз на картошку. В автобусе студенты (не все, правда) шумели о правомерности ввода наших войск. "Еще бы час, – говорили они, – и туда бы вошли немецкие войска". Бред, не удержавшись, говорю им, у немцев сейчас и армии такой нет. Да и зачем им это? Не слышат. "Мы их освобождали, а они нож нам в спину…" – "Ребята! Какой нож?! И не освобождали мы их, а воевали за себя, догоняли своего врага всюду, где он был…" Не слышат.
Гоголь говорил, что Пушкин – предтеча тех прекрасных людей, что народятся у нас через двести лет. Двести лет прошло… Белинский завидовал внукам и правнукам, которым повезет жить через сто лет. А уж если вспомнить слова Бенкендорфа, который считал, что настоящее у современной ему страны хорошее, а будущее и вовсе прекрасное… Не чувствовал Бенкендорф своей вины, не знал и Белинский, за что благодарить провидение.
Эмка всю жизнь изживал вину перед самим собой за ту людоедскую идеологию, что охватила страну. Благодарил Бога, Провидение, судьбу за то, что начал с течением времени что-то понимать. А может, надо благодарить Бога за тот арест, ссылку?..
Ах, Эмка! Такой добрый, подслеповатый, толстый, бурный. Вид, или, как бы сейчас сказали, имидж, совсем не поэтический. Не соответствующий романтическим представлениям. Он шумно пил водку, так же шумно пил чай. Так же шумно и в лагерь загремел. Шумно стихи писал. Все так было у нас, здесь. И вдруг – уехал! А как там, у них, сейчас – не знаю…
Мы с Карякиным сидели в ресторане ЦДЛ и мирно выпивали. В дверях зала появился Эмка. В одной руке портфель зачем-то. Другой рукой – большим пальцем придерживая очки, высматривал, выискивал кого-то в зале. Мы сидели в дальнем от двери углу. Увидев нас, он вскричал на весь зал: "Каряка, сука! Бублик, сука!" Моя фамилия от рождения Крейндлин, псевдоним, ставший фамилией, – Крелин, кликуха, так сказать, – Крендель. Эмка звал меня Бубликом. И устремился, переваливаясь, задевая по пути столы и стулья, к нашему месту. Так и стоит перед глазами эта картина, в ушах крик: "Бублик, сука!"
Да уж ладно! Просто жалко, что он уехал, что его сейчас нет с нами, хоть и часто приезжает, и продолжает болеть нашими болезнями. Только воздухом дышит не нашим.
1972: "Шум в Лувене, в Сорбонне восстанье./ Кто шумит? Интеллекты одни!/ Как любовник минуты свиданья,/ Революции жаждут они./ А У нас эта в прошлом потеха./ Время каяться, драпать и клясть./ Только я не хотел бы уехать / Пусть к ним едет Советская власть".
Судьба сыграла жестокую шутку – Эмка уехал, а советская власть сгинула.
На фотографии, что прислал он мне через пару лет из эмиграции, я вижу Эмку с флажками разных держав. На обороте читаю: "В память тех стран, где я побывал, вместо той одной, где я хотел бы быть". Мы еще тогда и не чаяли, что наступит время, когда он сможет приехать… Ан наступило Но все-таки до чего поздно ушла Советская власть – сильно мы стары для переездов. Как сказал Игорь Губерман, опоздала свобода на целую нашу жизнь.
Эмка боится повторения прежних ошибок и предупреждает: "Мы спать хотим… И никуда не деться нам/ От жажды сна и жажды всех судить. / Ах, декабристы! Не будите Герцена! / Нельзя в России никого будить!" – это 1972 год, но и тридцать лет спустя звучит актуально…
Спасибо что, хоть и поздно, что несмотря на все наши вины, забрезжил свет… Только кому этот свет спать не дает… не даст?
СОЛДАТ ПАРТИИ
Вечно я в шорах разрешений и запретов. Наверное, так и должно быть. То есть иначе не бывает, ибо мы живем в обществе, которое существует лишь благодаря всем принятым правилам правилам игры. Но правила должны существовать сами по себе а не в зависимости от личностей. Давно сказано: Суббота для человека, а не чкловек для Субботы. И еще сказано – Богу Богово, а кесарю – кесарево. А мы у себя столь долго продолжали находиться в рамках разрешений и правил вне закона, что никак не отвыкнем от этой казуистики…
Вспоминаю, сколь много зависело в Союзе писателей от разрешения Ильина Виктора Николаевича.
Долгое время, гужуясь в ресторане нашего клуба, наблюдал я издали его летящий проход из парткома в свою епархию на втором этаже. Иногда он останавливался, увидев кого-то за столом. Я никогда не замечал его выпивающим в обществе даже своих, начальствующих писателей. Я не наблюдал его и на законном месте в президиумах собраний, ибо на этих толковищах практически никогда не бывал. Но часто слышал рассказы про то, как он кому-то что-то разрешил или, наоборот, запретил. К нему ходили с просьбами: помочь с квартирой, машиной, изданием, разрешить командировку. Должность его называлась «оргсекретарь». И он организовывал всех и вся. И он вершил. И помогал даже. Он помогал, например, и таким, как Максимов, Коржавин, и менее одиозным персонажам. Но это лишь до той поры, пока не было команды убивать. Бить или не бить? Такого вопроса для него не было, если был дан приказ…
Того же Максимова он исключал из Союза, уничтожал, а возможно, и помогал выслать, или, другими словами, разрешить отъезд "за бугор". Трудно сейчас окончательно решить, что это было: разрешение на выезд или изгнание. Что Максимов не хотел уезжать – это факт. Что он боялся остаться – тоже факт непреложный.
Спасал и изгонял. Помню, как Эмка Коржавин прибежал ко мне с криком, которому я не могу найти прилагательного. "Я уезжаю! Считай, что ты разговариваешь с гражданином Штатов!" Он прибежал ко мне прямо с Лубянки, транзитом закатившись к Ильину.
В КГБ его вызвали и стали выспрашивать, что он читал из самиздата. Он стал истерически кричать, что сам знает, что ему читать или не читать… Его молча выслушали и отпустили… вернее, выпустили. Прямо из Госужаса он кинулся в Союз писателей, к Ильину, и написал заявление о выходе из Союза в связи с желанием уехать на "историческую родину". Зачем ему надо было писать такое заявление? Зачем бежать к Ильину? И еще тысячи «зачем»… Ильин лишь усмехнулся, положил заявление в стол и сказал, что правление разберется. В чем разберется? Какую-то бумагу они должны были Коржавину дать. Сейчас не помню, какую. Может, характеристику. Ведь если некто советский выходил замуж или женился на зарубежной персоне, то ему давали характеристику. Вот и Эмке должны были выдать какую-то бумагу. "Эмка, а при чем тут США?" – "Я поеду туда". Назавтра он снова побежал к Ильину, решив изменить мотивировку отъезда. "Виктор Николаевич, отдайте мне вчерашнее заявление. Вот вам другое". Ильин взял новую бумагу и тоже положил в стол. "Оба будут у меня. Это уже факт исторический". Что бы это значило, что он этим хотел сказать? Но, пряча бумагу в стол, опять усмехнулся. Чему?
Дворянин. В двадцатые годы красный кавалерист. Дворяне все с детства умели ездить верхом. По крайней мере, я так вычитал в нашей классике. Потом работал где-то на кинопроизводстве. Потом в НКВД. Толком не знаю, но вроде бы с разведкой был связан. Дослужился в органах до генерала. Натурально, был посажен и отсидел восемь лет без суда и даже без «тройки», а так, по-свойски, кажется, даже в одиночке. Должен был дать показания на своего друга, тоже из НКВД, и не дал. Такая вот дурацкая большевистская дворянская честь. Ведь по законам дворянской чести и Пушкин на вопрос Первого Дворянина, Николая I, не мог не ответить, где был бы 14 декабря. Друзей предавать стыдно. Не знаю, как там отвечал чекист чекисту, может, не Первый Чекист его допрашивал, но Ильин просидел в камере, как чекист в среде чекистов, восемь лет, пока Coco не помре.
Потом, когда Виктор Николаевич пришел в себя, ему поручили опекать писателей. И стал он оргсекретарем Московского отделения Союза писателей. Все другие оргсекретари быстро становились полноправными творческими деятелями, написав или подписав какую-нибудь статейку. Ильин этого не сделал, что-то писал сам, без помощников. Говорят, он был бессребреник и от писателей брал лишь книги с автографами. Нет, впрочем, были и поборы: он просил дарить ему фотографические портретики писательских детей. Он любил детские фотографии.
По своему статусу он имел право лечиться в «Кремлевке», но этим никогда не пользовался; а мне он как-то сказал, что предпочитает "свою поликлинику". – "У Толи Бурштейна?" – наивно спросил я. "Нет, у себя, в системе ГБ".
Рассказывал мне Карелин, как обсуждали они на правлении, во главе с Ильиным, почему Солженицын на похоронах Твардовского подошел здороваться со мной, оставив на минуту вдову покойного. Но личной встречи все не было. Я у них ничего не просил и не был такой фигурой, чтобы меня вызывали на секретарско-писательский ковер.
Но вот и наше с Ильиным знакомство. Стоял я в переходе между основным залом ресторана и залом, так сказать, кофейным, где пили, когда денег на обед не хватало. Помню, что были мы уже поддаты, хоть и не Бог весть как, а вот кто – не помню. Но не всегдашние мои спутники Смилга и Эйдельман. Точно. Был со мной кто-то, кого он, Ильин, за людей считал. А мы со Смилгой и Тоником еще не люди были. Он проходил мимо своим обычным быстрым, эдаким кавалерийским аллюром и вдруг остановился, вернулся, встал передо мной, двумя руками взял меня за плечи, встряхнул, пристально при этом глядел на меня, а потом отпустил, отступил и, изменив выражение глаз, сказал: "Вот он… Богатырь наш! Обедаете?" – ну и пошел дальше тем же, не больно степенным для боярина, шагом. "Небось, обсуждали тебя!" – сказал кто-то из стоявших со мной. И мы пошли допивать.
И все. Потом его сняли. Пришел к власти в Московском отделении Феликс Кузнецов, бывший либерал, недодиссидент, полуподписант. Ильин мне говорил: "С ним работать я не стал. Он корыстный и непорядочный человек".
Но впереди было у нас с Ильиным гораздо более близкое знакомство. Уже снятый, вроде бы и опальный, но на все мероприятия приглашаемый, дающий советы властям предержащим на писательском Олимпе, звонит он мне вдруг домой с просьбой посмотреть жену, у которой приступ холецистита. Как всегда у нас: от должности отстранен – и в тот же день исчезли машина и черт его знает, какие льготы и привилегии еще им полагаются, но исчезают враз и вмиг. И собирается Виктор Николаевич везти ко мне больную Любовь Борисовну на троллейбусе. И у меня тоже враз и вмиг исчезла неприязнь к нему. Я сразу вочеловечился – сел в машину и поехал к нему сам.
В этой связи – такое вспомнилось. Как-то в шестидесятые годы шел я в Ленинку, в прошлом Румянцевский музей, по переулочку имени Маркса-Энгельса, в девичестве Староваганьковский. Уж не знаю, как будет сей переулок называться в следующем законном браке. Во вдовстве-то, когда рухнет Дом Пашкова, наверное, опять Ваганьковский холм. Не в этом суть воспоминания. Навстречу мне – пенсионер с пенсионеркой, два маленьких человечка. Почти карлики. А на трибуне, в кино, рядом со Сталиным, он – Молотов – казался гигантом… И первое шевеление эмоций – жалость и даже некая теплота в груди. Я даже хочу с Молотовым и его женой поздороваться. Они подходят ближе. Я не чувствую опалы в этой хозяйской походке. Ближе – и вижу лицо. Тонкие красные губы, узкий рот. Жесткий взгляд, мимоходом скользнувший по мне. Нет, нет – и не подумал поздороваться. Волна неприязни нахлынула на меня, и я ускорил свой шаг в библиотеку – диссертацию писать.
Опальный опальному рознь. От кого отвернешься, кому руки не подашь, кого пожалеешь. А кому и все подлости простишь. Ладно, скажешь, быльем поросло. Трудно учиться прощать. Но надо. Помнить надо и о своих грехах.
Ну да ладно, опального Ильина я никак не оценивал, не думал, как относиться к нему, думал о его жене – она болела.
Вот я, по существу, наконец, и познакомился с ним. Мне от него ничего не надо, он никак не должен опекать меня. Мы вроде бы на равных. Я даже главнее, ибо впереди операция. Мы вполне мирно беседовали, попивая чаек. Он рассказывал, как работал на легендарной «Кинофабрике». Говорил, что он солдат партии, жил, творя ее волю, ну и так далее. А я знаю, что через день-другой, а может завтра, Любовь Борисовну придется мне оперировать. В комнате полки, полки, полки, на них книги, книги, книги. "Все подаренные писателями. Только сейчас что-то не больно звонят они мне. Хотя порядочные люди звонят, поздравляют с праздниками". И называет имена, что не в фаворе были у руководителей творческих дел.
А перед книгами, на полках, за стеклом, – детские фотографии – великое множество. После операции встала там и фотография моего Рыжего. Попросил. И книжка моя тоже там встала. "Дочка учится в медицинском – ей это будет полезно, а мне приятно". Попросил.
Операция прошла благополучно. Он очень трогательно ухаживал за женой. Однажды встречаю его в коридоре отделения. Он что-то ищет. "Что, Виктор Николаевич?" – "Да щетку бы или веничек – подмести в палате хочу".
После выздоровления Любови Борисовны я звонил ему в праздники поздравлял. Иногда он меня опережал.
Как-то позвонил с просьбой съездить с ним к больному товарищу его: "Настоящий чекист". Поехал я – ведь больной. Какое мне дело, чем занимался прежде человек. Пусть этим занимаются комиссии по дебольшевизации.
Умер генерал Ильин, попав под машину, выйдя из дома в магазин за хлебом. В Москве меня тогда не было. Говорят, похороны были малолюдны.
Что ж, естественно.
ДУБУЛТЫ
Обычно в отпуск я уезжал в Юрмалу или, точнее, в Дубулты и писал там в свое удовольствие. Двадцать лет я туда ездил каждый год. Зимой, когда светский вихрь писательской среды вился в Москве, туда, в это негульливое время, приезжали лишь те, кто хотел уединения для работы. Но – дружеского, несиротливого уединения: чтобы было с кем языки почесать, а порой и мысль отточить, если таковая вдруг родилась.
Выходишь, эдак, после завтрака в холл, или зал прибытия, где оформляют отдыхающие свой торжественный приезд, или фойе, где топчутся перед кино. Аборигены место это любили называть "зимним садом", что тоже в какой-то мере соответствовало истине… Утречком я, уже часа два поработав, а теперь и позавтракав, садился в кресло со спокойной совестью и с трубкой в зубах. И бегут мои друзья, наскоро поев, к своим столам с крайне деловым видом работать, работать! И, как все нормальные люди, естественно, радуются в глубине души (очень в глубине) любой проволочке, любой причине задержаться, как собачки готовы притормозить у любого столбика. И я, провокатор, по-иезуитски цепляю их, приглашаю присесть, и каждый соглашается выкурить сигаретку перед работой. "Только одну! Только на пять минут!" И так минут сорок интеллектуальной разминки проходят в приятной, радостной, пустой болтовне, при которой нет-нет да и узнаешь что-нибудь удивительное. Люди-то все штучные.
Легко цеплялись за меня Булат, Лева Устинов, Меттер… да много желающих передохнуть, даже не начиная еще сегодняшний урок. Наиболее стойкий, Стасик Рассадин, заходил ко мне часов в двенадцать, минуток на пятнадцать, пропустить с товарищем по рюмочке под предлогом померить давление. Не лучшее время для меня – самая работа. Но "мне отмщение…" расплата за утренние провокации!
Хорошо было! Да и сильно моложе мы были тогда.
Любил я поговорить о том, что пишу, с Левой Устиновым. Собственно, больше я ни с кем и не говорил про свое бумагомарание. Комплекс идиота. Леве, сказочнику, расскажешь, а он думает совсем не так, как я. Его детско-дурацкая фантазия всегда как-то нелепо уходила далеко-далеко в сторону от моей скучно-педантичной реальности. Я ему расскажу, что смог написать, и гипотетически предположу продолжение. В ответ он вдохновляется, будто я действительно знаю, как разгуляется жизнь в будущем, словно оно зависит от моей воли. И начинал он со мной спорить, предлагая развитие сюжета в некоем абсолютно диком для меня направлении. Тем не менее, в знак протеста, начинает работать моя голова, переваривая ирреальные дурачества для неполовозрелых, и в свою очередь рождать нечто, устраивающее мою самодовольную, вполне зрелую дурость.
Я его люблю, Леву, и очень огорчаюсь, когда в его сказках зрители-читатели не видят того, что, благодаря моему о нем знанию, ответно рождается в моей душе. По-моему, иные высоколобые относятся к нему снобистски, свысока из-за его бытовой, я бы сказал, суетности. Ведь не скажешь по его мелочным заботам о пустяках, что он все четыре года войны не покидал фронта. Нынче, глядя на него, не увидят в нем кавалера медали "За отвагу" – весьма уважаемую фронтовиками солдатскую награду. И никто из сегодняшних чистоплюев не увидит его празднующим встречу с американцами где-то под Прагой и, по пьянке, купившим у союзников «виллис» с новой противотанковой пушкой, поскольку у тех не хватило денег на продолжение гуляния. Гусар! Денис Давыдов! А мне обидно. Пройдет время и, мне кажется, все встанет на свои места, и Левины сказки займут не последние позиции на театральных афишах, если будет жив театр и на мир будет влиять.
Однажды встретил я Леву в ЦДЛ. Он был упоен своим, каким-то неведомым мне, очередным успехом. Оказывается, он получил письмо из Австрии. Там прошли на театре его сказочки, и переводчик прислал ему хвалебные рецензии из разных местных газет. Лева, пыжась и посмеиваясь над своей радостью, показал мне вырезки и сказал, что понесет их в ВААП. "И тогда, – засмеялся он, – я взамен этих вырезок принесу в клюве домой настоящие вырезки, мясные!"
Я бегло пролистал рецензии и, несмотря на весьма ублюдочное знание чужого языка, разглядел, что Леву сравнивают с Оруэллом. Я спросил, знает ли он, о чем идет речь. Но, оказалось, Оруэлла гражданин Устинов не читал и никогда о нем ничего не слыхал. И хотел после этого заграничные вырезки отнести в ВААП! Так сказать, в филиал идеологического отдела ЦК ГБ. Ну, ну! Sancta simplicitas! – как сказал в сходный момент Ян Гус. И за это я люблю Леву тоже. Сказочник!
А впервые меня привез в Дубулты покойный Володя Максимов. Я писал тогда «Хирурга», он – «Карантин». Были там и другие приятные моей душе люди, тоже приехавшие работать подальше от столичной суеты, а не гулять. Летом было бы все наоборот. Летом – это место светского ветра в сердце и голове.
В тот первый мой приезд все свободное время я проводил с Володей. Он был в постоянном напряжении – лихорадочно дописывал свой роман, беспрестанно оглядываясь невесть на что и на кого. К концу нашего пребывания по телефону от Булата Окуджавы он узнал, что в Мюнхене, в «тамиздате», вышла его книга "Семь дней творения". Володя задергался, ожидая, не без основания, что теперь его посадят. Каждую написанную страницу он приносил ко мне в комнату, чтобы при обыске у него ничего не нашли. Наивно, конечно. Много было наивного в нашей, так сказать, литературно-художественной конспирации. Некоторое время у меня хранились пленки запрещенного, положенного на полку фильма «Комиссар». Если б начались поиски всего, что мы прятали, добрались бы и до меня.
Конец романа Володя скомкал, торопясь обогнать КГБ. Помню, как около полудня принес он мне последнюю страницу, где было написано животворное слово «конец», – и через два часа вошел в запой.
Часто мы съезжались в Дубулты перед Новым годом. Недельная разминка перед многочасовыми бдениями за столом. Уж не помню сейчас, какой это был год – что-нибудь семьдесят пятый – семьдесят седьмой. Дня за два до праздника заболел я тяжелой ангиной с высокой температурой. Лежал у себя в комнате, и товарищи захаживали ко мне с визитами сочувствия. Я жил в сорок третьем номере, а рядом, в сорок пятом, жил Юлик Эдлис, который всякий раз, идучи в столовую, заходил к начальнице на кухне и напоминал: не забудьте занести поесть в сорок третий номер. 31 декабря приехало много народу. Знакомые беспрерывно забегали, поздравляли, глотали по рюмочке в знак солидарности и наступления Нового года.
Наконец все угомонились в столовой за общим праздничным столом. А я лежу, горюю, что не с ними, пью только воду и читаю какую-то книгу. Я понимал, что спать не дадут – сейчас подопьют и опять начнут приходить с поздравлениями. И не дали, и приходили, и поздравляли. Часа в четыре наступил второй тур угомона – кто пошел спать, благо ехать никуда не надо, кто маленькими отдельными компаниями собрался у кого-то в номере; а кто, может, и отдался гривуазным фривольностям. Вроде бы стало тихо. Вдруг телефонный звонок: "Юлик?" – «Я». – "Что вы делаете?" – «Читаю». Женский голос игриво: "А что вы делали двадцать минут назад?" Я приосанился несмотря на температуру и ангину, все же для кого-то представляю интерес. И я тоже игриво: «Читал». Игривость крещендо: "Чи-ита-али?.. – и вдруг совсем иным тоном: – Это Юлик?" – «Юлик». – "Сорок третий?" – "Сорок третий". «Извините»… Ту-ту-ту. Раздумали, подумал я.
Минут через пять снова звонок: "Юлик?" – «Я». – "Сорок третий?" "Сорок третий". Несколько неуверенно: "Что вы делаете?" – «Читаю». – "Сорок третий?" – "Сорок третий". – «Извините». Больше звонков не было. И когда с меня немножко осыпалась пыль самодовольства, я понял, что кто-то перепутал меня с соседом Юликом Эдлисом. И действительно, утром пришел огорченный мой сосед и сказал, что договорился с одной дамой, выпив за столом, о ее визите к нему, а она обманула, и он напрасно прождал до утра. Я повинился за несообразительность, сославшись на тяжкое недомогание. А мой тезка, схватившись за голову:
"Господи! Это же я, идиот, назвал твой номер, машинально, целыми днями повторяя его официанткам!"
Не страшно. Наверстал. Но сколько лет мы еще вспоминали этот казус. Вот и сейчас он мне вспомнился.
Почти каждое мое «несезонное» пребывание в Дубултах совпадало с пребыванием там Гриши Поженяна. Небольшого росточка, круглый, твердый сгусток мышц. Это как мой пес Гаврила, про которого тоже в первый момент думают, что он у меня толстый, а на самом деле бульдог-крепышок.
Самые счастливые Гришины воспоминания – либо победа над кем-то, кому он дал в морду, или под угрозой этой акции кто-то его испугался, либо, чаще всего, наиболее сладостное из прошлого, документально зафиксированная его гибель в дни обороны Одессы, при спасении ее от жажды во время осады. Мемориальная доска с именами погибших защитников отмечает и Поженяна. А он жив! И при каждом удобном случае Гриша всем об этом рассказывает, а то и показывает – встретившись на месте, либо в кино по его сценарию, либо еще как-нибудь на экране.
Бог с ним, каков он есть. Я просто вспоминаю курьезы того места и того времени.
Гриша любил… даже не выпить, а показать, какой он раблезианский гуляка. Он был связан с моряками-рыбаками Балтики, поскольку считался представителем флота, опять же благодаря своему военно-морскому прошлому. Все в то время было дефицитом, а Гриша привозил разного рода морскую снедь, и мы устраивали рыбно-водочные пиры. Я не знаю, как он там работал в нашем Доме творчества, но гулял много, гостей принимал много, как местных, так и приезжих. От него я узнал и о современном нам, восставшем "Броненосце Потемкине", пытавшемся уйти в Швецию, о котором остальной мир еще не скоро прослышал. Связь с морем!
Однажды, приехав в Дубулты, уже на пороге я встретился с Гришей. Рядом со мной была одна из представительниц окололитературного мира, с которой мы встретились на вокзале в Риге и приехали в Юрмалу в одном такси. Гриша раскрыл объятья, сжал меня своими тисками и выдохнул в ухо: "Только не она". – "А что?" – и я взглянул на случайную спутницу уже с интересом. "У тебя не останется времени на меня, а я нынче плохо себя чувствую". Гриша засмеялся и пошел на улицу. Я понял, что в голове у него уже возник рассказ обо мне и моей спутнице.
Как-то Гриша плохо себя почувствовал. Ему сделали электрокардиограмму, каждые два часа прибегала дежурная сестра и мерила ему давление. Врач Дома творчества привез из Риги консультанта. Вообще-то многие здоровячки, встретившись с каким-то подобием болезни, впадают в некий трепетный страх. Но, чуть оклемаются, тут же отряхнутся – и снова шпага в руке.
Так и Гриша – заболел, занемог, залег, зализывает мифические раны. Я заходил к нему каждый день.
Как-то он позвонил мне рано поутру и попросил зайти до похода в столовую. Он картинно лежал на высоко поднятых подушках. "Юл, а что, если мне попросить друзей с моря привезти сегодня какую-никакую закусочку, водка у меня есть, а к этому еще и длинноногую голубоглазую блондинку, а?" «Попробуй». Что можно было еще ему сказать на это?.. К тому же я и не видел особой тяжести его болезни. "А не помру?" – «Посмотрим», – ободрил его я и пошел завтракать.
Перед обедом опять звонит: "Как поешь, зайди ко мне". Зашел. Гриша лежит в той же позе, но довольный, улыбающийся, вернее скажем, самодовольный. К одру подвинут журнальный столик, на котором разнообразная снедь океанская, стоит бутылка водки. Правда, не посмотрел я, сколько было стаканов или рюмок – не Штирлиц. Оказалось, что и не надо было на это смотреть – тайны никакой не было, а вовсе даже наоборот: из ванной комнаты вышла блондинка, возможно, голубоглазая, хоть и не Бог весть какая длинноногая, но с мокрыми волосами. Самодовольная улыбка Поженяна стала еще более самодовольна. "Я хотел, чтоб и ты со мной выпил рюмочку".
Ночью, около четырех часов, опять звонок: "Юл, по-моему, я умираю". Я положил трубку, взял аппарат для измерения давления, шприц, ампулу и пошел к Грише. Стол убран, глаза испуганные. Померил давление, сделал укол.
Утром у входа в столовую я увидел Гришу в дубленке, с кем-то громко митингующим. "Выздоровел?" Поженян посмотрел на меня, как на запрещающего что-то Ильина: "Всё! Я принял решение! Иду гулять! И никакая вся ваша держава меня остановить не сумеет!" Выздоровел…
В один из приездов, когда я писал «Очередь», Лева Устинов и Егор Яковлев вытянули меня в сауну. До этого я только понаслышке знал об этом учреждении гигиены и наслаждений. Баня произвела на меня ошеломительно дикое впечатление. Прежде всего подтвердились мои сомнения в пользе этого странного мероприятия. Дурные разговоры об оздоровительной функции сауны и впрямь оказались дурными, когда я воочию убедился в патофизиологическом ужасе этой процедуры. Полезное знакомство с современным миром. А то бы, как говорил мой покойный папа, если б я вчера умер, так бы этого и не узнал.







