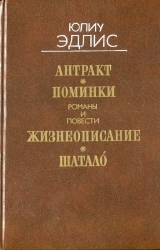
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
Напрасный труд, я знаю.
12
Андрей Латынин оказался не одинок в своей, правда, так и не осуществленной попытке поставить «Лестничную клетку» на сцене.
Ее перевели и инсценировали в нескольких театрах за рубежом, сначала в соцстранах, потом и на Западе. Бенедиктов получал одно за другим приглашений на премьеры, но так и не съездил ни на одну из них – то ли был не слишком настойчив, не добивался решительно где надо, то ли потому, что после отъезда Майи ему вообще было не до этого. Ему отказывали под благовидными предлогами – исчерпан лимит «человеко-дней» заграничных командировок, трудности с валютой, усложнились отношения с той или иной страной, отказы были шиты белыми нитками. Бенедиктову казалось, что он упирается лбом не в запертую на все засовы железную дверь, а в вату, в какой-то вязкий кисель: «Разрешить следует лишь в том случае, когда никак нельзя запретить».
К тому же он понимал, что теперь и отъезд Майи нельзя сбрасывать со счетов – как-никак бывшая жена эмигрировала за границу, хотя по очевиднейшей логике вывод из этого обстоятельства должен был быть извлечен как раз прямо противоположный: он не поехал с нею, он предпочел отказ от любимой женщины отказу от Родины, могут ли быть более веские доказательства его верности своему гражданскому долгу, его права на полное доверие?! Но логика логикой, а по собственному опыту он знал, что далеко не всегда опасливые чиновники руководствуются ею, принимая то или иное решение, логика чаще всего тут ни при чем.
Но когда летом семьдесят шестого года пришло из Лондона очередное приглашение на премьеру «Клетки», он твердо решил: не уступлю, костьми лягу, а своего добьюсь, ни удавов больше, ни кроликов!
Пьесу репетировали в маленьком театрике в Сохо, специально набрали для спектакля труппу, предполагалось, в случае успеха, играть его ежедневно в течение всего зимнего сезона, а если дела пойдут хорошо, то и дольше.
Театр был крохотный, мест на полтораста, тут находили себе пристанище, как правило, авангардистские товарищества молодых и упрямо бьющихся за место под солнцем актеров.
Прошли лето, осень, стоял уже октябрь, англичане слали письмо за письмом, Бенедиктов ходил с этими письмами по различным инстанциям и кабинетам, обивал пороги, день премьеры приближался, наступил, прошел, но он тем не менее не сдавался и, наконец, написал письмо и попросился на прием к начальнику управления внешних связей Министерства культуры Борису Севастьяновичу Бокову.
Через несколько дней он позвонил Бокову, тот оказался у телефона и ответил ему, что в курсе дела и готов принять его хоть завтра, часа в три.
Назавтра, захватив с собой все письма и приглашения, Бенедиктов отправился на Арбат. Стояла уже поздняя осень, с низкого неба сыпала снежная крупа, наждаком шуршала по асфальту. В недавно отремонтированном сером здании министерства напротив Вахтанговского театра еще пахло краской и известкой, длиннющие, петляющие под острыми углами коридоры были безлюдны. Он поднялся на шестой этаж, долго искал дверь с нужной табличкой, постучался и, не дождавшись ответа, нажал на ручку, вошел внутрь.
За письменным столом, вполоборота к двери и повернувшись лицом к окну, сидел человек в темном костюме, с телефонной трубкой у уха. Он указал Бенедиктову рукой на стул и снова отвернулся к окну, слушая, что ему говорили по телефону и лишь время от времени повторяя: «Лады… лады…»
Когда он положил наконец трубку на рычаг и повернулся лицом, Бенедиктов разом, без колебаний узнал в нем Бориса Ивановича, старого его знакомого по Кузнецкому мосту.
«Как же мне его называть, – почему-то прежде всего пришло на ум Бенедиктову, – Борисом Ивановичем или Борисом Севастьяновичем?..»
А Иванович-Севастьянович сказал суховато, хоть и вежливо:
– Садитесь, товарищ Бенедиктов, устраивайтесь. Я вас слушаю.
Он не мог не узнать Бенедиктова – пусть даже не в лицо, но ведь из заявления, наверняка лежавшего перед ним на столе, он знает, что это он, Бенедиктов! Значит, не хочет узнавать, значит, к этому приглашает и просителя: не вспоминать о той их, первой встрече. Таковы здесь, значит, правила игры, и Бенедиктову ничего не остается, как принять их.
Принять, потому что сразу, в то самое мгновение, когда он узнал в Борисе Севастьяновиче Бориса Ивановича, он понял, что истинное препятствие делу, ради которого он пришел сюда, заключается вовсе не в самой «Клетке», ни даже в том, что его бывшая жена эмигрировала за границу, а в том, сомнений нет, что Борис Иванович – или Борис Севастьянович, какое это имеет значение! – наверняка помнит, не забыл и не простил ему того, что тогда, после их встречи на Кузнецком, он обманул его, обманул его доверие, увильнул, не позвонил. Тем самым он нанес личную обиду Борису Ивановичу, и не ему одному, само собою.
Эта мысль предстала сейчас Бенедиктову такой простой и ясной, что все сразу встало на свое место, тягостная неизвестность обернулась простейшей арифметикой.
Разговор исчерпал себя и не начавшись.
И все же не состояться он не мог: Бенедиктов напросился на прием, Боков согласился его принять, заявление лежит на столе, дожидаясь окончательной резолюции, отступать им обоим некуда.
Но что они будут говорить друг другу – совершенно неважно, главное, что при этом будет думать каждый из них, и им обоим надо не столько прислушиваться к произносимым словам, сколько к тому, о чем ни тот, ни другой говорить вслух не станет.
– Я вас слушаю, Юрий Павлович, – повторил Боков и, достав тем же, что и в первую встречу, движением из ящика стола сигареты, протянул пачку Бенедиктову: – Курите. Или не курите?
Потянувшись через стол за сигаретой, Бенедиктов невольно оглядел Бориса Ивановича. Тот явно переменился – ни дешевого, плохо выглаженного пиджака, ни повязанного тугим узлом мосторговского галстука. На нем был вполне модный и несомненно импортный, финский или голландский, темно-серый костюм с широкими лацканами, белоснежная сорочка, одноцветный строгий галстук. Он переменился, Борис Иванович, и в лице его тоже появилось нечто новое – оно стало покойнее, что ли, увереннее в себе. Он стал сановитей – нашел точное слово Бенедиктов, – он просто перешел в другую весовую категорию, только и всего.
– Мне нечего добавить к тому, что я написал в заявлении, – сказал Бенедиктов, прикуривая от протянутой Борисом Ивановичем зажигалки, – Вы ведь ознакомились с ним?.. – И неожиданно для самого себя с этаким вызовом, с гаерством неуместным добавил: – Борис Иванович.
Борис Иванович и глазом не моргнул, прикурил в свою очередь и как бы мимоходом поправил Бенедиктова:
– Борис Севастьянович. – И, глубоко затянувшись сигаретой, откинулся на спинку кресла-вертушки, – Естественно, ознакомился.
– Стало быть, не вы меня, а я вас слушаю, – улыбнулся Бенедиктов и тут же устыдился этой унизительной, заискивающей улыбочки, такое к себе почувствовал отвращение, что, не сделав и двух затяжек, смял в пепельнице сигарету и демонстративно усмехнулся: – Если у вас есть, что мне сказать.
А в ответ на свой вызов как бы услышал, во всяком случае, ему показалось, что он и в самом деле слышит, что подумал в этот миг Борис Севастьянович.
«Есть, – услышал он. – Есть-то есть, только я тебе все равно этого не скажу».
«Так ведь я и так знаю, – подумал про себя в ответ Бенедиктов. – И ты знаешь, что я знаю».
«Конечно, знаешь», – услышал Бенедиктов ответную реплику: спектакль разыгрывался по законам надлежащего жанра, это было похоже на театр мимики и жеста, где все актеры – глухонемые, но зрители слышат все, что они должны услышать, из наушников, вделанных в подлокотники кресел. – «Конечно, знаешь, но что из того, что знаешь?..»
Вслух Борис Севастьянович сказал другое:
– Мы внимательно и, поверьте, очень доброжелательно ознакомились со всеми деталями, но, к сожалению, не нам это решать.
«Врешь, – подумал Бенедиктов, – именно вам решать, больше некому».
А Борис Севастьянович завершил вслух свою мысль:
– Это вне прерогативы Министерства культуры, поскольку речь идет не о пьесе, которую министерство у вас, Юрий Павлович, приобрело или заказало, а значит, и обязано было бы нести за нее ответственность во всех отношениях., а о, назовем уж вещи своими именами, киносценарии, на который у вас договор совсем с другим ведомством. Вот туда-то вам бы и обратиться…
– Но ведь речь идет о театральном спектакле, приглашение пришло от театра. Госкино не имеет к этому ни малейшего отношения! – перебил его Бенедиктов.
Но Борис Севастьянович будто и не услышал его:
– Мы консультировались, более того – всячески старались посодействовать вам… Что же до нашего министерства, то, поверьте, мы тут бессильны. Как говорится, и хотели бы в рай, да… – Помолчал и прибавил погодя, глядя в глаза Бенедиктову: – Тем более при данных конкретных обстоятельствах.
– Каких обстоятельствах? – не сдавался Бенедиктов. – Что вы имеете в виду?
– Если вас не удовлетворяет мой ответ, – не отвел глаза Борис Севастьянович, – попробуйте записаться на прием к министру, я могу помочь вам встретиться с ним, он вам лично на все ответит. Я могу позвонить ему хоть сейчас, – и потянулся к телефону, а Бенедиктов вновь услышал, что Борис Севастьянович думает на самом деле:
«Если ты настаиваешь, я позвоню министру, и он тебя, можешь не сомневаться, примет и даже обласкает, наговорит все, что в таких случаях следует… Неужели ты такой, мягко говоря, настырный?..» – и уже было начал набирать номер по внутреннему телефону.
Но Бенедиктов остановил его:
– Судя по всему, эта моя встреча с министром ничего уже не изменит, я так вас понял, Борис Иванович? – На этот раз Бенедиктов назвал его прежним именем без умысла.
– Севастьянович, – вновь поправил его тот, – наверное, у вас есть знакомый – Борис Иванович, вот вы все время и путаете. А я – Борис Севастьянович. Впрочем, это неважно.
– Борис Севастьянович, – согласился Бенедиктов и вновь услышал мысли собеседника.
«Чего там, – слышал он Бориса Севастьяновича, – называй меня хоть Васей, не в этом дело. Не трать понапрасну усилий. А в том дело, что, как видишь, круг замкнулся. Полный круг. Мы своей точки зрения не меняем. И знаешь почему? Ты ведь выйдешь отсюда и обязательно все выболтаешь своим дружкам. Ты думаешь, что этим выставишь нас в невыгодном свете, что это будет нам во вред. Дудки! Наоборот даже, если хочешь знать. Посочувствуют тебе твои дружки, повозмущаются, потешатся словоблудием, а про себя выводы сделают, какие надо. Поверь мне, у меня опыт по этой части. Факт. Вот так-то. Как нужно вам чего-нибудь от нас, в ту же заграницу, к примеру, так к нам бежите: помогите, дяденьки хорошие! А как нам от вас нужно, так вы и нос воротите?! Из-ви-ни-те, Юрий Павлович!»
А вслух сказал Бенедиктову:
– Не огорчайтесь. Еще не один сценарий напишете, Юрий Павлович, не одну пьесу. Будут приглашения – милости просим, поддержим, можете не сомневаться. Вы поймите, для нас это даже важнее, чем для вас. Для вас – просто еще одна премьера за рубежом, просто приятно, что перевели ваше произведение, поставили постановку, не более. А для нас это факт политический – советскую пьесу поставили в Лондоне или в Нью-Йорке, ее придут посмотреть тысячи простых американцев, это же лучшая пропаганда! Мы на эти вещи смотрим шире, и прежде всего – политически. Так что на нашу поддержку в будущем можете твердо рассчитывать, Юрий Павлович.
И Юрию Павловичу ничего не оставалось, как сказать:
– Спасибо. Надеюсь. – И встать, пожать Борису Севастьяновичу руку и несолоно хлебавши уйти.
…На Арбате дождь сменил снежную крупу, ветер бросал в лицо холодные плевки осеннего ненастья.
Круг замкнулся, думал Бенедиктов, пробираясь сквозь будничную арбатскую толчею, замкнулся круг… И не в том было дело, что его не пускают в Лондон, плевать на Лондон. Круг замкнулся, он это ощущал почти физически. И не в Борисе Севастьяновиче или Борисе Ивановиче дело, они всего-навсего – ножка циркуля, очертившего вокруг него этот замкнутый круг.
«Что ж… – думал Бенедиктов, идя Арбатом к Садовому кольцу, – что ж…»
Я – как человек, разобравший остановившиеся вдруг, единственные свои часы – колесики, маятники, винтики, шестеренки – и бессильный собрать их вновь, заставить их опять отсчитывать время, заставить это время двигаться – вперед ли, вспять…
Вокруг меня все торопятся, спешат, опаздывают, сверяют на бегу часы, у одних они идут вперед, у других отстают, и лишь мое время – остановилось, застыло.
Может быть – но я в этом не посмею признаться даже самому себе, – может быть, я уже не люблю тебя?..
13
Билет был куплен на десятое мая, самолет улетал из Шереметьева в семь двадцать утра, багаж надо было привезти на таможенный досмотр накануне.
Из квартиры вывезли мебель, книги, люстры, холодильник, телевизор, деньги за все были получены, он оставил себе ровно столько, чтобы съездить на могилу мачехи, остальное отдаст сестре. С друзьями он распрощается накануне отъезда, он никого не будет звать, кто захочет, и так придет, это будут не первые проводы в мастерской Борисова. «Тризна» – называл их Лева.
Он прилетел в Одессу в среду, сестра была на работе, и потом у нее еще были уроки в вечерней школе, она не могла пойти с ним на кладбище.
Стоял тихий, безветренный день; притомившись торопливым буйством южного апреля, природа подремывала, набиралась сил перед последним рывком в лето.
Бенедиктов шел крутым подъемом через старую часть кладбища, мимо скособочившихся, замшелых могильных камней, люди, погребенные под этими камнями, давно истлели и рассыпались в прах, истлели и рассыпались в прах и те, кто поставил эти памятники умершим до них, память о тех и о других тоже истлела и стала прахом, вечно лишь время, думал Бенедиктов, лишь жизнь и смерть, лишь неустанное превращение одной в другую. И все-таки имя этому не смерть, а – жизнь.
За годы, что он не был здесь, верхняя, новая часть кладбища так разрослась, что он заблудился. Он хорошо помнил, что, когда хоронили мачеху, между ее могилой и кладбищенской стеной было пустое пространство, желтая глина и песок, но теперь до самой стены тесно стояли новые памятники, огражденные выкрашенной серебряной краской решеткой, некоторые ограды увенчивались жестяными крышами с как бы игрушечными водостоками и коньками, будто мертвецов заперли в тесные домики-клетки, и если бы они и восстали в день страшного суда из своих могил, то все равно не смогли бы продраться сквозь железные прутья, даже трубный глас не освободит их из вечного плена. Бенедиктов кружил и кружил, ступая по чьим-то надгробьям, перешагивая через свежие, не огражденные еще могильные холмики, в ботинки набился песок.
Он так и не нашел могилу мачехи. Принесенные с собою цветы он положил к памятнику, на котором пониже полустершихся древних письмен было написано от руки выцветшей краской: «…а также в память всех тех, кто пропал без вести…» – и пошел вниз, к выходу.
Всю ночь они молча просидели вдвоем с сестрой на веранде, увитой диким виноградом с еще не распустившимися листьями, из распахнутых окон слышался во дворике храп и бессвязное бормотание спящих, плач проснувшегося ребенка и сонный голос убаюкивающей его матери.
Они не говорили, не плакали, просто молча горевали о том, что редко виделись, мало любили – брат и сестра – друг друга тогда, когда это еще можно было, откладывали любовь и сердечность на завтра, на потом.
А наутро он улетел обратно в Москву.
Восьмого он отвез – Ансимов вызвался ему помочь – багаж на таможню в Шереметьево, и весь день, с раннего утра до вечера, они провели там в беготне и хлопотах. Юный таможенник, с почти детским лицом, роющийся в чемоданах, перетряхивающий со скучающим видом книги; безразличные ко всему на свете молоденькие пограничники; преисполненные чувства собственного превосходства иностранцы с огромными кофрами из натуральной кожи; юркие носильщики, перетаскивающие эти кофры с места на место, скрежеща колесиками своих тележек по плитам пола; радостно-возбужденные советские туристы в наглаженных, только что из химчистки костюмах и начищенных до нестерпимого блеска ботинках, – и лишь к вечеру, вконец измочаленные, Бенедиктов и Ансимов покатили обратно в Москву.
Над Ленинградским шоссе стояло чистое весеннее небо, тоненький серпик луны таял в нем обсосанной лимонной долькой, машин было совсем мало – воскресенье, выходной, к тому же канун праздника: завтра девятое, День Победы. Редкие «КамАЗы» с прицепами и громоздкие туши фургонов «Булгарэкспорта» держали путь на север, их обгоняли запоздалые дачники на шустрых «жигульках», да в обратном направлении – велосипедисты в пестрых майках, с запасными шинами портупеей через плечо.
Но поближе к Москве небо затянула угрюмо-серая, с бурым подбрюшьем туча, и разом ударила первая в этом мае гроза с фейерверочными молниями, по кузову машины мелко забарабанил град.
– Заедем ко мне, – предложил Ансимов, вынырнув из тоннеля на Соколе.
За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова – устали, да и что еще можно сказать: все, конец, послезавтра самолет…
– Нет, – ответил Бенедиктов, – я, пожалуй, к Левке.
– Поехали ко мне, – настаивал Ансимов. – Поехали, не дури. Хоть потреплемся напоследок.
– Успеем, еще целые сутки впереди, – И подсчитал: – Больше – ночь, день да еще ночь.
– Много… – усмехнулся Паша.
– Целая жизнь, – согласился Бенедиктов.
– Странно, – заметил после долгого раздумья Ансимов, – когда хотят сказать: «очень долго», «много времени», говорят – «целая жизнь». Глупо! Ведь смерть гораздо дольше жизни. Уж точнее бы – «целая смерть»…
– Можно и так, – не стал спорить Бенедиктов, – зависит от взгляда.
– Левка небось уже вдугаря, он жутко переживает… Поехали лучше ко мне.
– Нет. Он ждет, я обещал.
– Мое дело экипаж подать, – сдался Паша, – а там – как барин… – Он свернул, не доезжая Маяковки, на Брестскую, потом направо, на Садовое, – А завтра?..
– До завтра еще дожить надо, – отшутился Бенедиктов и вдруг поразился пришедшей ему неожиданной мысли: – Или лучше – не надо?.. А?..
Анисимов не ответил, он перестраивался в правый ряд у площади Восстания, ему было но до того.
Борисов был и впрямь пьян, в той первой стадии «кайфа», когда его кашей не корми, а дай пофилософствовать или, как он сам определял это состояние, «метать икру».
Огромный, краснорожий, с выпирающим из низко обвисших брюк животом, в рубахе с оторванными пуговицами, из-под которой лезла наружу поросшая седыми завитками жирная грудь, он сидел в продавленной соломенной качалке, и казалось чудом, что она не разваливается под ним. На полу рядом с качалкой стояла бутылка водки, сильно уже уполовиненная, в мастерской не продохнуть было от застарелого табачного духа.
– Я ждал, – сказал высокопарно Лева вошедшему без стука Бенедиктову – дверь мастерской запиралась лишь в отсутствии хозяина на пудовый, музейной ценности амбарный замок. – Я ждал, входи. Пей. И – молчи. Потому что говорить буду я.
Бенедиктов сел на стоящий посреди мастерской «подиум», взахлеб сделал несколько глотков из початой бутылки.
– Хорошо пьешь, – похвалил его Лева. – Но стесняйся, запасы практически неисчерпаемы, не экспортная нефть. – И, перегнувшись через подлокотник, достал из-под качалки еще две бутылки. – Пей и молчи. Тебе сейчас самое время умолкнуть. Говорить буду я.
Бенедиктову и при желании невмоготу было говорить – ни слов в нем, ни мыслей – пустота, словно в пещере, где только гулким эхом отзывается чужой голос. И водка тоже показалась ему без вкуса. И – без смысла.
Но и Борисов, вопреки своему обещанию, тоже молчал, глядя в пол меж огромных шаров своих колен, обтянутых линялым вельветом.
За окном с крыши и с первой, робкой, еще майской листвы редко падали крупные капли недавней грозы.
– Все? – после душного молчания не то вопросил, не то печально удивился Лева, и эхо отозвалось Бенедиктову: о-о-о…
И захотелось Бенедиктову плакать, но и слез не было.
Борисов поднял голову, однако посмотрел не на него, а поверх него в угол, где, полуприкрытая давно высохшей, заскорузлой рогожей, стояла недоконченная Истина.
Он бросил ее, так и не долепив, и не потому даже, что усомнился, хватит ли ему таланта и сил, чтобы закончить работу, а просто однажды поутру, после долгого и очищающего душу запоя, он прозрел, что у истины, как и у искусства – а это для него было одно: истина и искусство, – нет и не может быть окончательного, неизменного лика.
Так она, незавершенная, и стояла в дальнем углу: обнаженная женщина-ребенок, московская, шестидесятых годов девчонка, заломившая руки и одной из них прикрывшая глаза, чтобы защититься от нестерпимого жара правды. Но вместе с ужасом перед нею на лице девочки этой, с неразвитой грудью и выпирающими ключицами, была еще и почти высокомерная полуусмешка-полуулыбка гордости за некое всезнание, за разгадку тайны.
– Все… – ответил сам себе Борисов и перевел глаза на Бенедиктова. – Завтра?
– Послезавтра, – устало уточнил тот, – в семь утра. Десятого, а сегодня только восьмое.
– Еще больше суток, – высчитал Борисов, – уйма времени, – И спросил то ли с укором, то ли с завистью: – К ней?.. – Но опять сам себе ответил: – К ней!
– И все-то ты знаешь… – досадливо пожал плечами Бенедиктов.
– Знаю, – подтвердил Борисов и стал похож на грузного, объевшегося всеведением Будду. – Я все знаю. Я-то – все! И что обиднее всего – наперед. Все! – стукнул он грязным кулачищем по подлокотнику хрупкой качалки, – Все!..
Бенедиктов нагнулся, подобрал с пола у ног Борисова бутылку, сорвал с нее жестяную пробку, порезав при этом глубоко палец, жадно отпил из горлышка.
Из порезанного пальца сочилась кровь, но боли не было. Бенедиктов сунул палец в рот, слизывая кровь.
– Собственной кровью закусываешь?! – удивился Лева и вдруг загорелся, заговорил без удержу, как и обещал: – Собственную кровушку попиваем! Водка с кровью, коктейль а-ля рюсс!.. Потому что все мы русские, до мозга костей, до камней в печени – рус-с-кие! Без различия, без исключений! Потому что – что такое Русь? Это – боль, боль, боль! Боль не за одного себя, а за все человечество распроклятое, которое хрен нас способно понять с этой нашей болью! Боль, и печаль, и тоска по несбыточному… Русские!.. – Он поднялся на ноги, качалка заходила ходуном, и теперь он был уже не разжиревший Будда с Молчановки, а волжский забубенный бурлак в истлевшей под бечевой на груди рубахе и с красной рожей пугачевца, с неизбывной тоской по истине и мятежу в отбеленных водкой очах. – Мы – русские! – рявкнул он и потряс над головою обоими кулаками. – Пей свою кровь! Заглушай ею ужас свой и непотребство! Да не вылакай ее до дна, там она тебе еще сгодится. Там – особенно! Потому что ты и там будешь – русский. Не француз, не американец, не патагонец – везде русский, всегда! Попомни! Заруби себе!..
И снова ударило в пустой пещере эхо, перекатываясь и сотрясая своды.
– И на собственном отпевании тоже кровью своей причастишься! – грохотнул напоследок Борисов, испустил из груди вздох долгий и мучительный и упал снова в качалку. Рухнув, сказал тихо и совершенно трезво: – А вот поминки по тебе мы с тобой завтра еще здесь успеем справить… – Не глядя, нашарил у своих ног бутылку, зубами сковырнул пробку, долго пил из горлышка, потом понюхал собственный жирный локоть и сказал еще тише: – И все же есть у тебя, у сукина сына, твоя Майка…
– Была… – Пить Бенедиктову больше не хотелось, и эхо в пещере тоже ни на что уже не отзывалось.
– Есть! – не согласился с ним Лева. – И я тебе не то еще скажу! Теперь-то она у тебя есть даже больше, чем прежде, когда она была с тобой. Больше, потому что теперь, когда у тебя ее уже нет, она – вся твоя! Навеки!.. А раньше-то… – вдруг вновь опьянел он до беспамятства, – раньше-то…
– Что – раньше?! – заледенело сердце у Бенедиктова. – Ты пьян, скотина! Не ври!..
Но Борисов не слышал его:
– Раныпе-то – ого-го… Ого-го!..
Но Бенедиктов вдруг поймал себя на том, что – ни гнева, ни отчаяния, ни омерзения, одна ледяная печаль.
Лева вдруг затрясся всем центнером своего протравленного насквозь алкоголем мяса и жира, заколыхались щеки, грудь, живот, качалка под ним затрещала. Он плакал щедрыми пьяными слезами навзрыд, плакал о Майе, о себе, о Бенедиктове, обо всех разом.
Окно мастерской выходило на крышу. Бенедиктов выбрался на нее, под ним был разлив приарбатских, поварских, моховых и, на том берегу, замоскворецких переулков.
Над городом уже струился ранний рассвет, но ты летишь завтра на заход, на запад, и за тобою будут течь, догонять тебя эти ранние московские зори, настигать, наступать на пятки, но – не догнать им тебя уже…
Бенедиктову захотелось есть – с утра маковой росинки во рту не было, он удивился себе: не рыдать, заламывая руки, не оплакивать свою жизнь и свое завтрашнее прощание с нею, а просто – есть.
Он вернулся в мастерскую. Борисов спал, уронив набок голову и сложив толстые, влажные губы с запенившейся в уголках белой слюной в детскую безвольную улыбку.
Бенедиктов нашарил в маленькой, занавоженной до мерзопакостности кухоньке черствые хлебные корки, обветренную докторскую колбасу; ни то, ни другое есть было нельзя. Он зажег газ, налил в мятую алюминиевую кастрюльку воды из-под крана, накрошил в нее хлеб и колбасу и стал варить себе сиротский супчик.
Утром, когда он проснулся на голых досках «подиума», Борисова уже не было. Рядом, под обрубком гипсовой руки, лежала записка: «Пьянь, скот, свинья, крокодил! Пьянь, пьянь, пьянь! Ни слову не верь! Если уйдешь без меня, помни: в семь – проводы, всех обзвонил, все придут, все беру на себя. Но лучше – никуда не уходи. И – плюнь! Плюнь! Лев».
«Не верь, – значит, все помнит, а раз помнит, что спьяну наболтал…» – как-то вчуже подумал Бенедиктов.
Он разделся, пошел в уборную, в которой была и Левина ванная – ржавый душ над унитазом, долго стоял без единой мысли в голове под холодными, колючими струями воды.
Он шел по пустой, притихшей Москве, на улицах прохожих было мало, над подъездами висели праздничные флаги.
Он перекусил по пути в стеклянной забегаловке и пошел бульваром в сторону Пушкинской площади. На бульваре народу было побольше, на лацканах мужских пиджаков, на немодных платьях пожилых женщин едва слышно потренькивали медали, и он вспомнил: девятое, День Победы.
Он спустился по улице Горького к Охотному и свернул налево, к Большому театру. Стояла непривычная для начала мая жара, все оделись в светлое, девушки – с открытыми, незагорелыми руками, безоблачное небо было совсем уже летним.
В скверике у Большого, вокруг фонтана и у колоннады, и напротив, на тротуаре у Малого, было не протолкаться. На ухоженных клумбах полыхали огненные язычки тюльпанов, и в руках у всех тоже были красные тюльпаны и гвоздики. Ветераны, и мужчины, и женщины, были при орденах, вся грудь в орденах, реже – орденские планки в несколько рядов.
Бенедиктов поразился: какие они все уже немолодые и как их уже немного среди праздничной, в большинстве своем молодой толпы.
В памяти разом всплыл май сорок пятого, и слово Родина, естественно и как бы все ставя на свои места, пришло ему на ум, и ему это не показалось ни странным, ни кощунственным – это слово в мыслях и в сердце человека, который завтра на рассвете навеки покинет ее, трижды отречется…
На скамейке, в тени еще не распустившегося куста сирени, сидели одни женщины, с увядшими, будничными, ничем в любой другой день не примечательными лицами матерей, бабушек, тещ, свекровей, в платьях и кофтах, на которых так, казалось, неуместны – не мундир же, не пропыленная, пропотевшая фронтовая гимнастерка! – так невпопад ордена. И у каждой в руках были пожелтевшие, нечеткие снимки военных времен, они ахали, узнавая, и печалились, не узнавая на них друг друга, и смеялись молодым, тех лет смехом, и радовались, что вот – четыре года войны и три десятка послевоенных, а они живы и опять вместе, и не такие еще старые, и хоть все меньше их год от года, все реже письма и весточки друг от друга, а все же – вот он, живой и вновь молодой, их женский воздушный полк ночных бомбардировщиков, девчачий полк, где все были тогда невесты, а многие так и остались навеки – в небе и в земле – невысватанными невестами, а те, что вернулись, повыходили замуж и родили детей, а те им – внуков, и теперь вот – заботы, и радости, и денежные затруднения, и разводы, правда уже не свои, а детей, и проклятый квартирный вопрос, и пенсия невелика, не хватает, а все же вот они, девчонки отдельного воздушного полка, хоть и не узнать им себя на этих старых, с обломанными уголками, неконтрастных фотокарточках, где они остались навеки молодыми пилотами, штурманами и башенными стрелками с выбивающимися из-под залихватски заломленных пилоток мелкими кудряшками, которые они, прежде чем сфотографироваться в коротком перерыве между воздушными боями, круто завили накаленной на огне бивачной коптилки вилкой.
Они нестройно пели, глядя в бумажку со словами, которую держала в оттянутой руке одна из них, свои старые, невозвратной их юности песни: «Синий платочек», и «Темную ночь», и «Землянку», и «Мне сверху видно все, ты так и знай…»
Видно ли им было тогда сверху, с высоты ночных слепых полетов над своею и чужою землей, во тьме, подстерегающей их «юнкерсами» и «мессерами», распарываемой соцветиями зенитных залпов и догоняющих друг друга трассирующих пулеметных очередей, в парении своем меж жизнью и смертью, – виден ли им был с неповторимой больше никогда этой высоты сегодняшний день – не этот майский, торжественный, блещущий орденами и салютами, а просто будничный их сегодняшний день: в бесцветных мелких заботах и радостях повседневья, в очередях и вечной нехватке времени и денег, сегодняшний мирный их день, который тогда, с той высоты грезился им таким ярким и вечно праздничным и ради которого, собственно, они и летели в ночное небо навстречу смерти?..
«Темная ночь, только пули свистят по степи…»
И конечно же – «Ты меня ждешь…».
Бенедиктов проталкивался сквозь толпу и сливался с нею, жил ее ожившими, не замутненными временами воспоминаниями о днях бескорыстия, самоотвержения и кровного родства всех со всеми – святыми, чистейшими днями. Он был сейчас, как никогда, одним из них, каплей в их море.
В другом конце сквера, поближе к колоннаде театра, стояли кучкой, громко разговаривая, хлопая друг друга по плечам и шумно, долгими мужскими объятиями встречая вновь прибывающих, танкисты-разведчики тридцать четвертой танковой армии Рыбалко, – Бенедиктов прочел это на рукописном плакатике, который кто-то из них прикрепил к стволу дерева, рядом с картой, на которой красной чертой был обозначен путь армии от Волги до Шпрее. Среди них было и несколько все еще кадровых полковников и подполковников, и даже один генерал в светло-сером мундире с золотым шитьем и погонами, но больше отставников с вполне уже штатскими повадками, некоторые – с обожженными, в красных рубцах и заплатах лицами.

