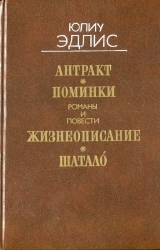
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Он поднялся последним по трапу, стюардесса тут же задраила дверь, трап убрали, вой двигателей стал надсаднее, и самолет начал выруливать на взлетную полосу, тяжело подрагивая на стыках бетонных плит.
Салон был набит до отказа, и только где-то посредине, вразброс, осталось несколько свободных мест.
Он пристегнул ремни, откинул назад до упора спинку кресла, вытянул ноги, достал свежие газеты, устроился поудобнее. Самолет тяжело прогрохотал колесами по взлетной полосе, незаметно и плавно оторвался от земли и стал набирать высоту.
Сквозь стекло иллюминатора было видно, как внизу тает, испаряясь сиреневым, голубым и лиловым маревом город, вот он лег покорно под крыло, потом, словно раздумав, круто встал на дыбы, и все это для того лишь, чтоб дотянуться до него, пожать ему на прощание руку. Острыми ребристыми конусами взметнулись в прощальном этом взмахе шатры Сиони, Метехи и Кошуэти – и все пропало, ушло на дно души, где ему и храниться вечно, впрок, про черный день.
Но прежде чем, закрыв глаза, проститься со всем и уснуть, он успел услышать, как кто-то легкий, почти бесплотный прошел по ковровой дорожке вдоль салона, откинул соседнее сиденье и, не спросясь, сел рядом.
Тут как тут, мелькнуло у него в голове, но он не стал открывать глаза: кто это?
Повесть: ЖИЗНЕОПИСАНИЕ


Чип умер двенадцати лет, от старости.
Отец купил его Ольге ко дню рождения в тот год, когда она пошла в школу, а когда Чип умер, Ольга перешла на третий курс медицинского.
Однако на самом деле Чип умер в более преклонных летах: отец купил его в зоомагазине на Кузнецком уже достаточно зрелым кенарем, обученным множеству колен и трелей, а ведь это дается только временем. Но в семье все равно возраст Чипа исчисляли с того самого Ольгиного дня рождения, когда он появился в доме.
Впрочем, если смотреть в лицо непреложным фактам, то и семьи к тому времени никакой уже не было, и никакой это был не подарок, а замаливание греха, жалкая попытка улестить собственную совесть.
Дело в том, что за два месяца до этого отец ушел из дома.
Но об этом – ниже.
В доме остались четверо: Ольга, мать, бабушка – мамина мама, и парализованный после инсульта, недвижимый и безгласный дед – бабушкин муж. И хотя в трехкомнатной квартире у Ольги была отдельная, девятиметровая, комната, Чипа поселили у бабушки – она настояла на этом из боязни, что ночами Чип будет мешать девочке спать. На самом же деле бабушке жилось очень тоскливо и одиноко, хотя рядом, на своей длинной и узкой железной кровати, лежал больной дед. Но своей немотой и полнейшей отрешенностью он только усугублял бабушкино одиночество.
Бабушка прожила с дедом целую жизнь и всю жизнь любила его, и теперь она никак не могла привыкнуть к мысли, что этот парализованный, изменившийся до неузнаваемости и, собственно, чужой старик – тот самый человек, с которым она прожила столько нелегких, но, как ей теперь казалось, беспечальных, добрых лет, с которым она играла в молодости в любительских спектаклях в Народном доме Казанской железной дороги, где они оба служили – он инженером-путейцем, она – телеграфисткой, и который, нет еще и года, как, идучи домой по Разгуляю, вдруг грохнулся среди бела дня наземь и пролежал в декабрьском грязном снегу не менее часа, пока его не забрала вызванная кем-то из прохожих «скорая» в Басманную больницу, откуда его через полгода выписали вот этим новым, незнакомым и чужим стариком.
Чип скрашивал бабушкино одиночество в те долгие ночные часы, когда она чувствовала себя никому не нужной.
Со временем бабушке стало казаться, что она научилась понимать или, по крайней мере, по-своему толковать щебетание Чипа в ответ на ее сетования или просто будничные замечания насчет погоды, здоровья или непонимания со стороны дочери и внучки.
Иногда она даже беседовала с Чипом как бы на равных.
Все очень страдали от ухода отца, особенно же он сам. Он ужасно мучился собственной унизительно-неразрешимой виной, а ведь он был добрый и совестливый человек, до бессильных слез любивший дочку и, как это ни странно звучит при сложившихся обстоятельствах, чрезвычайно привязанный к семье и дому. Вполне возможно, что и ушел-то он единственно потому, что не мог изо дня в день прикидываться и лгать себе и всем и этой ложью унижать в собственной душе свою любовь к дочери и семье, в том числе и к бывшей своей жене.
Чувство неотмолимого греха не отпускало его ни на день, ни на час, но, как это ни странно, этот тяжкий душевный груз был вместе с тем непостижимым каким-то образом сладостен и даже, если угодно, мучительно милосерден, ибо, как казалось самому отцу, он-то и оставлял хоть какую-то надежду на прощение или хотя бы на искупление вины.
Пусть не сейчас, не сразу, но когда-нибудь в будущем…
И отец и мать старались всячески уберечь Ольгу от «травмы», от унизительного, как им казалось, понимания того, что произошло в семье. Но она, несмотря на свои семь лет, все понимала, пусть и не умом, а одним сердцем.
Не исключено, что в семь лет это одно и то же – ум и сердце. Потом, правда, это проходит, и ум и сердце начинают жить порознь.
Родителям же от сознания того, что, оберегая дочь от «травмы», они и сами стали выше дрязг, пошлых, оскорбительных сцен и взаимных попреков, – от сознания этого им становилось чуть легче на душе.
Во всяком случае, уже не так важно было, что о них думают и как все это выглядит со стороны.
Итак, Чип поселился у бабушки в комнате. На ночь клетку накрывали старой скатертью и убирали на шкаф. Чип, пошуршав в темноте крыльями, умолкал и до самого утра не подавал голоса.
И лишь дед, у изголовья которого на всю ночь оставляли бледный ночник, не спал и, мыча про себя что-то нечленораздельное для других, но полное глубокого смысла для него самого, косился красным, налитым кровью после инсульта глазом в сторону шкафа, и было ясно, что Чипа он не любит и ревнует к нему бабушку.
Кроме Чипа и бабушки, никто в эту комнату, собственно, и не заходил: матери было некогда – работа, магазины, дом, а потом, когда Ольга пошла в школу, – уроки с нею, ну и, само собою, спасительные, как хватание за последнюю соломинку, разговоры с приятельницами по телефону далеко за полночь; Ольге же и вовсе было не велено сюда ходить: считалось, что своим мычанием и налитым кровью глазом дед может ее напугать. Но Ольга боялась не деда с его красным глазом и неопрятной, колючей седой щетиной на лице, а запаха залежанного тела, спертого воздуха, лекарств, судна, в которое дед ходил, – нечистый этот запах болезни и безнадежности страшил ее больше, чем сам дед.
Днем, а именно на то время, которое Ольга, вернувшись из школы, приготовив уроки и погуляв час-другой во дворе, проводила в своей комнате, бабушка переносила Чипа от себя к ней. В Ольгины обязанности – в этом взрослые видели некий особый педагогический умысел – входило убирать Чипину клетку, насыпать в кормушку свежего конопляного семени и менять в блюдце воду.
Поначалу Чип занимал и даже поражал Ольгу, она подолгу зачарованно следила, как он ест, как чистит клювом перышки или почесывает лапкой шею, как пьет, булькая в горле водой и запрокидывая голову, или же как, склонив ее набок, косит золотисто-шоколадной бусинкой глаза, переводя взгляд с предмета на предмет мелкими, дергающимися рывками, словно заводная игрушка. Либо же слушала, как он, прочистив горло, выводит свои коленца и рулады и, закончив музыкальную фразу или внезапно оборвав ее на неразрешенном гармоническом перепутье, тем же мигом уронит головку набок, словно критически и даже недоверчиво прислушиваясь к отзвуку своего пения в воздухе.
Но через несколько месяцев Чип не то чтобы ей надоел, просто уже ничего нового, неожиданного она в нем больше не обнаруживала, да и уроков задавали все больше, времени стало не хватать не то что на Чипа, но даже на то, чтобы погулять во дворе («девочка совершенно лишена кислорода», – привычно сетовала мать), и в итоге так вышло, что Чип окончательно и безвыездно остался жить в бабушкиной комнате и прожил там всю жизнь и пережил деда, и бабушку, и Ольгины детство и юность.
Двенадцать лет для пернатых это все равно что для человека сто. Девяносто как минимум.
А и деду и бабушке далеко не было девяноста, когда они умерли.
Под старость Чип поседел. Его перья и особенно пух на груди и брюшке стали белесыми, будто поросли печальной плесенью. А в молодости он был до того желт, едко-лимонно желт, что у Ольги, когда она долго на него смотрела, пощипывало глаза, как от запаха дедовых лекарств.
Иногда Ольга задавалась вопросом: что думает Чип по поводу всего, что творится в доме? И – вообще?
Бабушка утверждала, что вполне понимает не только щебетание и пение кенаря, но и, если угодно, даже читает его мысли. Ну, пусть не мысли в общепринятом, человеческом, так сказать, смысле слова, но то, что у Чипа есть свое вполне сложившееся и определенное отношение к миру (невзирая на то, что, казалось бы, этот мир ограничен для него стенами одной лишь комнаты или, более того, даже прутьями клетки), в этом бабушка нисколько не сомневалась.
Как бы там ни было – имел ли Чип свою точку зрения на происходящее или не имел, – но волею обстоятельств или, если угодно, судьбы он стал свидетелем и даже, не побоимся этого слова, участником всех событий, которые имели место в доме и семье на протяжении двенадцати лет.
Целой птичьей жизни.
Впрочем, человеческий век тоже довольно-таки короток.
Когда родилась Ольга, отцу с матерью было по двадцать четыре года, они были однолетки. Подросши и скоро приобщившись к ежевечернему сидению у телевизора, она никак не могла взять в толк, каким это образом ее вполне еще молодые родители помнят и даже лично видели такое невообразимо давнее, совершенно для нее уже историческое событие, как война.
Помнили они конечно же не самую войну, а лишь эвакуацию, бесконечную холодную дорогу в «теплушках», скудную жизнь в скученных и настороженных чужих городах, продуктовые карточки и страх, которого не было страшнее, потерять их в хмурых, серых очередях, и – совсем уже далеко и нечетко, на самом краю детской их памяти, – надсадный вой воздушной тревоги и веселые, игривые белые облачка зенитных разрывов в беззащитно-ясном московском небе первых месяцев войны.
Тем не менее отец и мать почти с гордостью считали себя детьми той войны, и Ольга часто ловила их на том, как, смотря по телевизору фильмы про войну, особенно документальные, или даже просто слушая «Войну народную», или «Этот День Победы», или песню из «Белорусского вокзала», у них увлажняются глаза и светлеют лица, и они, пряча друг от друга эти слезы, сопят и шмыгают носом.
Чип же, когда по телевизору показывали фильмы про войну и раздавались громкие (бабушка с годами стала терять слух, и телевизор приходилось включать на полную громкость) взрывы и стрельба, беспокойно метался по клетке, перелетал с жердочки на жердочку, опрокидывая блюдце с водой, и жалобно, словно взывая о милосердии, пищал. Но стоило накинуть на клетку скатерть, как он тут же успокаивался.
Зато музыкальные фильмы он смотрел или, точнее, слушал с несомненным удовольствием, уронив как бы в сладостной истоме голову набок. Бабушка утверждала, что прослушав музыкальную передачу, Чип тут же пытается воспроизвести ту или иную мелодию. В его пении бабушка отчетливо различала заимствования или вариации на темы различных выдающихся композиторов, от классиков до наших современников.
Уйдя с Казанской железной дороги, бабушка в тридцатые и сороковые годы, в том числе и всю войну, работала на Центральном телеграфе, но в любительских спектаклях уже не участвовала.
Дед объяснял бабушкину измену любительскому театру ее, как он безжалостно выражался, погрязанием в тине быта.
При этом он сознательно или бессознательно упускал из виду, что вслед за бабушкой, и, кстати, очень скоро, он тоже отказался от сценической карьеры, пусть даже и любительской.
В отличие от бабушкиного ухода из мира изящных искусств, свой собственный добровольный отказ он обосновывал соображениями сугубо художественного порядка. Даже, если угодно, философского.
Дело в том, что дед напрочь и даже с каким-то сладострастным остервенением отрицал драматургию Чехова, Андреева, Горького, не говоря уж о тех, кто объявился после них. Для него русский театр начинался и кончался одним Островским.
Бабушка. не без ехидства объясняла этот дедов ригоризм тем, что в пору его увлечения сценой дед имел наибольший и, собственно, единственный успех на Казанской железной дороге в заглавной роли в «Красавце-мужчине» Островского, все же остальные созданные им на подмостках образы проваливались с неизменной последовательностью.
Дед, если верить сохранившимся старым фотографиям – блеклая кофейно-коричневая печать на просторных паспарту из толстого, добротного, какого уже давно не делают, картона с золотым тисненым вензелем фотографического ателье где-нибудь на Кузнецком или, скажем, на Арбате, – на этих старых фотографиях дед и вправду был очень красив и, судя по самоуверенному и даже чуть надменному выражению лица, знал за собой эту красоту и, скрестив на груди руки с наследственно длинными и слабыми пальцами, глядел с карточки чрезвычайно неприступно.
Считалось, что инсульт и, как следствие инсульта, паралич и полная неподвижность (впрочем, вначале не полная – первые два или даже три года дед передвигался самостоятельно по комнате, опираясь на палочку и волоча правую ногу) имели причиной его приверженность к вину.
Действительно, последние лет десять, предшествовавшие инсульту, дед был склонен к этой слабости. Пил он, правда, не водку, а недорогой, цвета химических чернил, портвейн и мадеру, а также еще не исчезнувший из продажи в те годы кагор. Пил и дома, один, сидя у окна и глядя насупленным, недобрым взглядом в тесный двор дома на Разгуляе (тогда вся семья еще жила в одной комнате старой коммунальной квартиры), и в случайных заведениях но пути с работы домой – в «стекляшках» и «деревяшках», которых пруд пруди у «трех вокзалов».
Дед никогда не бывал пьян по-простецки, «по-черному», то есть до потери человеческого образа. Пил он, как сам не без чувства собственного достоинства объяснял, по-старинному, как то и подобает интеллигентному человеку, а именно – был постоянно, с самого утра, особенно как вышел на пенсию, не пьян, но и не трезв. В этом состоянии он становился раздражителен и агрессивен, хотя при всем этом оставался в пределах приличий и даже подчеркнутой вежливости по отношению к домашним, но эта нарочитая, высокомерная благовоспитанность была для них тягостнее, чем откровенное пьяное тиранство.
Впрочем, Чипа в доме тогда еще не было, и по поводу дедова печального порока и едкого характера он не мог иметь сколько-нибудь определенного мнения.
Кстати, в связи с дедушкиной профессией инженера-путейца было бы непозволительно не упомянуть о том, что Чип однажды совершил путешествие по железной дороге. Когда семья получила вот эту новую трехкомнатную квартиру в пятиэтажном панельном доме на Ямском поле и, прежде чем в нее въехать, надо было ее капитально перестроить и отделать, все, в том числе, естественно, парализованный дед и Чип в своей клетке, выехали на лето на дачу в Купавну. В Москве остался один отец, который убил весь свой очередной отпуск, да еще взял месяц за свой счет, на ремонт этой первой в жизни семьи отдельной квартиры с совмещенным санузлом, балконом и мусоропроводом на лестничной клетке.
Впрочем, в тогдашней нервотрепке никто, даже бабушка, не запомнил, да и, честно говоря, не обратил внимания, как перенес Чип путешествие в поезде.
Когда, через сколько-то лет после смерти деда, Ольге впервые разрешили за праздничным столом попробовать красного вина, ей пришло в голову, что оттого-то и был таким красным, налитым кровью дедов неживой глаз, что пил он всю жизнь красное вино. Но из всего вышесказанного вовсе не следует, что деда в семье терпели с трудом или, того хуже, не любили. Или что он, в свою очередь, не любил Чипа. Правда, последнее никогда уже с полной точностью установить не удастся.
Отец относился к Чипу далеко не ровно. С одной стороны, как уже отмечалось, когда он принес его Ольге и увидел Ольгины широко распахнутые от восторга и счастья глаза и чуть потеплевшие, чуть смягчившиеся глаза ее матери – к тому времени его уже, собственно, бывшей жены, – ему поверилось, что рано или поздно вина его и грех будут если и не забыты и прощены, то хоть станут не так безжалостны; с другой же стороны, Чип был как бы постоянным, неумолимым напоминанием об этой его вине и более чем что-либо другое свидетельствовал, что нечего строить по этому поводу прекраснодушных и, если смотреть правде в глаза, совершенно тщетных иллюзий.
Вот почему, приходя к Ольге, отец не мог без душевного смятения и тоски глядеть на Чипа и слышать его фиоритуры.
Считалось, что отец «влип».
Слово это – «влип», как простейшее и все приводящее к общему знаменателю объяснение, пришло в дом извне, а именно, от ближайшей материной подруги Регины.
Чипа Регина не любила из глубоко принципиальных соображений. Она вообще считала, что брать от отца какие бы то ни было подарки – она говорила: «подачки» – предел унижения собственного (имелось в виду – материного) достоинства.
Дело в том, что в свое время Регинин муж тоже «влип», и ее не знающая удержу принципиальность произросла на горькой почве собственного опыта.
Эта недвусмысленная и не оставляющая никакой лазейки формулировка – «влип» – была безупречна тем, что с порога отметала самое предположение о возможности какой бы то ни было любви, страсти, душевного тяготения и прочего в этом роде. Влипнуть можно лишь в историю, точнее, если уж называть вещи своими именами, в дерьмо. Следовательно, все происшедшее можно – и должно! – объяснить лишь нравственной слепотой отца, с одной стороны, а с другой – расчетливой порочностью той, которая его увела от матери.
Таким образом, преступление отца как бы несколько умалялось отсутствием заранее обдуманного злостного намерения, а отсюда просто-таки логически вытекало, что, открыв ему глаза на неприглядную правду, его можно – и должно! – спасти, вырвать из хищных лап совратительницы и вернуть в лоно семьи, но при этом не прощать, никогда и ни при каких обстоятельствах не прощать! – напротив, денно и нощно напоминать ему о его вине, тыкать в нее мордой (еще одна выстраданная всей жизнью формулировка Регины), чтобы весь остаток своих дней он покорно и униженно ее искупал. Похоже, единственно с этой целью отца и следовало вернуть в лоно.
Будет ли лучше и покойнее от этого кому бы то ни было, в том числе хотя бы и самой матери, Регину совершенно не занимало: справедливость должна восторжествовать любыми средствами и любой ценой.
Считалось, что Регина – «цельная натура».
Чип Регину тоже не жаловал и замолкал всякий раз, как она приходила в дом. А она называла его всегда только в третьем лице: «эта птица».
Ольге же Чип, особенно в молодые его годы, напоминал соловья из андерсеновской сказки. Причем не того настоящего, живого, а другого – искусственного. Чип и вправду был почти ненатурально красив: празднично-желтая, блестящая от ежедневных купаний в блюдце с водой грудка, отливающие медью или даже, если угодно, чистейшим золотом спинка и крылья, бледно-коралловые хрупкие лапки с растопыренными перламутровыми коготками. Несомненно, все эти несколько вычурные и даже, может быть, выспренние сравнения тоже пришли из андерсеновской сказки.
Но главное в Чипе были его глаза-бусинки, поразительно осмысленные и пытливые.
А если прибавить к этому его пение, этот сокрытый в его груди нежнейший органчик, способный извлекать такие колоратурные изощрения, такое пленительное бельканто, то невольно приходило в голову, что он весь – произведение высокого вдохновения великого мастера, а не слепой игры природы.
Итак, как уже отмечалось выше, отец «влип».
Когда это случилось, мать, по совету той же Регины, ограничила общение отца с Ольгой одним разом в неделю, по пятницам, от трех до шести.
Но драконовский, как он был задуман, этот распорядок продержался недолго.
Во-первых, именно по пятницам отец нередко бывал занят либо же, наоборот, мать оказывалась как раз в эти часы дома, а весь смысл этого графика заключался именно в том, чтобы они не встречались.
Во-вторых, отец частенько забывал о времени и задерживался, и мать, вернувшись с работы, заставала его, и ей ничего не оставалось, как, демонстративно хлопнув дверью, запереться у себя в комнате.
В-третьих, позже, когда Ольга училась уже в четвертом классе, в шестом, в седьмом, отец занимался с ней математикой, физикой и прочими противопоказанными неокрепшему детскому уму отвлеченными науками и засиживался допоздна.
Однако со временем повседневная, все перемалывающая, все переиначивающая на свой живой лад жизнь стала брать свое, и отец уже чуть ли не через день, и даже без звонка, приходил в прежний свой дом.
А впоследствии случалось подчас и так, что они весь вечер проводили втроем – отец, мать и Ольга, или даже вчетвером – отец, мать, Ольга и бабушка, пили на кухне чай с бабушкиными оладьями с клубничным вареньем и смотрели по телевизору фигурное катание, «Клуб кинопутешествий» или еще что-нибудь такое, от чего нельзя оторваться.
Кстати, забота о корме для Чипа лежала на отце. В зоомагазинах на Кузнецком или на Арбате не всегда бывало в продаже конопляное семя или канареечная смесь, и отцу приходилось ездить на Птичий рынок, к черту на рога.
Аппетит у Чипа был завидный, но более всего он любил мелко-мелко нарезанную свежую морковь. Бабушка где-то прочла, чуть ли не в «Науке и жизни», что именно морковный витамин более всего необходим птицам в неволе. Ольга же терпеть не могла сырой моркови.
Впрочем, Чип не был свободен в выборе. Никто и никогда ему не предлагал, скажем, хрустящий картофель в целлофановом пакетике или, к примеру, изюм в шоколаде.
Конфеты и картофель приносил Ольге отец. Мать, особенно вначале, была этим крайне недовольна: дома девочку кормят простой и здоровой пищей, какую едят все нормальные дети, а отец пичкает ее бог знает чем, и получается, что каждый его приход превращается для Ольги в этакий, видите ли, праздник, а дни с мамой и бабушкой – серые будни!
Отец безропотно с ней соглашался, но хрустящий картофель и изюм или орехи в шоколаде или хоть те же бананы, торт «Прага» и пепси-колу приносить продолжал;
Кстати говоря, однажды, в отсутствие бабушки, отец с Ольгой дали Чипу поклевать орехов в шоколаде. Мигом с ними разделавшись, он долго и скандально требовал еще, и ничего такого с ним не случилось. Ольга не удержалась и проговорилась бабушке, та ужасно переполошилась и, вопреки абсолютной очевидности, утверждала, что наутро у Чипа стул был внушающий опасения.
И хотя Чип не заболел, бабушка никогда не могла простить Ольге и особенно отцу этого случая и даже когда, много времени спустя, Чип сломал левую лапку, она с непреклонной убежденностью связывала этот несчастный случай с теми давними орехами в шоколаде.
Но об этом – ниже.
Дед был интеллигентом, как он сам утверждал, не то в четвертом, не то в пятом колене, а бабушка происходила непосредственно от кустаря-гравера, делавшего до революции и некоторое время спустя памятные надписи на внутренней стороне крышек серебряных и золотых карманных (других, наручных, тогда, собственно, и не было) мужских часов фирмы «Лонжин» и «Павел Бурэ», а также на подстаканниках и реже на столовом серебре.
Сама же бабушка в юности работала в дорогом магазине игрушек и всяческих сувениров, а попросту говоря – всевозможных безделушек, принадлежавшем дальней своей богатой тетке, на бывшей Тверской.
Эта бабушкина тетка приходилась совсем дальней родственницей известному московскому купцу и владельцу фабрики золотой канители К. С. Алексееву. Впрочем, он был более известен под фамилией Станиславский и вошел в отечественную историю как великий реформатор русской – и не только русской – сцены.
Так что, работая в магазине тетки и частенько бывая и даже временами живя в ее доме, бабушка уже в ранней юности не раз и не два, по ее словам, общалась и с самим Константином Сергеевичем, и со многими прочими корифеями тогдашнего властителя дум, а именно – Московского общедоступного художественного театра.
Не отсюда ли проистекало раннее и столь сильное увлечение бабушки, а затем и деда, сценой, пусть даже и любительской?
От дедовых родных и предков – земцев, земских врачей, приват-доцентов и инженеров-изыскателей, прокладывавших в конце прошлого и начале нынешнего века первую Байкало-Амурскую железную дорогу, от их библиотек, собраний гравюр, картин и автографов знаменитых современников, от ореховой, обитой вытертой от времени кожей кабинетной мебели, писем, девичьих стыдливо-потаенных дневников и переписанных от руки в альбомы в темно-вишневых бархатных переплетах стихов Надсона и раннего Блока или Северянина и несложных фортепьянных пьес Скрябина и Стравинского – от всего этого ничего или почти ничего не сохранилось, не дошло до наших дней.
А вот от прадедушки-гравера и его жены, Ольгиной прабабки, дочери незадачливого купца, державшего некогда мелочную торговлю на том же Разгуляе, не говоря уж о бабушкиной тетке, владелице магазина дорогих безделушек на бывшей Тверской, от них, как это ни странно, осталось и пережило две, а то и три русских революции и уж никак не менее двух мировых войн бесчисленное множество разнообразных вещей и вещиц, заполнявших до самой бабушкиной смерти все полки, полочки, висячие шкафчики и высокие, черного, облупившегося местами лака тумбы в ее комнате.
Почему-то история необычайно и даже, если угодно, капризно, чтоб не сказать – слепо, избирательна в смысле того, что она оставляет и чего не оставляет в наследие грядущим поколениям на пепелищах великих переломов и смутных времен.
Бабушкина комната была битком набита фарфоровыми и фаянсовыми фигурками собачек всевозможнейших пород и мастей, жеманных пастушек, маркиз в пудреных париках, Пьеро, Коломбин и печальных Арлекинов, счастливых поселян и поселянок с розовыми щечками и васильковыми глазками, а также целой толпой пай-мальчиков в коротких бархатных штанишках и курточках с белыми отложными воротниками («маленькие лорды Фаунтлерои» – непонятно для Ольги называла их чохом бабушка).
У многих из них исторические потрясения поотшибали носы, тонкие, хрупкие пальчики, а некоторым даже головы, и они так и стояли, беспалые и обезглавленные.
Время не знает ни пощады, ни милосердия.
Кроме изделий массового, как бы мы сейчас сказали, производства из фарфора и фаянса начала века (именно так, кстати, и назывался этот несколько упадочный, чуть лениво-изнеженный эклектический стиль, а точнее – «модерн начала века», хотя, к слову сказать, по-французски тот же стиль называется «fin de siécle» – «конец века», что, по зрелом размышлении, лишний раз убедительно доказывает полнейшую относительность всех общепринятых систем координат и точек отсчета), кроме них на полках и за зеркальным стеклом огромного бабушкиного букового буфета (резьба по дереву: подстреленные утки с бессильно свисающими вниз головами на неестественно длинных шеях, ягдташи, патронташи, голова вепря с ощеренными клыками и прочий охотничий аксессуар) было еще превеликое множество коробочек и шкатулок из сандалового дерева, по сей день пахнущих тепло и нежно то ли самим старым деревом, то ли едва уловимым, тревожащим память запахом далеких, невозвратно канувших времен; зеленые на высоких изящных ножках два бокала старинного венецианского стекла; бронзовые или «под бронзу» настольные лампы в виде обнаженных наяд и Артемид с колчаном со стрелами на боку, на которые вместо былых абажуров с фестончиками и оборками были нахлобучены совершенно неподходящие самодельные колпаки из дешевого ситца; морские раковины с матово-розовым светящимся нутром, в котором, если приложить их к уху, все еще неистовствовал тропический океанский прибой, неизменно напоминавший бабушке Вертинского: «в бананово-лимонном Сингапуре».
А еще в бабушкиной комнате на круглом столе, покрытом с тех пор, как заболел дед, не старинной камчатной скатертью с тяжелой бахромой по краям, а обыкновенной клеенкой в крупную клетку, стояло лубяное лукошко и в нем пасхальные яйца: стеклянные – зеленые и синие, приятно-прохладные даже на вид, празднично расписанные деревянные и просто оставшиеся с прошлогодней и даже позапрошлогодней пасхи обыкновенные крашенки.
Более всех в семье любил эту не такую уж древнюю, с исторической точки зрения, старину не кто иной, как Чип.
Дело в том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпускали полетать по комнате. Самое странное, что эта идея принадлежала именно бабушке. Странно потому, что, скажем, к Ольгиной свободе и самостоятельности бабушка относилась куда более сурово: вплоть до четвертого класса бабушка неукоснительно провожала Ольгу в школу, хотя та находилась в двух шагах от дома и улица была тихая, с односторонним движением; более того, даже во дворе Ольге разрешалось гулять исключительно под бабушкиным присмотром, и именно бабушка с достойным удивления упорством сопротивлялась, к примеру, покупке велосипеда или коньков – зимою во дворе заливали водой баскетбольную площадку и ЖЭК даже нанял, правда за счет родителей, тренера по фигурному катанию.
А вот Чипа бабушка поначалу выпускала почти ежедневно из клетки, предварительно захлопывая наглухо дверь на балкон и все окна и форточки, чтобы он не улизнул на улицу.
Чип с нескрываемым восторгом, мелко и шелковисто шурша на лету лимонно-желтыми крыльями с более светлой, почти белесой изнанкой, совершал облет бабушкиной комнаты.
Вот тут-то и обнаружились его художественные, чтоб не сказать эстетические, пристрастия: он садился исключительно на головы пастушек и фаунтлероев, обожал блестящие пасхальные яйца, отдавал должное экзотическим раковинам и, если буфет оказывался случайно открытым, венецианскому стеклу, но с совершеннейшим пренебрежением относился к предметам современного обихода, даже если это был бюстик Бетховена или фигурка гоголевского Собакевича, изготовленные, к слову сказать, из того же фаянса.
Впрочем, о вкусах не спорят, даже если речь идет о вкусах молодого, мало что успевшего повидать в жизни, да к тому же и воспитанного в неволе кенаря.
Кстати говоря, самое время и место упомянуть без ложного стыда или ханжеского лицемерия, одной нелицеприятной правды ради, что до конца Чиповых дней пол его так и не был установлен с достаточной степенью точности. Утверждение отца, будто высокое искусство пения под силу только кенарям, то есть особям исключительно мужского пола, ни в Большой Советской Энциклопедии, ни у Брокгауза и Ефрона подтверждения не получило, а специальной литературы по орнитологии в доме не было.

