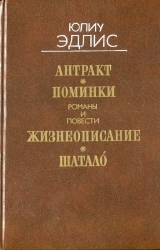
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
Кто-то все-таки принес ей маслины, кто-то успел, подумал он и знал, кто это сделал за него.
В пятницу тетю Маню похоронили на старом кладбище в Навтлуге, рядом с рынком и новой станцией метро, все было совершено быстро и споро, и, когда все было кончено, он сказал девочкам-жиличкам, что непременно сам позаботится о памятнике, специально приедет для этого из Москвы, и дал себе слово, что сделает это.
Мальчика на похоронах не было, но он мысленно как бы взял его в свидетели и поручители своего обещания поставить на могиле тети Мани памятник.
Потом он нашел выход с кладбища и окунулся с головой в живой, настырный мир базара, в его крикливую, не помышляющую о смерти и вечности сутолоку.
На бедных – пришло всего несколько соседей – поминках по тете Мане он то и дело встречался глазами со взглядом Норы и понял, что она его с самого начала узнала и все ждет, что он и сам с ней заговорит и все вспомнит.
Он и вспомнил все, сидя напротив нее за уставленным нехитрой закуской поминальным столом.
Грехопадение его – это, наверное, именно так, забытым в наши времена словом и следовало назвать – совершилось в заброшенной гимназической церкви, летом, между девятым и десятым классом, в каникулы. Впрочем, подумал он, как бы защищаясь от чего-то, никакого следа, кроме долго мучившего его чувства собственной нечистоты, оно в нем не оставило.
Узкая и шаткая железная лестница вела на хоры, под самую крышу, где толстый слой пыли и птичьего помета покрывал деревянный рассохшийся настил. На балках кровли гнездились голуби, воздух был до того горяч и плотен, что дышать тут было вмоготу только молодым легким.
Вот сюда-то, на этот прямо-таки пышущий жаром, словно раскаленная духовка, чердак, в его застоявшийся, шуршащий голубиными крылами сумрак, однажды знойным бесконечным летним полднем и привела его Нора.
Намекнула, поманила, и он покорно и тупо, словно налившись свинцом тошнотворно-сладкого дурмана, последовал за нею, ступени прогибались и раскачивались под их, его и Нориными, шагами, и он, поднимаясь следом за ней, только и видел что ее стоптанные, со сбившимися на сторону каблуками босоножки на деревянной подошве.
Все, что произошло затем в удушающем пекле чердака, на дощатом настиле, покрытом мягкой, горячей пылью, затвердевшими сизыми комками голубиного помета и жеваными, докуренными до картонного мундштука „бычками“, этот первый в его жизни урок любви и греха – все это потом долго вспоминалось ему как что-то такое опаляюще, угарно постыдное и порочное, что хотелось все забыть и защититься от неумолимой памяти.
Сидя напротив друг друга за небогатым столом, они с Норой не обменялись ни словом. Но после поминок она вышла проводить его во двор и, лишь остановившись проститься в воротах, спросила:
– Так ты хорошо живешь? Мне говорила тетя Маня, пусть земля ей будет пухом.
А он вдруг, неизвестно с чего, почувствовал смутную, но настоятельно требующую покаяния вину перед нею:
– Нора, я потому ни о чем с тобой так и не поговорил, что…
Но она не дала ему досказать:
– Говорить – зачем?.. Я и так все знаю – где ты и где я…
Он не нашелся, что возразить на это, и она, так и не дождавшись его ответа, усмехнулась:
– Зачем говорить, если ничего не помнишь?..
Двор был плохо освещен, и ему было не видать ее лица, и потому он так и не понял, что она имеет в виду и то ли укоряет его, то ли просто улыбается в темноте.
– Я все помню, но»..
Она опять не дала ему договорить:
– Зачем «но»?. Я просто все помню, хотя тоже – зачем?.. Я все хорошее помню, так мне больше нравится. Хорошего в жизни не много, надо беречь, разве не так?
И на это ему тоже нечего было возразить.
Они оба, не сговариваясь, повернули головы в глубь двора и не столько увидели, сколько угадали в сгущающейся темноте купол бывшей гимназической церкви.
Он вышел из ворот и поднялся Поточной улицей к подножию Мтацминды, но не воспользовался старым фуникулером, пошел пешком по широкой, осыпающейся под ногами каменистой тропе-серпантину, мимо Пантеона – он вспомнил краем памяти надпись на гробнице Грибоедова: «…но для чего тебя пережила любовь моя?..» – и оказался на плоской вершине Давидовой горы. Здесь было гораздо светлее, чем внизу. Он прошелся по пустым уже в этот поздний час аллеям, подошел к парапету и долго глядел вниз, где, сколько хватало глаз, в дробной россыпи желтых, красных, синих и фиолетовых вечерних огней, прорезаемой короткими, искристыми вспышками трамвайных и троллейбусных дуг, тесно раскинулся город.
Мальчик стоял рядом и молчал, опершись локтями на балюстраду и подперев ладонями подбородок. Огни внизу нежно и робко перемигивались, и не хотелось говорить чтобы не нарушить голосом и словом эту покойную, кроткую нежность.
Город стал впятеро больше против того, каким был раньше, раздался, ушел за горизонт, а ведь прежде отсюда, с вершины Мтацминды, было видно, где он кончается, и окрестные деревни тоже были видны. А невысокие, пологие горы, обрамляющие чашу долины, были не зеленые, как сейчас, а песчано-желтые и бурые с тех давних пор, как, по преданию, кто-то из кавказских наместников из страха перед набегами абреков-лезгин велел вырубить вокруг города леса. Впрочем, очень может быть, что это произошло и гораздо раньше, во времена неисчислимых нашествий персов или турок. А теперь деревья вновь выросли, и к прежним краскам, присущим городу, пепельно-сиреневой, палево-охристой, блекло-голубой, прибавилась еще эта малахитовая и изумрудная зелень молодого леса.
Вечер мягко и неспешно гасил краски, они становились еще нежнее и текучее, прозрачное марево стояло над городом, уплотняясь, густея на глазах, и ярче, отчетливее стали огни внизу. Мальчик глядел напряженно и сосредоточенно вниз и направо, в сторону Сололак, и, следуя за взглядом мальчика, он тоже посмотрел туда – там, на Мачабели, жила когда-то Капелька.
Он и мальчик долго молчали, завороженные игрою ночных огней. Потом он все-таки не удержался и спросил:
– Ты помнишь Капельку? – И тут же сообразил, что Капельку мальчик не может помнить, потому что он не знает еще, что она умерла, и она для него все еще жива. И ему вдруг пришло в голову, что в самом его вопросе, в самом знании того, чего мальчику еще знать не дано, было что-то очень похожее на предательство.
Надо было и это как-то мальчику объяснить, все рассказать начистоту, исповедаться и неведомо в чем повиниться, но сделать этого он все равно не смог бы: мальчика уже не было рядом, как и города с его мерцающими внизу огнями, а было в играющих на серо-голубой глади лучах только что вставшего солнца – море.
Это было в предпоследний год войны и через два года после смерти Капельки.
Очень может быть, что к тому времени мальчик успел уже забыть Капельку, в том его возрасте все проходит и забывается быстро и почти безболезненно, на молодом теле раны и ссадины зарубцовываются легко, шрам зарастает новой, молодой кожей, и его уже и не различить, и только через много лет – вот как сейчас – вспоминаешь о нем, и он начинает саднить, напоминая о забытой утрате.
Он поехал тогда в пионерский лагерь в Махинджаури и впервые в жизни увидел море. Он с полнейшей ясностью вспомнил, даже не просто вспомнил, а как бы пережил вновь и с новой, удесятеренной силой и живостью свое тогдашнее потрясение, когда на рассвете – их привезли в лагерь ночью, и моря они не увидели, только слышали из автобуса и потом из палаток его однообразный, немолчно и мерно рокочущий голос, а утром он проснулся первым, еще и солнце не встало, в каком-то необъяснимом лихорадочном возбуждении, в радостной тревоге, – когда он на рассвете вышел из палатки и наугад, на шум прибоя, продравшись сквозь густые заросли высокого, в два его тогдашних роста, бамбука, вышел на крутой берег, сбежал по узкой тропинке вниз и вдруг оказался с ним лицом к лицу. Море лежало бескрайнее, ничем не стесненное, даль была скрыта предрассветной дымкой, и горизонта было не видать, и оттого казалось, что море сливается с небом, что небо над головой – это то же море, только опрокинутое вверх ногами.
Все в мире было морем, мерцающим нежно-серым, бледно-голубым покойным блеском, на котором вспыхивали навстречу встающему солнцу серебряные гребни мелких и плоских волн, и все это напомнило ему бабушкино, из далекого детства, платье из серого, мягко струящегося и матово отблескивающего на сгибах шелка.
Завороженный, он вошел в море по лодыжки, по колено, по грудь, он так бы шел и шел до невидимого горизонта, но тут вдруг оступился на галечном неровном дне, невольно повернулся лицом к берегу – и ахнул: берег был так же прекрасен, как море, очень может быть, что он тоже был морем, потому что так прекрасно могло быть только море. Весь крутой прибрежный склон был объят фиолетово-голубым, сиреневым, лиловым пламенем цветущей гортензии, обрушивающимся водопадом на узкий пляж, и сладковатый, душный предутренний запах цветов мешался с солоноватым, свежим, терпким – моря.
Он стоял рядом с мальчиком по грудь в воде, она снисходительно пошлепывала их сильными мягкими ладонями, обтекала их тела, будто снимая с них форму для отливки будущей бронзовой от загара статуи, легонько их покачивала, и от этого кружилась голова и мир вокруг казался зыбким и неустойчивым.
В глазах мальчика было такое радостно-испуганное выражение, такая восторженная растерянность перед не вмещающимся в нем непостижимым этим и бескрайним миром, такой страх, как бы это все не оказалось вдруг оптическим обманом, летучим миражем или просто-напросто несбыточным сном, приснившимся ему на рассвете, что ему стало жаль мальчика, и еще он позавидовал ему: сколько же еще ему предстоит вот так удивляться, не верить собственным сбывающимся снам, сколько же ему еще глядеть на мироздание вот такими же испуганно и радостно раскрытыми глазами! И сколько совсем иных, куда более суровых испытаний, на которые так щедра жизнь, потребуется, чтобы погасить в них жадный, бескорыстный блеск ожидания и неведения.
Они поплыли, мальчик и он, мерно и неспешно разгребая руками плотную воду, плыть было легко, сейчас они были опять одно и видели все вокруг одними и теми же глазами, но он и тут знал наперед то, чего мальчик знать не мог: что им и на этот раз, и вновь, и опять, а однажды – навсегда предстоит разделиться и расстаться, но даже это не могло иметь никакого значения, потому что жизнь знает свое дело лучше нас.
За год до этого Леван, одноклассник и первый друг, привел его в спортзал «Динамо» в секцию бокса – в ту пору, в последние военные годы и первые послевоенные, когда страна начала понемногу отходить от войны, бокс снова стал властителем мальчишечьих дум. Тем более что в сорок третьей школе учителем физкультуры был предвоенный чемпион в наилегчайшем весе – тогда это называлось «вес мухи» или «вес пера» – Зураб Канделаки, а секцией в «Динамо» руководил тяжеловес Сандро Навасардов, единственный достойный соперник на ринге великого, уж и вовсе почти мифического Николая Королева.
Они пошли записываться в секцию втроем – Леван, он и Гия Арошидзе, но на первой же тренировке Гия повернулся к противнику спиной и стал меленько и трусливо улепетывать от него вдоль канатов ринга, и тот никак не мог его настичь и коснуться огромной, словно палица неандертальца, перчаткой. Навасардов тут же, не раздумывая, отчислил Гию из секции и даже не посмотрел ему вслед, когда тот, посрамленный и глотая слезы стыда, шел к выходу из спортзала.
Однажды физрук пионерлагеря принес на линейку две пары старых боксерских перчаток и поинтересовался, нет ли среди ребят кого-нибудь, кто занимается боксом. Оказалось, что еще один мальчик, заводила, драчун и любимец всего лагеря, тоже ходил в секцию.
Физрук отмерил шагами квадратную площадку у флагштока, весь лагерь выстроился вдоль четырех сторон этого воображаемого ринга, бой был назначен из трех раундов, по две минуты каждый.
Господи, до чего же он тогда казался самому себе один-одинешенек на всем белом свете! Весь лагерь беззастенчиво болел за его противника. Несмотря на оглушительный ор, стоявший вокруг, он слышал, как гулко, вот-вот вырвется из ребер, бьется его сердце и собственное свистящее дыхание, но слезы из глаз были не от боли ударов, не от усталости или страха, а от сознания этого своего полнейшего одиночества, малости и затерянности своей в огромном и пустом чужом мире.
Он не сомневался, что проиграет.
В перерывах между раундами он уходил за живой квадрат зрителей и садился на скамейку перевести дыхание, в то время как вокруг его соперника бурлила и громко выражала свои восторги толпа болельщиков.
Во втором перерыве к нему подошел физрук и спокойно, почти равнодушно сказал:
– По очкам ты впереди. Не мандражь, все нормально.
Но он и не мандражил, потому что наперед знал, что все равно проиграет, как бы ни старался и сколько бы очков ни набрал, потому что есть ли на свете поражение горше и окончательнее одиночества?..
Но, и примирившись с неизбежностью проигрыша, он бился до последнего, с лютым остервенением.
Исход боя должен был решиться не судейством физрука, а решением большинства зрителей. И тут произошло нечто совершенно неожиданное для него, на что он и надеяться-то не смел: все в один голос отдали по справедливости победу не своему кумиру, а ему с великодушием истинных ревнителей честной мужской борьбы.
Может быть, пришло ему в голову, именно тогда-то я и поверил и буду, по всему видать, верить до конца своих дней, что, вопреки всему, справедливость в этом мире все-таки в конце концов торжествует.
Но, и присудив ему победу, все, однако, тут же его покинули и пошли гурьбой утешать побитого, побежденного, но не поверженного в их глазах своего любимца, а о нем, победителе, напрочь забыли.
Он пошел, шатаясь от изнеможения, по тропинке к морю, рухнул на гальку пляжа и долго плакал, бессильный унять слезы, потому что понял на своей шкуре – вот еще один урок, извлеченный на всю жизнь из тех коротких трех раундов боя, – что ни одна твоя победа не стоит платы, которую ты за нее уплатил.
Он сидел на жарко нагретой гальке, море сочувственно и едва слышно плескалось у его ног, а он все никак не мог успокоиться и беспомощно, горько – хоть и прошла с того дня целая жизнь – плакал, когда к нему подошел мальчик, сел рядом на корточки и ничего не сказал, не стал его утешать и золотить пилюлю, просто сидел рядом и молчал, бросая плоские камешки в воду, но и этого его. молчания и того, что он рядом, было довольно, чтобы одиночество притупилось и отступило и мир вокруг вновь вернул себе все неистовство своих красок.
Он спустился один с Мтацминды, была уже ночь, пошел было к себе в гостиницу, но всякий раз, дойдя до поворота к ней, не решался покинуть ночной город. Ему казалось, что, запершись в своем номере, он упустит этой ночью что-то очень важное, что одно может пролить свет на все, чем он страждет, и, не загадывая – куда, снова и снова кружил по безымянным в темноте улочкам и тупичкам, где из распахнутых настежь окон слышались неусыпные голоса – напряженно-контральтовые женские и гортанные, хрипло вибрирующие мужские, там смеялись, переругивались, выясняли отношения и объяснялись чуть выспренно в любви, подсчитывали дневную выручку и маялись старческой бессонницей: город и не думал засыпать.
Он дошел до Оперы и остановился у тумбы с афишами: «Трубадур», «Абессалом и Этери», «Тоска», «Кармен», «Паяцы»… – репертуар не слишком изменился, музыка одна упрямо не поддается переменам.
Гиина тетка работала в опере суфлером. Она-то и пристроила их, его и Гию, подрабатывать в массовке. Дело было нехитрое, а платили по-царски: тридцать рублей за выход Правда, теперь-то, после двух денежных реформ, эти тридцать рублей обернулись бы тридцатью копейками, но тогда, даже при жуткой дороговизне на все, чего нигде, кроме как на черном рынке, было не достать, это были какие-никакие, а деньги, которых им вполне хватало на папиросы «Темп» – рубль штука, семечки, воду с сиропом на сахарине «у Лагидзе» и ежедневное, как восход и заход солнца, кино.
В массовых сценах они с Гией изображали то пейзан, шумно радующихся приезду бродячего цирка в «Паяцах», то восторженных поклонников корриды в «Кармен», то пай-мальчиков в бархатных кафтанчиках, в шелковых чулках и башмаках с серебряными пряжками на роковом балу у Лариных, то чертенят в «Вальпургиевой ночи» и прочее в такое же роде. Желающих пробиться на сцену было пропасть, и если бы не Гиина тетка, им бы, по ее же выражению, никогда не увидеть огней рампы.
Слепили глаза прожектора и софиты, гремела из оркестровой ямы музыка, толстые тенора в туго, вот-вот лопнут, обтягивающих их круглые, как арбузы, животы широких шелковых поясах и с красными от натуги плоскими лицами стояли как вкопанные на авансцене, не сводя глаз с дирижера в видавшем виды, лоснящемся фраке. За спиной дирижера все тонуло в непроглядной тьме огромной, пугающей пещеры зала, только в первом ряду угадывались бледными пятнами лица зрителей, пахло пропыленным сукном кулис, острым, кислым потом балерин кордебалета, сладковатыми запахами грима и вазелина. Как только раздвигался тяжелый темно-зеленый бархат занавеса, руки и ноги сводила судорога оцепенения, они делались как деревянные, обильно стекал по лицу пот, смывая грубо положенный грим и щипля глаза, взрослые артисты миманса больно заталкивали тебя локтями назад, чтобы самим протиснуться поближе к рампе, в антрактах и после конца спектакля в гримуборных было так тесно и душно, что потом, выйдя на улицу, он никак не мог надышаться свежим ночным воздухом. После первого спектакля Гиина тетка, поджидавшая у служебного подъезда, поздравила их почему-то с «боевым крещением». И это-то в те времена, когда боевое крещение означало нечто совсем иное, геройское и связанное непременно с опасностью для жизни! Но возражать тетке они не стали.
Напротив Оперы, у входа в бездонный, казалось, подвальчик и сейчас, далеко за полночь, торговали цветами – бледные в темноте гвоздики, грустно-желтые нарциссы, мерцающие белым восковым свечением каллы.
В переулке в булочную как раз привезли свежий, еще горячий ночной хлеб, хлеб еще дышал жаром печи, и запах его душно растекался по безлюдной улочке. Больше нигде в мире не торгуют хлебом в такой полночный час, подумал он с благодарностью, и, ладонью ощущая живое тепло хлеба, шел по улице, неторопливо отщипывая от него кусок за куском, и над ним, словно невидимый нимб, стояло облачко хлебного духа.
У круглого здания новой Филармонии сидело несколько молодых людей, один из них негромко, словно боясь нарушить тишину, пощипывал струны гитары, у гитары был такой же низкий, мужественный, голос, как и у поющих, они пели тихо, не для других – для себя и так слаженно и стройно, будто долго спевались.
По их голосам и по выводимой ими мелодии, неспешной, сдержанно печальной, – чуть хрипловатый низкий голос ее зачинает, ведет, потом к нему присоединяется второй, оба голоса как бы берутся за руки, помогая друг другу взбираться все выше и выше, их догоняют и братаются с ними третий, четвертый, пятый, а вот, наконец, и последний, самый высокий, почти фистулой, но все равно мужественный и сильный, – по мелодии и голосам он ясно представил себе этих молодых, статных, со смелыми и вместе почтительными глазами, узкобедрых, крепконогих юношей, и вдруг он мысленно увидел их не в модных нынче джинсах, не в пестрых рубашках и батниках в обтяжку, а в ладно, словно влитые, сидящих на них темно-синих форменных пиджаках с разрезом сзади, с серебряными шевронами в виде крылышек вразлет на груди и на левом рукаве, рука в кожаной перчатке, и в ней зажата другая перчатка, узкая синяя пилотка с серебряным «крабом» над самым переносьем сидит чуть набекрень.
Тех уж нет, подумал он с чем-то похожим на запоздалую и благодарную зависть, из них мало кто уцелел…
Как он завидовал им тогда, этим мальчикам из летной спецшколы!.. Не училища, а именно школы, пятнадцати и шестнадцатилетним юнцам, чуть постарше, чем был он сам в те годы. Как он завидовал им, стройным и ловко уверенным в себе, небрежно и чуть надменно помахивающим на ходу кожаной перчаткой, зажатой в левой руке. На школьных вечерах девчонки из старших классов женской школы танцевали только с ними, им одним позволяли провожать себя домой, и цокот первых в их девчачьей жизни каблучков едва поспевал за размашистым, пружинящим шагом завтрашних Чкаловых и Покрышкиных, в темноте светились серебряным огнем шевроны-крылышки, и девичий, чуть понарошку оживленный смех мешался в тени акаций с еще ломающимися басками их кавалеров.
Мало кто из них вернулся оттуда, с Клухорского перевала. Тогда, поздней осенью сорок второго, говорили, что – ни одного, но это скорее всего было преувеличением, легендой. Кто-нибудь да вернулся, кто-нибудь да остался цел, кого-нибудь пуля миновала. Кто-то из них, уцелев тогда и сменив потом синий мундирчик на гражданский, с годами все более мешковато сидящий пиджак, постарев и обрюзгши, доживает свой век под какой-нибудь из этих городских крыш, а может статься, что хоть кто-то из юношей, так слаженно и негромко поющих у Филармонии, как раз сын или даже внук одного из тех, кто уцелел тогда на Клухорском перевале.
А очень может быть, что это было вовсе и не на Клухоре, а где-нибудь еще в горах или предгорьях, но Клухор тогда для Закавказья значил почти то же, что там, на Волге, – Сталинград. Во всяком случае, это слово значило куда больше, чем просто название перевала.
Господи боже мой, вспоминал он с щемящей, светлой печалью, подумать только – война, самые тяжкие ее дни, немцы – в двух шагах, по ту сторону гор, в витрине рядом со штабом Закфронта на карте военных действий красные флажки, что ни день отступают все дальше на восток, к Волге, а на школьных вечерах мы все равно, наперекор всему танцуем под разбитое пианино или под дребезжащий, искажающий до неузнаваемости голоса и мелодию патефон – «Хау ду ю ду, мистер Браун», «Сыграй мне лунную рапсодию…», – играем во «флирт цветов» и пишем записки девочкам, не слишком уверенно кружащимся в вальсе на высоких каблуках материных «лодочек», чудом избежавших барахолки, и влюбляемся, и ревнуем наших ветрениц к спокойно-уверенным в себе, сдержанно-горделивым мальчикам из спецшколы, и строим планы на будущее, далекое и недостижимое, как какое-нибудь созвездие Гончих Псов, и острим, и смеемся до колик собственным шуткам, и жизнь наша только начинается, и нет, не может быть ей никакого конца и предела…
Может быть, поэтому тоже – «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».
Он вспомнил, как плакал в классе на уроке литературы «Сансаныч» Савинов, когда пришло известие об их гибели, – он преподавал словесность и им, в спецшколе. Он приходил на уроки в такой же, как у них, шинели с серебряными крылышками на рукаве и форменными пуговицами, и на околыше его по штатски мятой фуражки был такой же, как у них на пилотках, «краб». Он был еще не дряхлый старик с аккуратным клинышком седой бороды и с глуховатым голосом, и было странно и неловко видеть, как трясутся у него плечи и как он весь будто обмяк и осел, когда плакал навзрыд перед всем классом в день получения известия о гибели своих учеников.
Тогда в городе говорили, что один из дней осени сорок второго, когда все было – на краю, на последней черте, их, старшеклассников спецшколы, выстроили во дворе, дали каждому по винтовке образца 1893 года, системы Мосина и направили форсированным маршем на перевал, в самое пекло, и они не дрогнули и не вернулись оттуда.
Говорили, что многие годы спустя там, на перевале, туристы все еще находят то стреляные гильзы от «трехлинеек», то латунные пуговицы с крылышками вразлет, то потускневший, полуистлевший «краб». Так ли это или не так, но есть правда, которую не нужно перепроверять и искать ей неопровержимых улик и доказательств, потому что это правда не одного только непреложного факта, а нечто гораздо большее, и в это нужно просто верить.
Где-то в неразличимом дальнем конце улицы шли – тишина чутко сберегала все звуки – несколько девушек в модных в то лето туфлях на деревянной платформе, шаги дробно и вразброд отдавались от асфальта: трик-трак, трик-трак, трик-трак…
Этот резво отскакивающий от стен спящих домов и удесятеренный эхом звук – трик-трак, трик-трак – разбудил и поднял со дна памяти вот что: длинная, по четыре в ряд, колонна пленных немцев – уже идет сорок третий год, сорок четвертый, предпоследний, – шагает центром города, и так каждое утро и каждый вечер. Немцы идут из своих казарм где-то на окраине города на стройку в верхнюю его часть, в сторону Коджори.
По утрам он просыпался пораньше, чтобы успеть сбежать вниз к тому времени, когда там будет проходить колонна пленных. Другие колонны вышагивали по другим улицам, и в этот час над городом стоял дробный, сухой стук по асфальту тысяч ног, обутых в самодельные сандалии на деревянном ходу: вырезанная из еловой или сосновой доски подошва, ничем снизу не подбитая, да две, крест-накрест, перепонки, выкроенные из солдатского ремня.
Он стоял на обочине тротуара вместе с прочими любопытствующими и, как и они все, недоверчиво глядел на шагающую не в ногу колонну и был не в состоянии, в голове не укладывалось, поверить в то, что видел: вот они, смертельные враги, еще вчера стоявшие на Волге и на Клухорском перевале, страшные, не знающие пощады и жалости, ненавидимые всеми силами души, и ненависть эта была сполна оплачена тремя долгими годами унижений, отступлений и неистребимой надежды тогда, когда и надеяться-то уже не на что было, – вот они?! Вчерашние победители и покорители – в этих деревянных «трик-траках», в коротких шортах и майках, оставляющих открытыми здоровые, молодые – главное, молодые, совсем юные! – загорелые дочерна на стройке ноги, плечи, руки… Поражало и не верилось тому, что они оказались просто молодыми и нормальными парнями, некоторые даже – мальчишками, одним словом, обыкновенными людьми.
Три года питались его вера и жажда справедливого воздаяния одним этим – ненавистью, гневом и презрением к врагу, и он знал, что имеет на то святое, неотъемлемое право. Мальчик, стоявший с ним рядом, тоже молчал и прятал глаза, не решаясь поверить происходящему.
Колонна прошла, цокот деревянных подошв удалялся, замирал, становился глуше, теперь это опять были всего-навсего деревянные сабо, голоса и смех веселых и беззаботных полуночниц в дальнем конце улицы.
Мальчик все еще стоял рядом. Он обнял его за плечи и подумал, что теперь-то уж непременно должен рассказать ему главное – то, ради чего, собственно, и не вернулись с перевала те мальчики в синих пиджаках с серебряными шевронами или вернулись не все: она все же кончилась, война, мы победили, и был тот майский, оплаченный сполна день, и что мальчик – счастливчик, потому что у него этот день еще впереди.
Он чувствовал ладонью, какие у мальчика еще не окрепшие, хрупкие плечи, как он беззащитен и уязвим, и подумал, сколько еще всякого свалится на эти его плечи и какими они должны будут стать крепкими и нечувствительными, чтобы все вынести и не дрогнуть, потому что, кроме того майского солнечного дня, ему еще предстоит и целая жизнь… Наутро он вызвал такси и, минуя Мцхета и Светицховели, поднялся на Зедазени.
Было воскресенье, какой-то храмовый праздник, и на залитом ярким солнцем и потому казавшемся беспечно веселым кладбище в Мцхета было полно народа, сидели живописными, многофигурными семейными кланами вокруг могил, расстелив на траве скатерти белое на зеленом, источали потоки крупных, до рези в глазах, искр грани стаканов, алело в них густой невинной кровью вино, принесенное в бутылках с высокими горлышками, заткнутыми вылущенными кукурузными початками, золотились продолговатые домашние хлебцы: поминали усопших.
И даже на Зедазени, на головокружительной поднебесной высоте, откуда видна чуть не половина этой богу угодной земли, вокруг древней церквушки, такой величественно малой и одинокой, были люди, сидели кружком за расстеленными скатертями с поминальной трапезой, и он не пожалел, что приехал напоследок именно сюда.
Он вошел в церковку, перед темными, уже неразличимыми ликами теплились две свечи, и в прохладной тишине было слышно, как потрескивают язычки желтого робкого пламени, слегка дрожала и колебалась его собственная, без четких очертаний, тень на стене.
В узкую прорезь двери ломилось и никак не могло вломиться внутрь огромное, во всю землю, сияние солнечного полдня, неслышно прошуршала по плитам пола наружу, к свету и теплу, ящерица.
Он вышел из церкви на свет, далеко внизу лежала зеленая, и бурая, и пепельно-желтая земля, воздух над ней дрожал и струился, и оттого казалось, что и мир внизу – горы, пастбища, виноградники, желтые созревающие поля и недостижимый горизонт – тоже струится и течет неведомо куда, медленно вращаясь вокруг недвижной, как стержень мироздания, Зедазени.
И вот что еще надо растолковать мальчику, думал он, не вмещая в себе неохватный окоем внизу, вовсе не в том дело, не в том суть, что я достиг всего, о чем и мечтать, может быть, не смел тогда, сорок лет назад, это-то ничего не меняет. Как и то, что я стал именно тем, кем мечтал стать в те времена, – достигнутая окончательно, бесповоротно цель каким-то странным, необъяснимым образом перестает быть самой собой, превращается в нечто очень смахивающее на собственную свою противоположность… И пусть, пусть! – очень важно растолковать это мальчику, хоть и по его ли слабым силенкам вековечный этот парадокс?! – пусть меж целью или мечтою и тем, чего ты достигнешь, добившись ее, если не пропасть, то уж по крайней мере выжженное поле, пепелище ошибок и разочарований – все это лишь оборотная сторона правды, ее изнанка, всего лишь малая, хоть и неотвратимая ее половина, а вся правда в том, что надо жить, и жизнь – одна, и ничего прекраснее ее у нас нет, и выбора нам тоже не дано.
А на то, чтобы помнить об этом, на нас и возложено бремя памяти. Он сошел вниз, к дороге, разбудил дремавшего на заднем сиденье таксиста и вернулся в город.
Мальчик больше не появлялся, и он пробродил весь остаток дня без устали по городу, потом вернулся в гостиницу, заказал на утро машину в аэропорт, расплатился за номер и едва лег в постель, как уснул крепким, без сновидений и воспоминаний сном, а на рассвете его разбудил звонок администратора, но он и без него уже проснулся и был бодр и свеж, и не было во рту привычного утреннего ржавого привкуса и вялой, скучной мысли, что вот – надо начинать опять все сначала. Он запаздывал – регистрация в аэропорту уже закончилась, и ему пришлось с чемоданом в руке идти в одиночку через все летное поле к самолету. Воздух над самолетом, прогретый запущенными уже двигателями, струился восходящими потоками, опять, как вчера на Зедазени, горизонт, а вместе с ним и весь мир тоже струился и тек неведомо куда.

