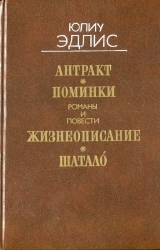
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Жертвами предрасположенности, или, точнее, пристрастия Чипа к «модерну начала века», или, как уже отмечалось выше, к «fin de siécle», стали два старинных – к счастью, не те, венецианского стекла, а обычных хрустальных – бокала и групповая фарфоровая композиция, изображавшая счастливое пейзанское семейство. Композиция упала на пол, и многодетная семья еще недавно таких беспечных поселян оказалась расчлененной в прямом и фигуральном смысле слова: мать лишилась любимых чад, а все вместе – отдельных частей тела.
Склеить эту фарфоровую идиллию отказались даже в специальной мастерской на Красной Пресне.
В этих хранившихся в бабушкиной комнате совершенно, казалось бы, бесполезных безделках была жива и как бы даже носилась в воздухе чуть ностальгическая, трогательно-минорная память об иных временах, иных людях, об ином и позабытом житье-бытье.
Итак, отец «влип».
Впрочем, об этом несколько ниже.
Итак, Чип летал по бабушкиной комнате.
Забегая вперед, следует сказать, что эти его полеты, эти если угодно, краткие, но «сладкие глотки свободы» пришлось, к сожалению, прекратить, и не по одной, а по двум не зависящим от чьей бы то ни было злой воли причинам: во-первых, по уже упомянутой выше, а именно – разбитые хрустальные бокалы и разъятая на невоссоединимые части семейка фарфоровых поселян. Во-вторых же, Чип сломал ногу.
Сейчас, однако, важно другое.
Важно, как относился к этим полетам Чипа дед.
Когда Чип возник в доме, дед уже был безнадежно прикован к постели. Впрочем, это только так говорится – прикован к постели. Он действительно большую часть времени проводил на своей длинной и узкой кровати, к тому же очень высокой, так что даже дед, при своем довольно-таки внушительном росте, сидя на ней, едва доставал пятками до пола, но раза два или три на дню его высаживали в кресло. Это было дачное кресло из дюралевых гнутых трубок и натянутой на них толстой, шершавой парусины. Отец приделал к ножкам четыре колесика на подшипниках, кресло стало, как выразилась Регина, «мобильным», и деда, кроме всего прочего, возили на нем в туалет.
Когда деда высаживали в кресло и он сидел в нем, скособочившись на правую, больную сторону и вперившись единственным своим невредимым глазом с тоскою и жадностью за окно (хотя никто не мог с уверенностью знать, видит ли он что-нибудь там, за окном, а если и видит, отдает ли себе отчет в том, что видит), – бабушка про него совершенно серьезно говорила: «Дед гуляет».
А Чип, бывало, летал в это время по комнате.
Деда плотно укутывали до самого подбородка одеялом, края которого еще и подтыкали под него с боков, как будто от взмахов Чиповых крыльев в комнате возникал такой сквозняк, что дед мог простудиться.
Поначалу, когда Чип только осваивал бабушкину комнату, в нее набивалась вся семья поглядеть на это зрелище.
Бабушка садилась на дедову кровать, и ее ноги, крошечные, тридцать третьего размера (обувь она себе покупала в мальчиковом отделе «Детского мира», но об этом несколько ниже, к бабушке придется еще не раз и не два возвращаться), совсем по-детски болтались в воздухе.
Мать с Ольгой на коленях устраивалась на стуле у двери.
Отец при полетах Чипа присутствовал не более двух или трех раз, от силы раза четыре, прислонясь спиной к дверному косяку этаким бедным родственником. Едва ли есть нужда напоминать, что отец в это время уже не жил в доме, а лишь приходил навещать Ольгу. Впрочем, не уйди отец из дома, не испытывай он горькую потребность в искуплении своей вины, очень может быть, что Чип и вовсе бы тут не появился.
Но со временем это зрелище, как, впрочем, и всякое другое, всем приелось, мать и Ольга перестали приходить в бабушкину комнату, да и сама бабушка, выпустив Чипа из клетки, теперь-занималась своими делами либо и вовсе уходила на кухню к плите и готовке.
И Чип летал один по бабушкиной комнате.
Впрочем, в комнате оставался – еще дед. Но, судя по поведению Чипа, он деда совершенно не замечал, во всяком случае, вел себя так, будто того можно было не принимать в расчет.
Что же касается деда, то он не сводил с Чипа взгляда. В его глазах, точнее – в единственном его здоровом глазу, темно-карем с зеленоватым отливом, загоралось тревожное, напряженное выражение.
Кстати говоря, так и не было ясно, видит ли он тем, другим, пораженным болезнью и налитым кровью глазом или же обходится одним этим, здоровым.
Как бы там ни было, а дед неотступно следил взглядом за рваным, рывками, полетом Чипа по комнате, и, следуя за ним, дедов здоровый зрачок вращался словно бы на шарнире.
Чип летал как-то. судорожно, чтоб не сказать – истерично, чертя в воздухе острые, колючие зигзаги и неправильные треугольники.
В полете Чипа, в смене направлений, в чередовании скоростей и углов атаки было невозможно усмотреть ни осмысленного побуждения, ни осознанной необходимости, ни, на худой конец, хотя бы простой последовательности причин и следствий.
Чип взлетал под самый потолок, садился там на круглый стеклянный плафон и, озирая с орлиной этой, головокружительной высоты комнату, не находил ничего более подходящего, как чистить клювом перья на груди и на брюшке и почесывать лапкой шею; затем кидался вниз головой, словно бы во все потерявший веру самоубийца с моста, но на полпути к верной гибели менял решение, на едва уловимую долю секунды зависал в воздухе и, изнемогая то ли от ужаса перед столь только что близкой смертельной опасностью, то ли, напротив, от нежданного счастья чудесного спасения, садился на веер ближайшей фарфоровой маркизы либо же на гладко причесанную головку пай-лорда Фаунтлероя, чтобы тут же, торопливо хлопая немощными от долгой жизни в неволе крыльями и изо всех сил отталкиваясь лапками, перелететь еще куда-нибудь.
Именно таким образом нашла свою погибель семья беспечных пейзан, а также два бокала из горного хрусталя русской работы начала века.
Итак, Чип летал.
Чип летал, а дед неотступно, с завистливой тоской следил за ним. Пораженный, налитый кровью дедов глаз был пуст и бесстрастен, как всегда. Но здоровый… Он становился прежним – и даже не просто таким, каким был до паралича, он словно бы вновь становился таким, каким был давным-давно, в бесследно канувшие времена дедовой невозвратной молодости. Такими Ольга видела дедушкины глаза лишь на старых, с золотым вензелем фотографического ателье карточках. Такими были глаза у того чуть надменно-красивого студента в серо-голубой форменной тужурке с полупогончиками, какими бабушка его помнила до последнего своего вздоха – того несравненного исполнителя заглавной роли в «Красавце-мужчине», молодого, полного сил и нетерпеливых упований русского потомственного инженера-путейца, свято хранившего (она сгинула без следа в революцию) переписку своего отца-путейца с Гариным-Михайловским, путейцем же и изыскателем первой транссибирской магистрали.
Но ни бабушка, ни тем более Ольга не видели и не могли увидеть полного надсадной зависти и тоски выражения дедова здорового глаза, жадно следящего за полетом Чипа.
Конечно же никто не может хотя бы с приближенной точностью сказать, о чем думал или что чувствовал дед, следя за полетом Чипа по комнате.
Но то, что дед о чем-то упорно и, можно даже предположить, страстно думал в эти минуты, – несомненно.
Может быть, о том, что вот, жизнь кончена.
И что кончилась она задолго до того, как придет спасительная смерть.
И что это несправедливо и жестоко.
Вполне допустимо также предположить, что, глядя на Чипа, дед думал о свободе. О том, как относительно и неопределенно само понятие свободы, а уж сам человек или, как в данном случае, даже птица совершенно не может отдать себе отчет в степени собственно свободы или несвободы.
Вот Чип (так, вполне вероятно, думал или мог думать дед, или, по крайней мере, вправе предположить мы, что он мог так думать), Чип почти наверняка убежден, что не свободен по той простой причине, что полет его (точнее, даже не самый этот полет, а его, Чипа, изначальная, родовая предназначенность для полета) ограничен узкой и длинной (5,5 м на 2,5 м) и низкой (2 м 60 см) бабушкиной комнатой, в то время как всякой птице по неоспоримому естественному праву принадлежит не более и не менее как все поднебесье. И в силу этого ограничения он, Чип, несвободен.
Деду в детстве, в молодости, да и в вполне зрелые годы тоже мечталось о свободе. И чем дальше назад, к детству, тем неоглядней и горделивей была эта вожделенная степень свободы.
Теперь же максимальная, предельная степень свободы, которой хотел для себя дед, была свобода, наверняка представлявшаяся Чипу предельной и унизительнейшей несвободой: возможность невозбранно двигаться, передвигаться хотя бы в той же тесной бабушкиной комнате. Но тут же дед вспоминал войну, вернее, не самую войну, а свое ранение и госпиталь, госпитальную койку, на которой он лежал после ранения и контузии, и неотступную, ни на секунду не отпускавшую чудовищную боль и этой болью питавшиеся мысли о смерти, как единственном от нее избавлении; тогда он был готов, ни мгновения не колеблясь, только предложи ему кто-нибудь, с радостью и слезами счастья согласиться вот на эту нынешнюю свою несвободу: лежать неподвижно и даже умирать, но – без боли и в своей постели, в своем доме.
И тут ему пришла или, точнее, могла прийти, даже, если угодно, неминуемо должна была прийти, еще одна мысль, самая странная, самая страшная: единственная и наконец беспредельная свобода, которая теперь еще может напоследок улыбнуться ему и о которой он вправе мечтать и призывать ее, была – смерть.
В этой жесточайше трезвой и ясной мысли была такая унизительность и вместе такой вернейший залог того, что тут-то (точнее – там) его уже ничто не устрашит, никто никогда с ним ничего уже поделать не сможет, что дед громко и нетерпеливо застонал.
Чип испугался дедова стона и перелетел с настольной лампы «под бронзу» на лукошко с пасхальными крашенками.
Чип не понимал деда, как, впрочем, и дед не понимал Чипа.
Дед, как уже было упомянуто выше, был потомственным, в четвертом или даже пятом поколении, интеллигентом. Об этом уместно лишний раз напомнить хотя бы с тем, чтобы объяснить склонность деда – и до инсульта, и после – к самоанализу, а также к мучительным и бесплодным поискам ответов на вопросы, на которые ответов заведомо нет.
Он искал, если угодно, своего места под солнцем, точнее – в системе мироздания.
Дед и его отец, точно так же, как, несомненно, и деды и прадеды, иначе они не были бы интеллигентами, тем более русскими интеллигентами, много и напряженно думали о себе и о мироздании.
Они были уверены, что думают о себе в соотношении с божьим миром совершенно бескорыстно. Более того – с полнейшим самоотвержением и готовностью принести себя в жертву во имя общего блага.
Юношей, особенно в студенческие годы, дед мечтал о революции или, вернее, о Революции как о высшей и единственной форме Свободы. Причем, и это извинительно по младости его тогдашних лет, перед его мысленным взором представала не та свобода, которая восторжествует и воцарится в результате революции, а ничем не ограничиваемая, никем не упорядочиваемая свобода самой Революции как трагически-прекрасного всеисторического действа.
Революция ему представлялась именно таким вот всечеловеческим праздничным театральным действом с пламенными монологами вдохновенных народных трибунов, с несчетными и вместе стройными толпами послушных их воле статистов на баррикадах, подсвеченных, словно бы огнями рампы, кровавым отсветом мятежа, со стремительными взлетами прямого как стрела исторического сюжета и завершающим его торжественно-монументальным очищающим катарсисом.
Но революция пришла совсем иною – обыденной, неряшливой, слепо безудержной в своей жажде безотлагательного, жестокого, хоть и справедливого, возмездия. Она жгла родовые, из века в век, гнезда, библиотеки, семейные архивы и девичьи альбомы с переписанными от руки стихами и нотами несложных фортепьянных пьес, пахла гарью, ворванью, прогорклым деревянным маслом и застарелым простолюдинским потом. Но главный для деда в ту пору ее запах был запах страха.
Дед не мог избавиться, не мог перебороть в себе этот нежданный и унизительный страх.
Теперь свобода, единственно желанная и полная, представлялась ему свободой от страха.
Потом вместе с революцией и гражданской войной пришел конец и страху перед ними. Начались долгие – правда, это теперь кажется, что долгие, а на самом деле это были промелькнувшие как один огнедышащий миг два коротких десятилетия от двадцать первого года до сорок первого, – начались годы восстановления, нэпа, пятилеток, индустриализации, коллективизации, стахановских починов, напряженной подготовки огромной страны к неминуемой, как все понимали, войне, и к деду пришли другие страхи – безымянные, неуловимые, от которых ни спрятаться, ни тем более отвести их невозможно.
Впрочем, все эти малые страхи были лишь наследием того большого, неотступного страха, которого дед хлебнул с лихвою в революцию. С ними еще можно было жить.
А тот большой страх – дед этого не мог со временем не понять – был страхом не перед самой революцией, не перед ее неизбежной жестокостью, кровью и возмездием, а страхом перед безжалостной правдой, перед тем, что не оправдались, не осуществились юношеские прекраснодушные упования мальчика из «хорошей семьи».
Это был страх перед самой жизнью, перед разом рухнувшими иллюзиями и книжно-идеальными мечтаниями о синей птице.
Птица же – в данном случае имеется в виду отнюдь не метерлинковская, вспорхнувшая во времена дедова отрочества с подмостков уже упомянутого вскользь Художественного общедоступного театра, а обыкновенный и, по чести говоря, ничем особенно не примечательный кенарь по имени Чип, – пока недвижный дед, следя за нею печальным и жадно-завистливым взглядом своего единственного живого глаза, думал или, по крайней мере, предположительно мог думать свою обращенную вспять думу, в это время, шелковисто хлопоча крыльями, носилась по бабушкиной комнате, перелетая с одного «fin de siécle» на другой.
Дед думал.
Если бы кто-нибудь в это время наблюдал за выражением дедова лица, то несомненно бы заметил, как недобрая и вполне объяснимая обстоятельствами зависть и ревность к Чипу сменяются умиротворением или по меньшей мере примирением с неизбежностью: не он, так хоть Чип свободен и – летает.
Как ни странно это может показаться, но деда излечила от страхов война.
Война, которой, казалось бы, ничего на свете страшнее нет.
Дед, хоть и не воевал на передовой, а всего-навсего служил в железнодорожных войсках за линией фронта, навидался на ней страшного по горло. Впрочем, слово «служил», как и слово «воевал», в смысле участия деда в войне, не самые подходящие, в данном случае надо бы, скорее всего, сказать – «прошел войну» или, может быть, «выполнял свой долг».
Как бы там ни было, все эти четыре года – с июля сорок первого по сентябрь сорок пятого – между тем, как жил дед и что делал, с одной стороны, и с другой, его мыслями и убеждениями, короче говоря, его душой, не было не только, как прежде, пропасти, не только противоречия или хотя бы двусмыслицы, но даже трещины, даже узкой и невидимой глазу трещинки.
Потом, после войны, до самой своей болезни и даже до самой смерти, дед вспоминал об этих четырех страшных, выше всяких человеческих сил годах как о лучшем времени своей жизни.
О времени, когда он был и оставался самим собою до конца и когда, собственно, от него и требовалось лишь одно: чтобы он был и оставался самим собою, но до конца, до самого последнего и, если понадобится, смертного конца.
Так понимал он тогда свой долг, и выполнять этот долг было легко душе.
Четыре года, день за днем, он делал все, чего от него требовала война, делал не по принуждению, не из страха, не ради того, чтобы казаться тем, кем на самом деле он не был, а единственно лишь потому, что ничего другого он не мог, не хотел и не считал нужным делать. И поэтому дед на войне никого и ничего не боялся. Кроме смерти, разумеется, но на то и война, с этим приходилось считаться.
Дед пришел с войны совсем другим человеком, и поначалу бабушку это приводило в недоумение и даже пугало, но со временем она привыкла к нему новому.
Правда, возвратившись с войны и вновь поступив на ту же работу в службе пути Казанской железной дороги, дед вскоре начал пить. Может быть, он стал пить потому, что боялся, как бы не вернулись к нему вновь его былые страхи. Или даже, не исключено, потому, что они и на самом деле вернулись. А жить с слепым страхом в душе дед уже не мог.
Дед проболел почти полных тринадцать лет, последние пять не вставая с постели, а два – так даже не пересаживаясь с кровати в свое кресло на колесиках.
Теперь он ходил под себя, и никакие уговоры, никакие окрики и причитания бабушки не могли тут ничем помочь. Он лишь виновато и вместе сердито косился на нее своим налитым кровью глазом и мычал что-то, полное раздражения и укора.
Когда дед начинал мычать, Чип метался в испуге по клетке, натыкаясь грудью на металлические прутья.
А бабушка плакала едва слышными, мелкими слезами, уткнувшись лицом в кухонное полотенце или передник.
Мать, если это происходило во время приходов отца к Ольге, начинала почему-то на него кричать, будто он был виноват в дедушкиной неизлечимой болезни и в том, что ни у кого уже не было ни сил, ни нервов и неизвестно было, сколько это может еще так продолжаться.
Отец и сам в такие минуты чувствовал себя вдесятеро виноватее, и грех его перед всеми казался ему чернее самого черного предательства.
Когда дед умер, Ольге было двенадцать лет.
Взрослые по-прежнему полагали, что ребенка может оградить от душевных травм хлипкая, из прессованной древесной стружки дверь, и пытались свести Ольгино общение с больным дедом до минимума.
Но и об Ольге – ниже, хотя бы потому, что у нее времени и простора впереди было гораздо больше, чем у кого-либо другого, жизнь ее еще только начиналась.
Чего никак нельзя было сказать о Чипе. Потому что птичий век много короче, и Чип старился день ото дня. С годами на него почти перестали обращать внимание. Кроме бабушки, разумеется.
Чип стал неотъемлемой частью дома, быта, более того – как бы частью обстановки квартиры, вроде мебели, книг, бабушкиного «fin de siécle» или вечно испорченного смесителя в ванной. К нему привыкли и пригляделись, и кроме необходимости купить и не забыть ему насыпать в кормушку конопляного семени или канареечной смеси и налить свежей воды в блюдце, попутно вычистив клетку и сменив в ней бумажную подстилку, – кроме этих простейших забот, никто в доме – опять же кроме одной бабушки – не испытывал по отношению к нему никаких иных обязательств.
К тому же его перестали выпускать из клетки, и он не летал больше по бабушкиной комнате.
Теперь случалось даже так, что бабушка забывала закрыть скатертью его клетку на ночь, и он до утра мучился бессонницей.
Бабушка всегда была душою дома, его, как было принято некогда говорить, добрым гением.
Собственно, бабушка всю жизнь держалась единственно на своей доброте.
В свое время она даже не окончила гимназии и была вынуждена пойти работать в магазин своей дальней богатой родственницы на бывшей Тверской по той простой причине, что надо было кормить себя и помогать многодетной и малоимущей семье.
Короче говоря, человека добрее и душевнее бабушки представить себе было совершенно невозможно. Во всем и во всех она видела одну доброжелательность, она была готова всем без разбора безоговорочно верить, и, вероятно, именно поэтому мало кто отваживался ее обмануть или обвести вокруг пальца. Для этого надо было быть совсем уж отпетым негодяем. А если ее и обманывали или попросту обсчитывали или обижали, то лишь в случае полнейшей очевидности обиды она не решалась ее отрицать, но тут же приводила такие веские объяснения неблаговидным поступкам обидчика, что не только она сама, но и все вокруг склонялись к тому, что его можно и даже следует если и не простить, то, на худой конец, хотя бы понять.
В бабушке просто-напросто сказывалась привычка жить с детства в большой, неимущей семье, привычка к зависимому положению приказчицы в магазине у тетки, к длительному – до самых последних лет, когда она вместе со всеми переехала вот в эту трехкомнатную отдельную, квартиру, – проживанию в коммуналке на Разгуляе. Да и вообще к быту двадцатых, тридцатых и сороковых годов, с его скученностью, скудностью, постоянными перебоями со снабжением. Эти характерные особенности быта тех лет породили в бабушке, как это ни парадоксально, именно доброту, открытость и такое сердоболие, что она могла показаться на сторонний и не очень проницательный взгляд наивной почти до полной дурости, почти юродивой. В том, само собой разумеется, смысле юродивой, какой в это слово вкладывали в давние времена: юродивый – не от мира сего.
Кстати говоря, в наш век люди «не от мира сего», во всяком случае в массе своей, почти совсем повывелись. Как вывелись, к примеру, и многие редкостные звери, птицы и даже отдельные виды никому не причинявших вреда легкомысленных бабочек.
Хотя, с другой стороны, было бы смешно и даже нелепо внести людей не от мира сего в Красную книгу природы.
Выше уже упоминалось о том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпускали полетать по бабушкиной комнате. Со временем он настолько к этому привык и даже обнаглел, что если бабушка хоть на мгновение забывала закрыть дверь, он стрелой – впрочем, это скорее напоминало не стрелу, а маленькую огненно-желтую молнию – вылетал из комнаты и, словно бы потеряв голову от счастья, носился по квартире. Стоило неимоверных усилий водворить его обратно в клетку.
Раза два, летом, Чип вылетал в открытую по недосмотру форточку наружу, во двор, но оба раза дальше балкона мигрировать не отважился, садился там на бельевую веревку и, раскачиваясь на ней словно бы в задумчивости, внимательно и без особого удивления взирал на беспредельность Божьего мира.
Хотя, само собой разумеется, никто не возьмет на себя ответственность строить ни на чем, собственно, не основанные догадки о том, что именно думал, раскачиваясь на бельевой веревке, Чип по поводу беспредельности этого мира.
И тем более никто нс возьмется ответить, движимый какими соображениями или, может статься, даже убеждениями, Чип предпочел распахнувшейся перед ним свободе возвращение в тесную клетку, пусть даже эта клетка и была ему родным домом.
Однажды, выпорхнув из бабушкиной комнаты, Чип метался бешено-желтой шаровой молнией по всей квартире.
Реакция членов семьи на подобные его эскапады была совершенно различной: Ольга от души развлекалась, мать носилась за Чипом с полотенцем в руках, пытаясь загнать его обратно в бабушкину комнату, бабушка же пребывала в паническом страхе, что Чип вылетит в форточку и тут же станет добычей не знающих пощады дворовых кошек.
Дед, забытый всеми на своей длинной и узкой железной кровати, в таких случаях ощущал, как никогда остро и обреченно, свое одиночество, и сердце его переполнялось тоскою по Чипу и – как ни трудно в это поверить, зная нрав деда и его сложные отношения с Чипом, – бессильной любовью к нему, а если посмотреть на это дедово чувство с философской точки зрения, то и ко всему сущему вообще.
Так вот, в тот раз Чип вылетел молнией из бабушкиной комнаты, и опасность состояла в том, что на кухне, по случаю июльской жары, было распахнуто настежь окно.
Чип перелетел с книжных полок на пианино фабрики «Красный Октябрь», расстроенное со времен отцова отступничества от музыки (о чем будет. упомянутого ниже) и давно никуда не годное, и уселся там на куст или, точнее, на букет желтых и рдяных кленовых осенних листьев: мать каждый год, до начала ноябрьских дождей, ездила в недальнее Подмосковье и возвращалась оттуда с ворохом пожелтевших, но еще не окончательно увядших и обесцвеченных кленовых и частично дубовых листьев, подсушивала их не слишком горячим утюгом, и они стояли в большой керамической вазе на пианино, сохраняя свою свежесть – если это слово уместно употребить в отношении сухих осенних листьев – до следующего ноября.
Бабушка называла их «неопалимая купина».
Итак, Чип уселся на «неопалимую купину», не испытывая никаких сожалений о содеянном, ни тем более укоров совести. Но тут под ним неожиданно подломился стебелек, на котором столь хрупко держался сухой лист, и Чип, не успев даже взмахнуть крыльями, провалился внутрь керамической вазы, и было слышно, как он забился там в ужасе в кромешной тьме.
Но еще больше Чипа испугалась бабушка, да и мать с Ольгой тоже. Мать кинулась к пианино и одним махом вытащила из вазы и бросила на пол ветки с листьями – они тут же, сухо и мертво шурша, рассыпались в бронзовый прах – и извлекла из вазы насмерть перепуганного Чипа.
Но лишь после того, как его водворили обратно в клетку, точнее даже на следующий день, обнаружилось, что он сидит на жердочке, вцепившись в нее одной только ланкой и подогнув под себя другую, и в полном укоризны и невысказанного горя молчании.
Странное дело – казалось, лишь сейчас все вдруг увидели и убедились, как полна неукротимой, хоть и неслышной, не бросающейся в глаза решительности бабушка, словно бы вся ее жизнь, особенно после того, как заболел и окончательно слег дед, не была одним сплошным доказательством именно этой ее тихой, как бы смущающейся самой себя энергии.
На следующее же утро бабушка соорудила из картонной коробки из-под обуви временную клетку для Чипа, наделала ножницами аккуратные дырочки, чтобы воздух беспрепятственно в нее проникал, выложила изнутри ватой и, не мешкая, кинулась с притихшим Чипом в коробке в районную ветеринарную лечебницу.
Ольга поехала вместе с ней – ехать надо было довольно далеко, с двумя пересадками, и за всю дорогу бабушка не проронила ни одного слова.
Ветеринар в лечебнице подтвердил, что у Чипа сломана лапка, но мало чем мог помочь.
С тем и возвратились домой
В последующие несколько дней бабушка не отходила от клетки Чипа, утешала и отвлекала его разговорами, и даже дед притих, словно бы и он принимал близко к сердцу Чипову беду. На самом же деле очень возможно, что сосредоточенный на собственной своей беде дед и не заметил беды Чипа.
Через неделю, как велел врач, бабушка осторожно сняла с лапки тугую повязку, но Чип остался навсегда инвалидом. Лапку он никогда уже так и не смог разогнуть, но боли, по-видимому, никакой не чувствовал и не очень горевал по поводу своего увечья.
Если посмотреть на жизнь с философской, точнее – со стоической точки зрения, то все проходит, все забывается на этом свете.
Как бы там ни было, Чип прекрасно научился обходиться одной лапкой. Правда, полеты по бабушкиной комнате на этом прекратились.
Судя по тем же старым фотографиям, бабушка никогда не была так картинно красива, как дед. Но она была на них прелестна – другого слова тут не подыскать, и даже очень уместно, что она отдает некоторой, если угодно, старорежимностью, некой позабытой в наш деловой век несмелой женственностью.
На одном из снимков бабушка была в плоской, чуть набекрень, белой меховой шапочке, и подбородок ее утопал в таком же пушистом воротничке стоечкой. У нее было нежное, милое лицо с маленьким, откровенно простолюдинским носиком, такой же маленький, бантиком, рот, и половину ее лица занимали глаза.
Даже на потерявшей от времени глянец фотографии было видно, какие они у нее лучистые, просто-таки сияющие добротой и тихой радостью. Разве что чуточку испуганные – то ли от робости перед страшноватым ящиком под черной суконной накидкой, то ли от необходимости долго сидеть с застывшей на лице напряженной улыбкой («улыбнитесь, барышня, и не двигайтесь, прошу вас!»), то ли бабушка вообще испытывала что-то вроде легкого испуга или, точнее, пугливого недоумения перед жизнью. Во всяком случае, даже сейчас, пронесенный через всю жизнь, в глазах ее теплился – именно теплился, именно доброе, отрадное тепло излучали ее глаза, – этот легкий испуг – удивление.
Но он ее только красил, даже в старости.
Вероятнее всего, она не боялась жизни, вернее, боялась не жизни, а того, что ее простые и доверчивые представления об этой жизни могут быть обмануты или как-то унижены.
Вообще главная и обезоруживающая всех, кто ее знал, черта была в ней именно терпеливая и даже не требующая взаимности доверчивость. Что не мешало ей меж тем быть не только душою, но и главою семьи, хотя и властолюбивый и вздорный дед никогда этого не замечал и рассмеялся бы в лицо всякому, кто осмелился ему это сказать.
Бабушку было нетрудно представить себе княгиней
Волконской или Трубецкой, едущей за мужем-декабристом в бескрайнюю сибирскую ссылку. Или сестрой милосердия на севастопольских редутах в Крымскую кампанию. Или народоволкой даже, стреляющей в градоначальника-изувера, осмелившегося назвать на «ты» безымянного студента. Впрочем, нет, совершенно невозможно и даже святотатственно представить себе бабушку, поднявшую руку на кого бы то ни было.
Но так же легко и просто бабушку можно было вообразить и кем-нибудь поскромнее, побудничнее. Скажем, сиделкой при неизлечимом больном (каковой она, собственно, и была при дедушке тринадцать лет кряду), пряхой за прялкой в курной избе или попросту терпеливо и молча, с ненавязчивым достоинством стоящей в двадцатые, тридцатые, не говоря уж о военных сороковых годах, в бесконечных очередях за хлебом, за керосином, за ливерной колбасой.
Она и в молодости была хрупкого сложения, тонкокостна, неприметна. А к старости еще больше ссохлась, и уже лет в двенадцать Ольга ее переросла чуть ли не на целую голову. Выше уже было упомянуто о том, что бабушка носила мальчиковую обувь тридцать третьего размера и покупала ее себе в «Детском мире» на Лубянской площади.
Бабушка так и говорила – Лубянская, а не площадь Дзержинского. И вообще называла московские улицы и переулки старыми, до переименования, названиями: Мясницкая, Воздвиженка, Хамовники, Поварская, Пречистенка – в ее устах они звучали как-то необыкновенно уютно и мирно.
В войну – вторую, то есть Отечественную, – бабушка возвращалась после вечерних или ночных сцен на Центральном телеграфе с бывшей Тверской на Разгуляй через весь затемненный огромный город – метро в эти ночные часы уже не работало, чаще всего и трамваи не ходили, либо же их надо было ждать часами, и бабушка шла, бывало, пешком, не боясь ни темноты, ни немецких налетов, ни комендантских патрулей.
Бабушка ничего не боялась. Вернее, боялась, но делать было нечего и надо было идти.
Вот это «надо» – надо – было заложено в бабушке от рождения, и она делала все то, что надо, так же естественно, тихо и без аффектации, как дышала, ела, пила, как любила деда и мать – свою дочку, как любила Ольгу. И как любила отца, своего зятя. На любви бабушки к отцу следует остановиться особо и без отлагательств.

