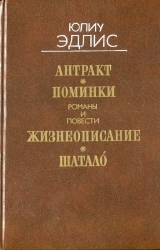
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
Никакого «ариведерчи» не будет, никакого «оревуар», никакого «до свидания» – только «прощай». Он впервые понял всю чудовищность этого слова: никогда.
Никогда больше не видеть, не слышать, не ощущать теплоту и нежность ее тела, никогда больше не коснуться его, не просыпаться ночью, чтобы убедиться, что она рядом.
Ни-ког-да!
Все эти два месяца, с того дня, когда она подала в ОВИР заявление, и до того, как получила разрешение, и еще месяц до ее отъезда он ни на миг не переставал упорно и тупо верить, что ничего не будет, что все уладится, никуда она не уедет, раздумает, сжалится над собою и над ним.
Она ушла с работы, распродала все свои зимние вещи – дубленку, теплые сапоги, свитера, кофты, она думала, там – ни холодов, ни промозглой осени. Она жила как в потемках, потерявши себя прежнюю и мучительно ища в себе новую себя, оборвавшую связи с былой жизнью, отрекшуюся от нее. Она словно даже лихорадочно спешила отречься и все забыть, чтобы хоть в тот короткий миг, когда самолет оторвется от взлетной полосы, быть в силах обмануть себя, что – не о чем жалеть, не по чему убиваться.
«Ариведерчи, Рома…»
Эта песенка вертелась у него на языке, в ней сошлись для него, как в фокусе, вся его растерянность и бессилие, он бормотал ее как заклинание, вышагивал по улицам и повторял, повторял про себя. Ему казалось, что она не только утишает остроколющую боль в сердце, но и может заговорить ее, как заговаривают кровь.
Все его мысли выстраивались в одну бессвязную цепочку, в жалкую мольбу: господи! сделай так, чтобы все стало, как было, сделай так, чтобы все сгинуло как дурной сон, я все ей прощу, все забуду, господи, верни мне ее, я буду любить ее денно и нощно, я теперь знаю – жить можно только любовью и прощением, я буду добр и терпелив, я удушу в себе обиду и спесь, я готов на все, господи, меня так измочалило, так растоптало, я приму все, что ты мне ни пошлешь, на что ни обречешь, даже если это и будет несправедливо, даже если это будет мне не по силам, только верни ее, не дай ей уйти, господи, только не это!..
Двадцатого марта она ушла утром из дома – теперь они жили порознь, она в спальне, он в кабинете, и во сне все то же: «Ариведерчи, Рома…» – а через несколько минут позвонила снизу, из автомата:
– Юра… я даже не знаю, как… Я вообще не знаю!..
В почтовом ящике… ну, там, в подъезде, в ящике… там письмо пришло… да, разрешение… Я не знаю!.. – Он услышал в трубке стон, она повесила трубку на рычаг: ту-ту-туту-ту…
Ариведерчи.
И все же и тут он не потерял жалкой надежды: в последний миг, у трапа самолета, она ужаснется, кинется к нему: «Нет, не могу, не хочу!»
Она не хотела никаких проводов, но друзья и подруги все равно придут, без проводов не обойтись, он знал, что не выдюжить ему этих проводов, не железный же он, всему есть предел!..
В тот вечер, ничего ей не сказав, он уехал, колесил вслепую до полуночи по городу, по пустынным улицам, не отдавая себе отчета, где он, но помимо воли круги его блужданий сужались, его бессознательно влекло к центру, к Садовому кольцу, в Вспольный переулок.
Квартира была залита светом, из гостиной раздавались голоса и смех, видно, набежала тьма народа, кто-то рассказывал что-то смешное, все хохотали, и все это было похоже не на проводы, не на поминки по целой жизни, а на веселую, беспечальную вечеринку.
Он прошел к себе, никто его и не услышал, окно с прошлой ночи было затянуто шторой, полный мрак. Он сидел в темноте, никто и не догадывался, что он тут, рядом, никто его не хватился. Отрезанный ломоть.
Он слышал из-за двери ее голос – оживленный, взбудораженный, будто она уезжала не навсегда, не уходила безвозвратно из его жизни, а стало быть, и из своей, а – ненадолго, на юг, в отпуск.
Он остался на этом берегу, она уже – на том, на недоступном, ему уже до нее не докричаться, он здесь, она там, но как она может, как она смеет думать и говорить сейчас о чем-то, кроме него, как может смеяться чьим-то глупым и плоским шуткам, а не сидеть с ним рядом, здесь, в темноте, и прощаться с ним, оплакивать его и себя и их долгую, единственную жизнь вместе, их одно на двоих никогда, как она смеет? Неужели и в этом воля твоя, господи?!
Дай мне ее забыть, господи!
Дай мне сил, протяни мне руку! Я испил свою чашу до дна, капля за каплей, выворотил память наизнанку и не искал ни оправдания себе, ни поблажки, я сам приговорил себя к этой муке, но сколько же еще, господи?!
Отшиби у меня память, вытрави из нее наши первые дни и последние и целую жизнь, которая пролегла между ними, и шум сосен за окном дачи, и зеркало, в котором вспыхивали и гасли зарницы, а балтийские закаты гасли медленно и нехотя, нежные, текучие краски, дымчатый блеск моря, потом все окутывалось голубым сухим туманом, и в Подмосковье снег празднично скрипел под ногами и ломило глаза от нестерпимой белизны, осенью в сквозном лесу на жесткой предзимней голубизне неба нестерпимо белы были нагие стволы берез, а в нашей комнате печь топилась сосновыми дровами, руки были в клейкой смоле, к ночи печь раскалялась докрасна… но сколько же еще, господи?! Доколе?..
9
Через каких-нибудь полгода после Майиного отъезда Бенедиктову позвонил Андрей Латынин, руководитель недавно созданного театра-студии, – «студией» как бы подчеркивались его новаторские, экспериментальные, далеко идущие планы.
С Латыниным театральная Москва связывала главные свои надежды, несмотря на то что ему шел уже пятый десяток. Он успел поставить несколько нашумевших – и по справедливости – спектаклей в «Современнике», на Таганке, о них спорили до хрипоты, превозносили без меры или так же непримиримо ниспровергали и охаивали, в итоге спектакли, как правило, запрещались, что только подогревало его популярность, и всякий раз он с молодым не по годам пылом все начинал сначала и – по мнению как доброжелателей, так и недругов – снова и снова «лез на рожон».
Вероятно, только этим и следовало объяснить его предложение Бенедиктову поставить «Лестничную клетку» в театре.
Она и впрямь вполне годилась для этого – много диалогов, одно, собственно говоря, место действия, очень может быть, для театра она подходила даже больше, чем для кино. Бенедиктов быстро, недели за три, переписал сценарий, разбил его на картины и акты, дописал несколько сцен, сократил число действующих лиц, и получилось вполне годное для сцены сочинение. Латынин обещал все взять на себя – заключение договора, читку на труппе театра, прохождение через Министерство культуры. Бенедиктову велено было лишь терпеливо ждать дня, когда его сочинение «увидит огни рампы».
Но вскоре дело застопорилось, забуксовало на месте: городское управление культуры, видимо прослышав о давнем не то запрете, не то затянувшейся на неопределенное время консервации «Клетки» в кино, никак не решалось дать свое «добро» на постановку. Выше управления было Министерство культуры. Латынин и ринулся туда, прихватив с собой Бенедиктова.
В управлении театров их приняла вполне приятная на вид женщина лет пятидесяти, с открытым, интеллигентным лицом – спокойные глаза, высокий лоб, никакой косметикқ, доброжелательная улыбка. Она говорила не отштампованными раз и навсегда и ни к чему не обязывающими словами, а живо, искренно, и Бенедиктов сразу проникся к ней доверием и уверенностью, что уж она-то им с Латыниным – союзник.
Из окна кабинета Елены Михайловны была видна островерхая кровля старинного особняка, со всех сторон обстроенного более поздними, многоэтажными домами, по кровле, перестилая жестяные листы и гремя ими, ползали рабочие. Часть кровли была свежеокрашена ярко-малиновой краской, и этот бьющий в глаза, радостный, четко обозначенный на фоне белесого предзимнего неба цвет вселял в Бенедиктова почти физически ощутимую надежду, что все будет хорошо, все образуется, Елена Михайловна не даст их с Латыниным в обиду.
Разговор шел откровенный и, как казалось Бенедиктову, без подводных течений – Елена Михайловна и не собиралась скрывать своего благорасположения к Бенедиктову, ни дружески-покровительственного отношения к Латынину, ни своего – правда, чисто читательского, подчеркнула она, чисто субъективного – интереса к «Лестничной клетке».
– Я лично не вижу в ней ничего такого, – доверительно говорила она, – из-за чего она не могла бы увидеть света. Пусть не в кино, там, возможно, существует иная точка зрения, не знаю, но что касается театра…
– Стало быть, благословляете?! – поторопился Латынин. На его не первой свежести, под свитером с широким вырезом, рубашке была оторвана верхняя пуговица, и
Елена Михайловна нет-нет, а поглядывала на его открытую жилистую шею с смешанным выражением жалости и осуждения. – Тогда позвоните в городское управление – и делу конец!..
– Вы торопите события, – с мягкой полуулыбкой прервала его Елена Михайловна, – вы торопите события, Андрей Анатольевич. Во-первых, мое личное мнение, которое я вам высказала, это не более чем мое мнение, а не мнение всей нашей репертуарной коллегии. Во-вторых… – она чуть замялась, поглядела в окно на малиновую кровлю, помедлила, – во-вторых, будь это даже мнение коллегии, не в нашей практике навязывать его кому бы то ни было. К тому же…
– Но вы ведь – министерство! – нетерпеливо вскричал Латынин. – Кому же, как не вам!
– …к тому же, – словно не услышав его восклицания или великодушно пропустив его мимо ушей, продолжала Елена Михайловна, – московское управление пользуется, по существу, такими же правами, как и мы, полной самостоятельностью. И наши отношения с ним вовсе не таковы, чтобы… Все очень сложно, Андрей Анатольевич, поверьте… – И на этот раз ее полуулыбка стала полу-печальной, – Все очень непросто, это только со стороны кажется – снял трубку, позвонил…
– Но вы же – министерство! – даже всплеснул руками Латынин. – Высшая инстанция!
– Вышестоящая инстанция не должна связывать руки нижестоящей, не должна мешать ей проявлять собственную инициативу, Андрей Анатольевич, – отвела его довод Елена Михайловна, – Мы вмешиваемся лишь в крайних случаях.
Бенедиктов прекрасно понимал, что это не так, тем более что тут как раз именно и был крайний случай, просто Елена Михайловна уходит от ответа, от ответственности, хотя, очень может быть, лично она и хотела бы им помочь.
– Что ж… – сказал он, благодарный ей хотя бы за добрые намерения, пусть и неосуществившиеся, что ж… – и поднялся было с кресла.
– Погоди ты! – потянул его вниз за рукав Латынин. – Значит, что же, ничего нельзя поделать?! Ну, пусть вы, Елена Михайловна, не можете, но, в таком случае, Георгий Иванович? Я ему тоже оставил экземпляр пьесы и просил прочитать… Давайте пойдем к нему!
Елена Михайловна молча вынула из ящика и положила на стол первый машинописный экземпляр «Клетки».
– Вот он, Андрей Анатольевич, – сказала она с почти искренним сочувствием. – Георгий Иванович передал его мне.
– Не читая? – никак не мог взять в толк Латынин. – Даже не прочитал?!
– Он поручил это мне.
– Но вы ведь сами сказали, что лично вам…
– Это так, – подняла на него все с тем же сочувствием глаза Елена Михайловна, – это так, поверьте. Но я одна не вправе…
– Зачем же он дал вам читать пьесу, если знает, что вы не вправе решить этот вопрос? – не унимался Латынин, – Это же нонсенс! Если никто, кроме самого Георгия Ивановича, не может разрешить или, наоборот, окончательно запретить…
– Мы ничего никогда не запрещаем… – В голосе Елены Михайловны впервые прозвучало раздражение, но она тут же взяла себя в руки и опять заговорила мягко и доброжелательно: – Мы ничего не запрещаем, Андрей Анатольевич. У нас нет даже такого права – запрещать. И желания тоже.
– Если только он может, – настаивал торопливо Латынин, – то почему же ему самому не прочитать пьесу и… Ведь, если я вас правильно понял, пусть даже вы, Елена Михайловна, скажете нам «да»…
– Вы правы, – теперь в ее голосе слышалось одно желание поскорее закончить затянувшийся и неприятный этот разговор, – как, впрочем, и если я скажу «нет».
Солнце ушло за тучу, и свежевыкрашенная кровля за окном, только что радостно и празднично малиновая, стала, как показалось Бенедиктову, угрюмо-багрова.
– Мы, к сожалению, не понимаем друг друга, Андрей Анатольевич, – заключила Елена Михайловна, – министерство, и в том числе наша коллегия, занимается не частными вопросами, а – общими. Частные вопросы решаются на местах, в данном случае – в городском управлении. Представьте, если бы мы стали заниматься всеми пьесами, всеми внутритеатральными тяжбами, и вообще… Вы только представьте! Что же до меня лично, то – поверьте…
Разговор был исчерпан, ждать от Елены Михайловны было ужо нечего, настаивать не на чем, даже Латынин и тот растерянно примолк. Пора и честь знать.
– Кстати, – совершенно неожиданно поинтересовалась па прощание Елена Михаиловна у Бенедиктова, назвав его при этом не Юрием Павловичем, как называла на протяжении всего их почти полуторачасового разговора, а «товарищем Бенедиктовым», – кстати, товарищ Бенедиктов, я слышала, будто ваша жена…
– Бывшая жена! – кинулся, почуяв недоброе, на помощь Бенедиктову Латынин.
– …ваша жена, – не услышала его опять Елена Михайловна, – уехала, я хочу сказать – эмигрировала?..
– Какое это имеет отношение к делу?! – оборвал ее снова Андрей.
– Никакого, – обиделась Елена Михайловна и взялась за какие-то папки, лежавшие на столе. – Разумеется, никакого. Я просто так, к слову… Всего вам доброго, желаю всяческих успехов, – и, надев очки, углубилась в бумаги.
– Дура! – громко, не боясь быть услышанным или именно желая, чтобы его услышали, ругался Латынин, спускаясь бегом; Бенедиктов едва поспевал за ним по широкой лестнице с бронзовыми литыми перилами. – Бюрократка! Чиновница копеечная, винт без гайки, а строит из себя…
– Круг замкнулся, – попытался отшутиться Бенедиктов, но чувство полной беззащитности и бессилия, только что испытанное им, не проходило.
– Какой там еще круг! Не придумывай! Она же мелкая сошка, ничего не стоит найти на нее управу, уж мне-то ты можешь поверить, я-то стреляный воробей! Не преувеличивай. И откуда только у вас, у интеллигентиков доморощенных, эта совершенно неадекватная реакция? Чуть что – лапки кверху! За правое дело бороться надо, Юрий Павлович, бороться и не сдаваться! До победного конца, иначе не бывает!.. – И уже в гардеробе, надевая видавшую виды куртку с капюшоном, спросил: – Это ты насчет того, что она о жене спросила? Так ведь обыкновенная сплетня, а ей интересно узнать из первых рук, она же весь день взаперти в своем кабинете сидит, любопытство прямо-таки гложет – что там снаружи делается? Не принимай близко к сердцу. Я ведь и до министра доберусь, можешь не сомневаться, со мной такого еще не бывало, чтобы я не дожал того, чего мне нужно! А на таких, как эта дамочка, обижаться или, того более, пугаться ее – других поищите!
Но Бенедиктова не покидало глупое и жалкое опасение нежданной какой-то угрозы, чувство без вины виноватости – за что? в чем? перед кем?! – и, как он себя ни уговаривал, что страхи эти ни на чем не основаны, ничего поделать с собой был не в состоянии.
Ты в ту ночь еще вот что сказала:
– Мне страшно. Нет, не с тобой мне страшно, с тобой как раз я как за каменной стеной, но когда я выхожу за эту стену, мне становится так страшно, что и не сказать… будто все затаилось, подстерегает за углом, чтоб испугать меня, сбить с ног… Я тебе не рассказывала, а все вот с этого-то и началось: я возвращалась домой в автобусе, села в центре, совсем поздно было, второй час, у Никитских все вышли, я одна осталась, совершенно пустой автобус, мне через одну выходить, но ни на следующей остановке, ни потом он не остановился, я подумала – ничего, выйду на Пресне, но он и там не остановился, едем, едем, и так страшно, что… Я стучу в кабинку водителя, а он не оборачивается, и мне вдруг так холодно стало, будто это уже не я, а кусок льда, вместо сердца – лед, и если бы его милиционер не остановил, он что-то там нарушил… Он открыл дверь, я выскочила, темно, не знаю, куда идти, в какую сторону, и так страшно, ты понимаешь?.. И пусть даже мне все это приснилось, все равно – мне с тех пор страшно жить, понимаешь? Мне стало навсегда страшно, слышишь?! Мне теперь кажется, что вся моя жизнь – как этот автобус пустой…
10
И все же он сделал еще одну, последнюю попытку.
Он знал Ингу Романовскую очень давно – лет двадцать тому, шестнадцатилетней девочкой, выпускницей хореографического училища, она снималась в его первой картине. На съемки она неизменно приезжала вместе с матерью, тоже балериной, уже отставной. Мать привозила с собой в сумке бутерброды, рыночный творог и термос с разбавленным молоком кофе. И все в съемочной группе относились к Инге с заботливой нежностью взрослых к ребенку. Да она и была тогда еще ребенком – худенькая, с проглядывающими сквозь кожу ребрышками, убыстренно дышащими под неразвитой грудью, с длинными и слишком сильными при ее хрупкости ногами, которые она побалетному ставила чуть врозь.
Инга хоть и не сделала карьеры примы, но и не застряла в кордебалете, танцевала во втором и третьем составах главные партии в «Коппелии», «Щелкунчике» и даже в «Дон Кихоте».
Она приглашала Бенедиктова на все свои премьеры, никогда не забывала поздравить его с Новым годом, а в феврале – почему-то – с Днем армии, непременно присылала из заграничных гастролей открытки с видами Лондона, Нью-Йорка, Токио, время от времени они перезванивались.
Инга вышла замуж, муж ее был журналист-международник и постоянно жил за границей, и, собственно, замужеством и семьей в полном смысле слова их брак назвать было нельзя.
Вскоре после отъезда Майи Инга позвонила ему и сама предложила повидаться.
Они встретились днем в полупустом зале «Кафе-мороженого» на Пушкинской площади: она, по старой привычке, говорила ему «вы», а он ей – «ты», с первых же слов его словно прорвало, вышибло затычку, и он, не страшась показаться смешным и жалким и того, что она его не поймет или поймет не так, говорил, говорил – и не мог выговориться. Он не жаловался Инге, не плакался, а просто пытался не столько даже ей, сколько самому себе объяснить, хоть что-то понять во всем, что с ним происходит, и хоть на краткий миг освободиться от распирающей его боли.
Она слушала, не перебивая, не переспрашивая, все понимая, и лишь изредка, когда ему становилось совсем уж невмоготу, прикасалась своей легкой ладонью к его руке, и тогда у него чуть отлегало от сердца.
Они просидели в кафе до самого вечера, потом он отвез ее домой, они сговорились вновь встретиться.
Так начался их роман, если эти отношения можно было назвать романом. Это было скорее похоже на отношения, которые могут возникнуть между только что пошедшим на поправку больным и врачом, осторожно помогающим ему встать на ноги.
Была ли то любовь? – Бенедиктов не задавал себе этого вопроса.
В театре только что выпустили новый спектакль, Инга в нем танцевала главную партию, и теперь надолго, месяца, по крайней мере, на четыре, была свободна от утренних репетиций, если не считать обязательного во все времена, изнурительного, до седьмого пота, «класса».
Они виделись ежедневно, он заезжал за ней в театр, и они проводили весь день вместе, а если у нее не было спектакля, то и вечер.
Всякий раз, когда она танцевала, он приходил в театр к последнему действию, и когда артисты выходили на поклоны, Инга находила глазами Бенедиктова в крайней ложе правого бенуара и, по-балетному низко приседая, кланялась ему, чуть не касаясь одной коленкой пола и разводя в стороны, словно крылья, худые, легкие руки с оттопыренными, согласно ритуалу, кистями.
Инга все более и более привязывалась к нему, все чаще по утрам звонила первая, не дожидаясь его звонка, и в ее отношении к нему дружеское, ровно-спокойное уступало все больше место какой-то нервной, затаенной напряженности. Это не то чтобы тяготило его, но он чувствовал какую-то необъяснимую свою вину перед Ингой – в чем? за что?!
Он понимал: если что и угнетает ее, очень гордую и очень, как это ни нелепо, когда речь идет о женщине, обманывающей своего мужа, чистую, бегущую всякой двусмысленности и пошлости, так это роль любовницы. Она любит его, Бенедиктов знал это, но хочет быть его любимой, а не любовницей, а для этого ей надо уйти от мужа, что, по ее убеждению, было бы предательством, а предательство было ей чуждо и пугало ее еще больше, чем пошлость. Но так – Бенедиктов и это понимал – долго продолжаться не может, у нее просто-напросто не хватит сил.
Их роман тянулся уже около года, в Москве опять стояла ранняя, бойкая весна, солнце пригревало уже совсем по-летнему, даже вечерами не спадала духота. Каждый день, после «класса», они ездили в Серебряный бор, на Москву-реку, брали лежаки и загорали у самой воды. Инга натиралась ореховым маслом, от которого кожа ее пахла чуть горьковато, и Бенедиктов, глядя на нее со стороны – но именно, все чаще и с все растущим чувством вины ловил он себя, со стороны, как бы вчуже, – поражался юной стройности ее тела. Ему нравилось смотреть, как кожа ее день ото дня делается все темнее, становясь кофейно-оливкового – «египетского», как она сама его называла, – оттенка.
В тот день Инга была молчаливее и отрешеннее обычного, и Бенедиктов вдруг понял, что сегодня не миновать разговора, который они все оттягивают, отмалчиваются, зная оба, что ни к чему хорошему он не приведет. И что его, как ни беги, как ни откладывай, рано или поздно не миновать.
Бенедиктов не удержался, спросил:
– Слушай, Инга… если б я сказал, что хочу жениться на тебе?..
Она ответила не сразу, спокойно и даже безразлично, будто речь шла вовсе не о ней:
– Ты этого не скажешь, Юра.
– Почему?
– Потому что ты этого не хочешь.
– И все же?..
– Я тебе уже ответила.
– Но – если бы?.. – настаивал он, хотя понимал, что она права и что разговор, собственно, бессмыслен. – Все же, Инга?..
– Ты хочешь знать, что бы я тебе ответила, если бы ты на самом деле предложил мне руку и сердце?
– Да.
– Я бы отказала тебе, Юра. А если б не отказала, то очень скоро в этом раскаялась.
– Тебе плохо со мной? – не поверил он.
– Мне с тобой замечательно.
– Так в чем же дело?!
– Именно в этом. Только ты этого не поймешь.
Та, подумал Бенедиктов, тоже мне говорила: «Ты этого не поймешь». Чего же такого я в них не понимаю – ни в Майе, ни в Инге?.. Я ведь и вправду влюблен в нее, думал Бенедиктов, мне ее постоянно недостает, и я веду себя с нею, как и должен вести себя влюбленный мужчина… хоть и знаю, что это – не любовь. Влюбленность без любви – оказывается, и так бывает…
– Ты думаешь, я не люблю тебя? – не удержался он.
– Я это знаю, – так же спокойно ответила она и даже не повернула к нему головы, продолжала лежать на спине, словно главная и единственная ее забота сейчас была не упустить ни одного лучика солнца, словно ничего ей на свете не было важнее этого «египетского», оливкового загара.
– Почему?! – нетерпеливо привстал он и потянулся за сигаретами, которые лежали на Ингином лежаке. Рука его коснулась ее тела, и он почувствовал, как прохладна, несмотря на жаркое солнце, ее кожа. Он взял из пачки сигарету, снова улегся на спину. – Почему?
– Потому что ты любишь другую.
– Кого?! – вдруг раздражился он. – Что ты сочиняешь?!
– Хорошо, не буду. Только никогда больше не задавай мне глупых вопросов. Лучше прикури мне сигарету.
– Как знаешь, – неизвестно на что обиделся он.
Он долго не мог прикурить сигарету, ветер гасил пламя зажигалки. Инга не курила по-настоящему, так, изредка покуривала, не затягиваясь, но ей шло, когда она курила, – лицо ее становилось при этом задумчивым, она держала сигарету на отлете длинными, без маникюра, пальцами, щурясь от дыма.
Разговор этот бессмысленно было продолжать, ничем хорошим окончиться он не мог. Он походил не на предложение руки и сердца, а скорее на прощание. А с него хватит прощаний!..
И все же он задал еще один вопрос:
– Ну… а ты?..
– Юра, ты обещал не задавать больше вопросов. Тебе непременно хочется, чтоб я ответила?
Он помедлил, прежде чем сказать «да». Хватит с него прощаний, объяснений, сведения счетов! Все это уже было, было!..
И все-таки сказал:
– Да.
Она помолчала, потом погасила сигарету о край лежака.
– Это надо понимать так, что ты меня спрашиваешь – люблю ли я тебя?.. Да, – сказала она, и при всем ее спокойствии голос ее дрогнул. – Да, я люблю вас, Юрий Павлович, не буду скрывать. И если уж на то пошло, весь этот год с вами я была счастлива. Представьте себе. Целый год. Хоть и всегда знала, что вы меня не любите. Подожди! – решительно отвела она его протестующий жест. – И не спорь!.. Не любите, Юрий Павлович. Вернее, любите, да не меня. Нет, и не Майю, я думаю. Не Майю ты теперь любишь, не живую Майю, а – свою любовь к ней. Память о своей любви к Майе. И это заполняет все ваше, уж извините за высокопарность, сердце, Юрий Павлович, мне в нем места не остается. Как и всем другим тоже, одно утешение. И все же я была с вами счастлива, вполне.
– Чем же?.. – вот уж об этом ему не следовало спрашивать, хватит с него и так чувства вины перед нею!
– Тем, что я вас любила, этого мне было достаточно.
– В таком случае, – усмехнулся он, – в таком случае я должен быть самым счастливым человеком на свете. Если б, разумеется, было правдой, что я все еще люблю Майю.
– Это правда, Юра, – Инга перевернулась на живот, придерживая рукой расстегнутый купальник. Она сняла темные очки и повернула лицо к Бенедиктову. Глаза у нее были не печальные, как он ожидал, а скорее насмешливые.
«Над чем это она смеется?»– подумал он озадаченно.
– Это правда, – повторила она. – Но тебе непременно подавай взаимность. А тысячам людей было бы довольно и такой любви, безответной, у них-то нет никакой. Вы счастливейший человек на свете, Юрий Павлович, вас можно показывать за деньги. И в этом мы с вами в равном положении, мне не на что пенять. Я ведь давно вас люблю, Юрий Павлович, очень может быть, что я полюбила вас еще тогда, девочкой, когда снималась в вашем фильме. И еще может быть, что когда Майя уехала, я вдруг подумала, что… Глупый разговор! – оборвала она сама себя, и насмешка в ее глазах погасла. – Глупый, нелепый и…
– И?.. – переспросил он ее упрямо, с каким-то мучительством над нею и над самим собой.
– И наверное, Юра, последний, – ответила она ровно и снова надела очки. Теперь он уже не видел ее глаз, – И больше никогда не будем об этом, слышишь? Ни-ког-да!
– Чего ты ждешь от меня? – спросил он после долгого молчания. Солнце палило немилосердно. Не обгореть бы, подумал он невпопад и повторил: – Чего ты хочешь?
– Чего хочу?.. – переспросила Инга и ответила не сразу: – Я хочу, чтобы ты замолчал. А еще больше я хочу остаться одна.
– Ты хочешь, чтобы я ушел?
– Нет, – опять усмехнулась она, – не в таком прямом смысле.
«Зачем, зачем я требую от нее того, что должен решить и сделать сам?! – корил он себя. – Почему я хочу все взвалить на нее и потом утешаться тем, что не я, а она сама все решила?..»
И все же сказал вслух:
– Может быть, ты хочешь, чтобы я вообще исчез?..
– Глупости!.. – поморщилась она и закончила, отвернувшись от него: – В конце концов, я могу быть одна и при тебе.
Господи, взмолился он про себя, ты же видишь, знаешь, я очень старался полюбить ее! И полюби я ее – все, может быть, было бы спасено. Инга – единственная женщина на свете, с которой у меня могло бы это получиться!.. Не получилось…
Еще одно прощание, подумал он, и еще одно никогда.
И, словно подслушав его мысли, Инга сказала, не поворачиваясь к нему:
– Впрочем, ты, наверное, прав, лучше нам, если уж на то пошло… Если ты только сможешь, не звони мне больше, исчезни… И если, конечно, я сама смогу… Прости.
Проходят недели, месяцы, времена года, память мутнеет, как старое зеркало, отражение в нем становится с каждым днем бледней и туманнее. Ты возникаешь теперь в ней какими-то обрывками, клочьями воспоминаний. Это похоже на потемневшую от времени картину – часть лица, блеск взгляда из мрака, целого уже не объять глазом, не восстановить. Теперь-то я уж и вправду теряю тебя.
Но еще страшнее представить, что тебя могло бы у меня вообще не быть…
11
Дима Куликов – Бенедиктов проучился с ним в одной группе все пять институтских лет – покончил жизнь самоубийством: принял десятка два таблеток намбутала, и, не дождавшись действия снотворного, повесился на собственном шарфе в прихожей.
Димино лицо глядело из гроба бледным до синевы, неживым пятном. Узнать его было нельзя, смерть исказила привычные черты: при жизни оно было нервно-изменчивым, непостоянным, и лишь глаза всегда жили одним и тем же выражением удивления, доброты и детской незащищенности. Но теперь глаза были закрыты, лицо застыло, и недвижный его покой ничего общего не имел с живым Димкой.
На похороны пришло много народу – те, кто начинал вместе с Димкой, кто жил с ним бок о бок, его однолетки, коллеги-киношники.
Это была первая смерть в их поколении, первая брешь. Им было всем чуть больше сорока – совсем еще молодые, на середине жизненного пути, и бессмысленность, неожиданность Димкиной смерти не просто преисполнила их искреннего горя, но и испугала. Дима был один из них, и его смерть была смертью одного из них, была для каждого не просто потерей друга, но и потерей части самого себя. Это было прощанием не только с Димкой – однокашником, корешом, но еще и прощанием с их верой в собственную неуязвимость.
Впервые за многие годы собравшись вместе – жизнь развела их, разбросала, – на Димкиных похоронах, они вдруг с удивлением обнаружили, какими разными стали, как погрузнели и поседели, и, испугавшись этой перемены, вдруг потянулись друг к другу и к временам их прежнего нерасторжимого дружества. Они стояли в молчании тесной толпой вокруг Димкиного мертвого тела в тщетной надежде хоть сейчас вновь стать чем-то единым, той самой «новой волной» шестидесятых годов, так и не докатившейся до берега, разбившейся по пути на мелкие, разрозненные брызги.
Иных уж нет, думал Бенедиктов, стоя в толпе былых приятелей у Димкиного гроба, а те далече, а уж Димка-то так далеко, что теперь до него не докричаться, да и ему уже не услыхать того, что говорится над его мертвым телом.
Странная у Димки была судьба, да и сам Димка – странная фигура. Из множества задуманных и сочиненных им сценариев он написал едва ли три или четыре, и только один из его фильмов имел настоящий успех. Лучшие свои сюжеты – а придумывались они им щедро, на ходу, – он тут же выбалтывал, проговаривал, уступал другим за бутылку коньяка, за пол-литра, за сто граммов и потом, видя их на экране, не признавал, да и признав, не требовал даже извинений.

