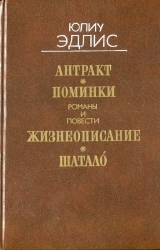
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
– Мальчик! Мальчик! Ты почему не здороваешься, мальчик?!
Он невольно приостановился, как и вчера, прилипнув подошвами к размягченному зноем асфальту, но даже простого «здрасте» выжать из себя не мог.
– Ты беженец, да, мальчик? Эвакуированный? – Старуха была настроена словоохотливо, а может, ей просто нечего было делать. – Ты откуда, гмерто чемо?
Но он опять, как накануне, припустился бежать, и только мелькнули в голове вызубренные к уроку литературы стихи – «бежал, как заяц от орла».
А она крикнула ему вслед зычным своим, беззастенчивым голосом:
– Ты не бойся, чего ты боишься? Приходи еще, это ничего, что вы с Капелькой не знакомы, я вас познакомлю, у нас гоми есть и лобио, ты же наверняка голодный, тебе, чтоб расти, кушать надо, скажешь, нет?!
Как угадала старуха, каким чутьем, что он не здешний и – самое обидное, самое унизительное! – что он голоден, всегда голоден и стыдится этого даже больше, чем своих выкрашенных буро-фиолетовой кубовой краской и ставших ему не по росту короткими старых брюк?!
И хотя он тут же дал себе слово, что больше никогда в жизни не пойдет в школу этой дорогой, ни за какие посулы не пройдет мимо окна со старухой, но назавтра он опять был тут как тут, и старуха в окне тоже была тут как тут, но на этот раз без очков на красной шерстяной нитке, и потому не увидела его, во всяком случае, не признала даже тогда, когда, услышав те же нежные, несмелые звуки рояля из комнаты, он опять остановился под самым окном.
Все это происходило на следующий год после того, как ввели раздельное обучение и их сорок третья школа стала мужской, а девочек перевели в другую, на той же улице, но несколькими кварталами ниже. Он не знал даже, в той ли школе и в каком классе учится Капелька, и, сколько ни поджидал ее, укрывшись в подъезде соседнего с женской школой дома, так ни разу и не увидел.
Все мальчики в их классе еще с тех времен, когда обучение было нераздельным, «дружили» с девочками, записки с предложениями «дружить» так и порхали на уроках от парты к парте, подобно белым откормленным голубкам с базарных открыток: «Люби меня, как я тебя», но Ламара Гвелисиани, самая красивая и надменная девочка в классе, наотрез отказала ему:
– Нет, с тобой дружить я не собираюсь, потому что я вообще не такая.
И вот однажды, когда он, спрятавшись в пропахшем кошками подъезде, поджидал Капельку, не кто иной, как не простившая ему своего отказа «дружить» с ним Ламара вошла в этот самый подъезд вместе с двумя подружками и, ничуть, по всей видимости, не удивившись, застав его здесь, громко сказала, указав на него испачканным фиолетовыми чернилами пальцем:
– Вот он как раз, я же вам говорила! Ну тот, который торчит каждый день под окном у Капельки! А дружбу еще предлагает другим! – и, гордо отвернувшись от него, прошла мимо к лестнице.
Подружки пропорхнули за нею, на каждой ступеньке оборачиваясь и безо всякого стеснения разглядывая его с головы до ног и откровенно прыская в такие же измазанные химическими чернилами ладошки.
До конца учебного года он так ни разу ее не увидел, хоть и проходил два раза на дню мимо ее окна на Мачабели, из которого иногда была слышна музыка и где неизменно сидела в одной и той же позе Капелькина бабушка.
Но то ли у бабушки разбились очки, то ли она постоянно забывала их надевать, но она уже больше никогда не узнавала его и не окликала.
А потом начались каникулы, Капельку, вероятно, увезли на дачу в Цагвери или в Патара-Цеми или отправили в пионерский лагерь, потому что за все лето – а он продолжал что ни день приходить сюда, к ее дому, – из окна больше не слышна была музыка и не видна была в нем со своими седыми, торчащими во все стороны космами и характерным профилем бабка.
А еще потом, вспомнил он с уж и подавно безнадежной печалью, после начала нового учебного года от той же жестокосердной Ламары Гвелисиани он узнал, что летом Капелька умерла. «От туберкулеза, – сказала Ламара и с нарочитой, неискренней жалостью пояснила: – От чахотки».
Он виновато покосился на мальчика – тот отрешенно и завороженно глядел на бывшее Капелькино окно, за которым сейчас наверняка жили совершенно другие, чужие люди: ведь мальчик не может знать о смерти Капельки! Он все еще там, в том знойном, нескончаемом лете, в нетерпеливом ожидании ее возвращения. Мальчик не знает, что она умерла сорок с лишним лет назад, ждет ее, хоть, может быть, и не догадывается еще, что любит, и наверняка не простил бы ему, если б мог узнать, что за все эти сорок лет он только сейчас в первый раз вспомнил Капельку…
А он и этого не вправе сказать мальчику, не вправе оправдаться, потому что для этого ему пришлось бы обгонять время, а у времени свой собственный ход, своя размеренная поступь, и никому не дано в это вмешиваться.
Тем более что все равно никто не в силах ничего исправить, никто никого ни от чего не может уберечь или хотя бы предостеречь.
Да и мальчика рядом уже не было.
Он прошел до конца улицу Мачабели, она упиралась в серое трехэтажное здание школы, но заходить внутрь не стал – зачем? Едва ли он найдет там хоть одного из учителей, у которых он когда-то учился и которые могли бы его вспомнить. Через открытые железные ворота он заглянул во двор, теперь он ему показался гораздо меньше и теснее, чем прежде. Он поискал глазами и нашел водопроводную трубу, спускавшуюся вниз вдоль крутого скалистого склона горы, которая замыкала собою школьный двор.
На длинном гребне горы и в долине по ту ее сторону была таинственная, как им тогда казалось, и в те годы небезопасная даже в дневное время Комсомольская аллея и еще более пустынный и заброшенный Ботанический сад.
Потом, в первые послевоенные годы, на гребне, лицом к городу, был сооружен огромный, метров в тридцать высотою, профиль Сталина, собранный из светящихся неоновых трубок. Неоновый свет тогда был и вообще-то в новинку, и горящий пульсирующим сиянием Сталин как бы парил над городом, не угасая, всю ночь, и лишь с первыми лучами солнца электричество отключали.
С вершины горы во двор школы спускалась – пусть и не совсем отвесно, как им тогда казалось, но все же под довольно крутым углом – водопроводная труба толщиною с руку взрослого мужчины и длиною, как они тогда друг друга пугали, с добрую сотню метров, лишь в двух или трех местах прикрепленная кронштейнами к камню.
Теперь и длина трубы оказалась раза в четыре короче, и наклон ее не таким устрашающим, но, думал он, стоя во дворе своей бывшей школы, по ней наверняка и сегодня, отвоевывая себе место под солнцем и уважение одноклассников, бесстрашно спускаются мальчишки – сверстники его тогдашних лет.
Суть заключалась в том, чтобы вскарабкаться, цепляясь руками и осторожно упираясь подошвами в каменные уступы, до того места, где труба окончательно отходит от скалы, и, ухватившись руками за кронштейн, оторвать ноги от твердой опоры, одним движением перекинуть и обнять ими трубу, тот же маневр проделать и с руками, прижаться к ней всем телом, затем ослабить объятия и, подчиняясь только что усвоенному в классе закону всемирного тяготения, заскользить вниз к такой отсюда, с высоты, далекой, почти недостижимой земле, где за тобою следят не знающими жалости глазами дожидающиеся своей очереди соискатели славы.
В трубе что-то угрожающе урчит и булькает, она прогибается под тяжестью твоего тела, вибрирует, как живая, эта дрожь передается и тебе, скольжение, как ты ни прижимайся, ни обхватывай судорожно руками и ногами холодный металл, все убыстряется, ты страшишься заглянуть вниз, в надвигающуюся на тебя с чудовищной скоростью пустоту, горят ладони, обдираемые в кровь об изъеденную ржавчиной, грубо-шершавую, как наждак, поверхность трубы, ветер перехватывает дыхание, закладывает ватой уши, ты летишь все быстрее, все неудержимее в бездну, слышно, как жалобно лопаются на заду единственные твои, давно прохудившиеся штаны, но ты уже ничего не соображаешь, поскорее бы земля, кажется, ты больше не выдержишь и разомкнешь затекшие, бесчувственные руки и грохнешься насмерть, но ты не успеваешь додумать свою последнюю думу, как, весь в холодном поту, больно ударяешься пятками о твердую почву, все, конец, ты живой, хоть ноги и не слушаются тебя, мелко и унизительно дрожат, в глазах набухают и лопаются кровавые пузыри, но – ты ликуешь!
После этого испытания можно было жить с гордо поднятой головой.
Чаще всего, вспомнил он, возвращаясь вновь к центру города, «на шатало» они сбегали в кино – вот в это, он сразу нашел его, наискосок от Дворца пионеров, – просиживали по три сеанса подряд, знали наизусть и наперед оповещали криками или безудержным смехом зал о следующем эпизоде, и особенно рьяно – на «боевых киносборниках» первых лет войны, в которых вопреки тому, что на самом деле происходило на фронте, победы над глуповатыми, смешными до идиотизма фашистами доставались нам играючи и малой кровью, и, что теперь может показаться по крайней мере странным, этой неправде с экрана они безоговорочно верили, потому что именно этого от него и ждали, на это уповали, а стало быть, не такая уж это для них была и неправда.
В сорок третьем, даже в конце сорок второго уже крутили американские и английские картины – кинопомощь доблестному союзнику оказалась проще, чем открытие долгожданного второго фронта: «Северная звезда», «Сестра его дворецкого», «Багдадский вор» с Конрадом Вейдтом, «Маугли», до колик смешной «Джордж из Динки-джаза», трогательная и такая далекая от войны «Серенада Солнечной долины» с наивной простушкой Сони Хенни, – песни из этого фильма распевали еще много лет спустя, да и поныне их еще можно услышать, «Три мушкетера» с братьями… дай бог памяти, знаменитые три брата-комика, вот только как их звали, ему уже не вспомнить…
И хотя в этих фильмах правды было еще меньше, чем в «боевых киносборниках», они и в них находили что-то совершенно им необходимое, что-то помогающее им жить и смеяться, веселиться до упаду даже в те тяжкие дни.
А потом, в сорок третьем и сорок четвертом, стали крутить уже и фильмы трофейные – «Девушку моей мечты», например, и – всю войну, как и до нее, как и долго после, – нестареющий «Большой вальс».
Чушь какая-то, пустяки лезут в голову, досадливо отмахнулся он, сидя в душной тьме, кинозала, а куда более важное, значительное забывается, улетучивается без следа… Ведь не для того же я здесь, чтоб вспоминать эти глупые фильмы, не для того сижу в этой набитой до отказа, пропахшей потом и карболкой эвакопункта киношке моего детства!..
Мальчик сидел в темноте рядом, лузгал семечки – единственное доступное тогда лакомство – и сплевывал шелуху в кулак, от него тоже кисло и жарко несло потом. На штопаном-перештопаном полотне экрана уходил от погони, запросто обводил вокруг пальца врагов и без промаха отстреливался Неуловимый Ян.
От волнения мальчик все время ерзал в скрипучем кресле, при каждом удачном выпаде д’Артаньяна или убитом фашисте радостно вскакивал с места и кричал во все горло вместе со всеми, на каждый поцелуй с экрана откликался самозабвенным чмоканьем.
Он то и дело косился на мальчика, но в темноте плохо различал его лицо и вспоминал, как летом не то сорок второго, не то сорок третьего вся их семья без промедлений откликнулась на призыв местной киностудии: «Граждан, имеющих одежду западного стиля, просят явиться на студию для съемок в массовых сценах кинофильма „Неуловимый Ян“, – тогда в городе было несметное множество эвакуированных именно из западных, лишь перед самой войной присоединенных новых республик и областей, и далеко не все еще беженцы успели выменять на продукты или распродать на барахолке в Сабуртало свою одежду „западного стиля“.
Правда, потом, когда он смотрел фильм, то ни себя, ни кого-либо из домашних ни в одном кадре не нашел и до слез огорчался по этому поводу.
Если вдруг рвалась ветхая лента, мальчик вместе со всем залом топал ногами в стоптанных парусиновых туфлях, выкрашенных черной ваксой, и истошно кричал киномеханику: „Сапо-ож-ник!“
Когда он вышел из кино, зной улицы показался ему еще томительнее и неотвратимее. Он перешел на противоположную сторону проспекта и медленно пошел каштановой аллеей, каштаны уже отцвели, свечи их пожелтели и осыпались, мимо Дворца пионеров, где он пропадал некогда каждый вечер допоздна, и лучших часов в его жизни, пожалуй, никогда после не было – не потому ли, что тогда он не ведал не только того, что с ним будет потом, но и того, чего у него так и не будет, чему так и не сбыться, хотя тогда-то он свято верил, что все будет, все сбудется, как в песне из „Детей капитана Гранта“: „Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет“.
Но как это растолковать мальчику?.. И – нужно ли?..
Он пошел вниз, минуя Хлебную площадь, к Майдану. Базара здесь уже не было, площадь, где раньше с утра до позднего вечера гортанно переругивались торговцы, истерически кудахтали привезенные на заклание куры, где терпеливо и безнадежно перебирали иссохшими ногами немолодые ишаки с обреченно-печальными глазами, где висели елочными рдяными гирляндами перец и молочно-жемчужными – чеснок и одуряюще пряно шибали в нос травы – кинза, цицмат, тархун, – площадь теперь была пустой и чистенькой. Из серных бань по соседству сладковато пахло, как и встарь, сероводородом. Кура текла маслянисто-пенная, Метехский замок упирался в небо островерхой кровлей, но – ни гомона базарной толпы, ни мечети Шах-Аббаса, ни Ишачьего моста…
Он повернул обратно, кружил наугад по узким, сплетенным в частую сеть переулкам и тупичкам, по стершимся в памяти воспоминаниям, но ветры не возвращались на круги своя, всему свое время и свой срок. Он кружил вслепую по собственной памяти, собирал по крохам себя прежнего, как археолог по черепкам – давно истаявший мир.
Ему захотелось прохладного, терпко пощипывающего небо вина, свежей зелени, кисловатого тушинского сыра, хрупко лопающейся на зубах редиски… Он вспомнил, где это наверняка найдет – в том погребке на Пушкинской улице, где всегда, даже в самую жестокую жару, не душно и вино всегда холодное и свежая закуска.
Погребок в те времена назывался „Симпатия“, едва ли его переименовали, он был одной из тогдашних достопримечательностей города. Длинный и узкий подвал – по одному ряду столов вдоль каждой стены, – в который вела крутая каменная лестница со слишком высокими ступенями, был расписан портретами выдающихся исторических деятелей всех времен и народов от Сократа до, соблюдая хронологический порядок, наших дней. Безвестный вывесочных дел мастер, бродячий базарный художник на скупо ограниченном пространстве охватил почти целиком всемирную историческую эволюцию, причем – и это было самое замечательное в анонимном его произведении – у всех изображенных лиц мужского пола, включая Сократа, Александра Македонского, Петра Первого, Наполеона, Багратиона и так далее, были черные, щегольской стрелкой, кавказские усы, густые кустистые брови и глаза с поволокой, чуть навыкате, и все они, как один, были одеты в форменные френчи защитного цвета по моде времен военного коммунизма.
Женские портреты – царица Тамара, к примеру, или Екатерина Великая – тоже были практически неотличимы один от другого, все, как на подбор, красивые несколько выспренной, резкой красотою.
Он прошел Пушкинскую из конца в конец, но „Симпатии“ не обнаружил, как и другого погребка, поближе к Солдатскому базару, „Олимпии“. Он вернулся обратно и стал медленно, дом за домом, искать исчезнувший погребок и нашел его – крутые, слишком высокие и узкие ступени вели в прохладный сумрак, но вместо прежней висела новая вывеска, что-то вроде „Буфет № 4 гортреста столовых и ресторанов“. Он спустился вниз – ошибки быть не могло, хотя на неровно побеленных стенах не было и следа от былых изображений великих людей кисти безвестного живописца.
Он хотел было уйти отсюда, бежать от еще одного зряшного, обманувшего его воспоминания, но уж слишком знойно было снаружи, да и ноги гудели от усталости.
Он сел за столик под высоким, у самого потолка, окном, кроме него, в подвальчике не было ни души, видимо, час еще слишком ранний, решил он. Буфетчик, стоявший в мечтательно ленивой позе за своей стойкой, и не подумал подойти к нему и принять заказ, как то было заведено в прежние дни. Он даже вспомнил имя прежнего официанта – Вано. Пришлось встать самому и подойти к буфету, но на вопрос: что есть? – буфетчик только волооко повел головой в сторону прикнопленного к стене и пожухлого от времени листочка с меню.
В нем значились на закуску одни пельмени. Когда-то, подумал он без укора, тут и слова-то такого не знали – пельмени, раньше тут знали одни хинкали…
О зелени и сыре и речи не могло быть, это он понял, не задавая вопросов, по выражению буфетчикова лица.
Он взял бутылку вина, оно оказалось довольно холодным, и тарелку крупных серых пельменей, плавающих в мутноватом бульоне, и вернулся к своему столу.
Когда-то, вспоминал он, наливая вино в не слишком прозрачный стакан, когда-то, в первые студенческие годы, они пробавлялись тем, что в день стипендии приходили вчетвером или впятером сюда, в былую „Симпатию“, часам к шести вечера, когда погребок бывал пуст, и брали бутылку вина и немножко сыра и зелени, но не притрагивались к питью и еде, нетерпеливо глотая голодную слюну и дожидаясь, пока ресторанчик заполнится настоящими завсегдатаями, кредитоспособными вечерними кутилами и Вано подаст на их столы изобильную выпивку и закуску, и лишь потом, приглядевшись и безошибочно выбрав среди них подходящую компанию, посылали ей – „от нашего стола – вашему столу“ – единственную свою непочатую бутылку. Уловка была не нова и не слишком хитра, да они и не скрывали свою цель – достаточно было взглянуть на их отощавшие студенческие лица, но действовала без осечки: они не успевали и глазом моргнуть, как – „от нашего стола – вашему столу“, но в обратном направлении – Вано нес им полдюжины ответных бутылок, одуряюще-остро дымящиеся шашлыки, гору зелени, из которой выглядывала розовая редиска, пунцовые помидоры, снежно-белый круг сыра. А те, кто одарил их безвозмездным этим пиршеством, и не поворачивали к ним голов на могучих красных шеях, не смущали их ожиданием благодарности. И они, стараясь изо всех сил не торопиться, не уронить себя, насыщались впрок, до следующей стипендии.
Он не стал есть пельмени, они и на вид были невпрожев, пил, нетороясь, вино, еще хранящее, казалось, прохладу врытого в землю глиняного крестьянского квеври.
Мальчик возник за столом так же незаметно, как и в прошлые разы, сидел на краешке стула, подперев ладонями подбородок и глядя на него неотрывно своими серыми глазами из-под длинных, чуть загнутых кверху ресниц.
Он впервые увидел так близко, впритык лицо и глаза мальчика и, главное, его руки, подпиравшие подбородок, в особенности пальцы – толстые, распухшие, красные какой-то нездоровой желтоватой краснотою, и вспомнил: ну да, школу тогда и зимою почти не топили, да и дома жестяная самодельная „буржуйка“ с выведенным под прямым углом в окно коленом трубы, раскалившись докрасна и истошно потрескивая, тут же остывала, не только опилки, даже сырые, мелко распиленные дрова сгорали в ней мгновенно. Да еще скудное тогдашнее питание, авитаминоз или как это называлось, и руки уже с осени обмораживались, наливались этой водянистой краснотой, пальцы становились похожими на сардельки и не отходили даже за лето.
Вано – потому что теперь это был прежний Вано из прежней „Симпатии“, он даже нисколько не постарел и не изменился за эти годы, все в той же своей не бог весть какой свежести белой куртке – подошел к столу и поставил на него запотевшую бутылку и блюдо с сыром и зеленью, на ней, казалось, еще поблескивали капельки утренней росы, сказал безразлично: „От того стола – этому столу“, – и, не дожидаясь, как и тогда, ответа, ушел обратно за свою стойку.
Он повернул голову, огляделся – подвал был по-прежнему совершенно пуст, никто не мог прислать эту бутылку „от нашего стола – вашему столу“, этого просто некому было сделать. И тем не менее – вот она, и сыр, и зелень тоже, и мальчик – тут как тут.
И на стене – так ему почудилось по крайней мере – сквозь известку проглянули, все на одно лицо, в полувоенных френчах защитного цвета, лики исторических деятелей всех времен и народов. Мальчик не сводил с него внимательных, взыскующих невесть чего глаз, но теперь его присутствие уже не казалось ему странным.
– Кушай, бичо, – сказал мальчику из-за своей стойки Вано, – ты же голодный, зачем стесняешься?
Мальчик, не поблагодарив, не улыбнувшись, взял кусок хлеба в одну руку, помидор в другую и стал есть скупо и не торопясь, слизывая языком крошки с губ.
Вано из-за стойки следил за мальчиком серьезными и жалостливыми глазами.
Он повернулся к Вано, спросил, кивнув на мальчика:
– Ты не удивляешься?..
Вано пожал плечами как бы с укоризной за самый этот вопрос:
– Я давно ничему не удивляюсь, дорогой. А если и удивляюсь, так не тому, что было когда-то, а тому, что стало теперь. С тобой так разве не бывает? – И, кивнув в свою очередь в сторону мальчика, сказал как неопровержимое доказательство: – Его же это не удивляет…
Он вдруг вспомнил ни к селу ни к городу старую, времен сорок третьей школы, расхожую и теперь уже и не взять в толк что означавшую присказку: „Чечевицалобио, гамарджоба, Гогия…“
Мальчик продолжал аккуратно и неспешно есть, не глядя ни на кого, и он не знал, оставшись с ним с глазу на глаз, о чем говорить, чего мальчик ждет от него и в чем он должен перед ним повиниться.
У мальчика были давно не стриженные каштановые волосы, они свисали на шею сальными косичками.
А может быть, думал он, незаметно и с опасливым, ревнивым любопытством изучая мальчика, может быть, говорить вовсе не обязательно. Если все получилось так, а не иначе и мальчик – вот он, то нет ничего удивительного, если он знает обо мне не меньше, чем я о нем. Но тут ему пришло в голову: а знает ли он на самом деле правду о мальчике, помнит ли, не растерял ли ее?..
Но и молчать тоже было нельзя, не то мальчик подумает, что он отмалчивается и увиливает от ответа.
– Ты ешь, ешь, – сказал он невпопад; мальчик и без его понуканий продолжал есть хлеб с сыром и помидор. – Ты на меня не обращай внимания, я сыт.
И поймал себя на том, что это-то и был ответ. Он сыт, да. Он давно уже и бесповоротно сыт. Он даже не помнит, когда был в последний раз голоден, забыл, как это бывает. Как бывает, когда постоянно хочется есть и после третьей, вечерней смены в школе ты делаешь огромный крюк, чтобы насытиться хотя бы запахом свежего хлеба из окна подвальной торни. Или какими жадными глазами ты глядел часами на зеркальные витрины первого „коммерческого“ гастронома – это было уже незадолго до того, как отменили карточки. Или вкус, вкуснее которого ничего на свете и вообразить нельзя было, первого за всю войну мороженого – там же, на углу площади, напротив „коммерческого“ гастронома: мелкие, гладкие шарики ядовито-розового цвета, отдающие горьковатой сладостью сахарина… Я давно уже сыт, сытость стала для меня уже не потребностью, а привычкой, а ничто, как привычка, не отшибает так верно память об иных временах.
Неподалеку от того первого в войну кафе-мороженого, на площади, рядом со зданием штаба Закавказского фронта висела большая, во все зеркальное окно, карта военных действий, на которой ежедневно отмечали флажками положение на фронтах: красные флажки – наши позиции, черные – немецкие.
– Но она ведь кончилась! – неожиданно вырвалось у него. – Она давно кончилась, мы победили!..
Мальчик вскинул на него глаза, и в них была такая недоверчивость, такая тревога и надежда, что у него перехватило дыхание.
Ну да, конечно, чувствовал он, как в горле встал ком, сорок второй, еще только лето сорок второго, наши еще отступают, черные флажки неумолимо теснят их на восток и на юг, загоняют в горы, в Сальские степи, перевалили за Дон и прижимают к берегу Волги. Еще до конца далеко, еще ничего не известно, и только бог знает на чем основанной верой, точнее даже – полнейшей, абсолютной невозможностью, неспособностью не верить в этот конец, в непреложную победу, мы тогда и держались, и каждый день ходили на площадь к карте, и молча смотрели, как черные флажки теснят красные вправо и вниз…
Мальчик машинально, не сводя с него глаз, полных тревоги и ожидания, надкусил помидор, и по его подбородку потек розовый прозрачный сок с мелкими желто-зелеными зернышками. Он вытер подбородок ладошкой, тыльная ее сторона, как и обмороженные пальцы, была вяло-припухлой, казалось, ткни – и из нее тоже потечет такая же желто-розовая нездоровая жидкость. Не дожевав, мальчик встал из-за стола, и он понял, куда тот торопится.
– Да, – сказал он. – Пойдем.
Они вышли вдвоем из прохладного сумрака бывшей „Симпатии“ в пропахшую бензиновыми парами духоту улицы, пересекли площадь, прошли подземным переходом на противоположную сторону к серому зданию штаба.
Еще издали он увидел витрину, в которой в войну вывешивали карту, никакой карты теперь там, естественно, не было и быть не могло, там висели какие-то сатирические плакаты на сегодняшние международные темы.
Но когда они с мальчиком, протолкавшись сквозь густо снующую по проспекту праздную толпу, подошли вплотную к окну, карта в нем висела. Ее пересекала сверху донизу, чуть наискось, с северо-запада на юго-восток, линия фронта, и это было похоже на черно-красный запекшийся рубец, располосовавший пополам живое тело.
Флажки по сравнению со вчерашним передвинулись еще дальше на восток, прижались к Волге, уткнулись в предгорья Главного хребта на юге.
Они стояли рядом, глядя неотрывно на карту, а вокруг сновала веселая, шумная, неунывающая толпа, и никто, кроме них, не смотрел в сторону окна с картой, никто не остановился перед ней – она ведь и вправду давно кончилась, война, сорок лет прошло, и в толпе, которая молодо и беззаботно обтекала его и мальчика, было уже, пожалуй, немного таких, кто бы помнил эту карту и некогда часами простаивал перед ней в скорбной неистребимой надежде.
И все-таки нас двое, думал он упрямо, я и мальчик, и если даже нас осталось бы на свете только двое, и этого было бы достаточно, чтоб не забыть, чтоб помнить. Забыть – все равно что предать, думал он, стоя перед картой, пересеченной не зарубцевавшейся – даже сейчас, через сорок лет – красно-черной полосной раной.
Но мальчика рядом уже не было, как и карты в окне штаба, по проспекту текла мирная, беспечная толпа. В этом городе, думал он, влившись в нее, никто никогда и никуда не торопится, в нем все еще жива человеческая потребность просто ходить без цели и без нужды по улицам, улыбаясь встречным и здороваясь чуть ли не с каждым вторым, такое впечатление, что все тут друг другу родственники или, на худой конец, соседи и друзья.
Как много во мне и хорошего и дурного от этого города, с благодарностью думал он, медленно двигаясь вместе с толпой по проспекту.
Он вдруг вспомнил совершенно отчетливо, почти въявь, то переполнявшее его, рвущееся вон из сердца самое, может быть, светлое и чистое чувство тех дней: огромная, с высоченными, под самый потолок, окнами палата в подшефном госпитале, во дворе которого он и жил, на стульях, на койках, на подоконниках и просто на полу сидят обмотанные по самые глаза, запеленатые в белую марлю и бинты и оттого похожие на снежных баб раненые, костыли меж колен, руки на дощечках словно живут своей недвижной жизнью отдельно от тел, и из-под белых повязок на бледных, почти таких же мертвенно-белых лицах – нетерпеливые, требовательно ждущие, жадные глаза.
Тогда он знал, чего они ждут от него, и когда он читал им ломающимся мальчишеским голосом, едва слышным из задних рядов, со стоящих у противоположной стены госпитальных коек, волнуясь и торопясь, задыхаясь от волнения и торопливости, „Убей его“ или „Жди меня“, он и они были – одно, как одна на всех была тогда и война и судьба. Он просто произносил вслух и „с выраженьем“, как учили его в драмкружке Дворца пионеров, их собственные слова и мысли, пусть и зарифмованные кем-то другим, и ни единым словом, ни единой интонацией не лгал им, не посмел бы солгать. Теперь он твердо знает, что тогда-то наверняка был счастлив.
Счастлив?! – удивился он самому себе. Война, смерти, голод, эти забинтованные по самые глаза искореженные люди, эти живые культи без рук и без ног, и его задыхающийся от волнения голос, и запах недоступного свежего хлеба из решетки торни, и затемненный город, и обмороженные, красные, как сардельки, пальцы, и войне не видно конца, а в победу можно только слепо верить, и все это вместе – счастье?.. Понять этого не дано, сдался он, это нужно просто помнить.
Он не пошел назавтра к тете Мане – маслин в ресторане не оказалось, не пошел и на следующий день, и на третий, все некогда было, недосуг, все откладывал – не горит. А на четвертый, в среду, на его имя пришла в гостиницу местная телеграмма без подписи: „Тетя Маня умерла похороны в пятницу приходи“. Когда он пришел в дом умершей тети Мани, там никого, кроме двух молоденьких студенток-жиличек да Норы, которая упорно делала вид, что не узнает его и даже не догадывается, кто он, никого не было. Он удивился и встревожился – глупо, одернул он себя, я становлюсь мистиком либо и вовсе схожу с ума – что и мальчика тоже нет.
В двух маленьких, темноватых комнатках, одну из которых, переднюю, занимали жилички с их небогатым студенческим обиходом, стоял такой же, как и от живой тети Мани, невыветриваемый запах старости и тления.
Тетя Маня лежала на том самом обеденном столе, на котором некогда его мать смывала запекшуюся кровь с дедушкиного пальто. Гроб еще не привезли, привезут только завтра, в четверг, объяснили виновато девочки. Тетя Маня лежала на столе, одетая в старое, в крупных броских цветах, сильно пахнущее нафталином крепдешиновое платье с оборками и накладными ватными плечами по моде сороковых, а может быть, и тридцатых еще годов, из-под платья виднелись ее ноги в лакированных туфлях-лодочках на непомерно высоком каблуке, ноги казались совершенно молодыми, стройными, с нежной и гладкой кожей под тонкими шелковыми чулками.
На подоконнике и на столе лежало несколько сиротливых веток свежей темно-зеленой хвои, а в изголовье тети Мани, в высоком фаянсовом кувшине, букет последней в этом году белой махровой сирени.
И вдруг на невысоком, с потускневшей пятнами полировкой буфетике у противоположной стены он увидел тарелку с крупными, сочными, лаково лоснящимися маслинами, а в другой – несколько косточек от съеденных ягод, их было немного, этих косточек, видно, тетя Маня ела маслины бережно, скупо, чтобы растянуть удовольствие и чтобы их хватило подольше.

