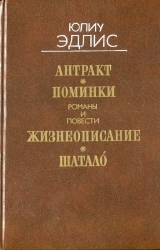
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
В дни румынских королевских праздников дед в порядке патриотической демонстрации надевал свой старый, слежавшийся в шкафу и сильно пахнущий нафталином белый полковничий мундир и долго прохаживался, не торопясь, по Харузинской, скрежеща по тротуару колесиком длиннющей шашки с болтающимся на боку темляком. Тем не менее офицеры местного гарнизона всегда приглашали его в свое собрание, обращаясь к нему на иисьме не иначе как «домнул колонел» – «господин полковник», но дед из соображений чести ни разу на эти приглашения не откликался.
Согласно семейному преданию, свою знаменитую песню «Что за ветер в степях молдаванских» Вертинский сочинил именно в дедовом доме, после того как простоял целый день на обрыве над Днестром, глядя на противоположный, такой близкий и совершенно недоступный русский берег.
Так вот, незадолго до освобождения Бессарабии, то есть всего за какой-нибудь год до начала войны, дед сшил себе темно-серое суконное пальто с каракулевым воротником широкой шалью.
На третью же неделю войны, в первых числах июля, вся большая семья, спасаясь от нашествия, двинулась на восток и пересекла на открытой железнодорожной платформе под палящим летним солнцем бескрайнюю, всю золотую от зреющих хлебов Малороссию, как по старой привычке называл ее дед, затем, по его же выражению, «землю Войска Донского» и через неполный месяц выгрузилась в Армавире.
Тут их по старинке называли не эвакуированными – это слово прижилось лишь впоследствии, а – беженцами.
Они прожили лето и начало осени все вместе в одной комнате в глинобитном доме на окраине города, за огородами яростно и жадно билась в слишком тесных для нее берегах шоколадно-коричневая пенистая Кубань. Спали они на полу, на расстеленных коврах, и однажды вечером, когда укладывались спать, кто-то закричал не своим от ужаса голосом: «Тарантул!» Мама и бабушка бросились опрометью вон, а мужчины стали опасливо перетряхивать ковры, и тут-то тарантул обнаружил себя, как-то боком и вместе молниеносно метнулся с ковра на глиняный пол, кто-то из взрослых настиг его и раздавил ногой – этот омерзительно-жирный звук еще долго потом стоял в ушах, – но тут с его спины веером брызнули во все стороны маленькие тарантулята, за ними стали гоняться и давить их каблуками, вся ночь ушла на эту охоту.
Осенью пришел ответ на дедушкино, как он сам его называл, прошение в Москву, в Комитет обороны, его вернули в прежнем чине в армию и назначили заместителем начальника военного госпиталя в Закавказский округ. К тому же в Тбилиси жила дедова сестра, тетя Маня. Стояло уже начало ноября, зарядили дожди, но ехать им опять пришлось на открытой платформе, груженной оборудованием какого-то поспешно перебрасываемого с оккупированной территории на восток завода.
К этому времени немцы взяли в первый раз Ростов, и теперь что ни день в Армавире и вообще на всей Кубани объявляли воздушную тревогу. Немецкие самолеты, вероятно разведчики, низко и как бы вразвалочку пролетали над притихшим, затаившимся городом, но не бомбили. Они были уверены, что торопиться им некуда.
Но на рассвете, когда тащившийся черепахой эшелон, простояв всю ночь на станции Невинномысская, двинулся в путь и отъехал на каких-нибудь полтора километра, они сбросили свои бомбы. За несколько минут до этого на станции взвыли сирены, паровоз замедлил ход и остановился, люди стали прыгать с платформ и скатываться по крутой насыпи вниз, обдирая в кровь руки и лицо о жесткую прихваченную первыми ночными заморозками траву. И тогда-то они и налетели от хвоста состава, не слышные за воем сирены и визгом тормозов, летели так неторопливо и так низко, что можно было успеть разглядеть четкие, с острыми, режущими гранями желтые кресты на плоских черных крыльях и даже свесившуюся набок, чтоб получше рассмотреть цель, голову летчика в тесно обтягивающем ее кожаном шлеме, со сверкнувшими мгновенно на солнце стеклами защитных очков.
Бомб было девять, по три с каждого самолета, он это хорошо помнил, наверное, он невольно считал их про себя, запомнил острый, буравящий ухо свист их в воздухе – все ближе, все ниже, все нестерпимее, а вот грохота разрывов память не сохранила, наоборот, врезалась какая-то еще более ужасная и нестерпимая тишина после взрывов и сквозь нее – едва уловимый слухом нежный шорох осколков и поднятой в воздух земли над головой.
Дед и бабушка не успели соскочить с платформы, бабушку убило на месте, ее всю прошило десятками осколков – тело, лицо, ноги были в мелких рваных ранках, а дед был еще жив, ему оторвало левую ногу, и два крупных осколка пробили навылет грудь. Он скончался той же ночью в местной больнице, не приходя в сознание.
Дед был в том самом тяжелом суконном пальто с воротником шалью.
Их похоронили на следующий день рано утром – чуть потеплело, и все окутывал плотный туман, – тут же, на кладбище, рядом с железнодорожными путями, в наспех выкопанной неглубокой могиле, одной на двоих. В головах воткнули в мягкую, жирную после осенних дождей землю кусок ржавой водопроводной трубы, чтобы потом когда-нибудь, после войны, найти могилу. Ничего другого под рукой не было.
Много лет спустя по дороге в альплагерь на Домбае он сошел с поезда – станция теперь называлась иначе: Невинномысск, станица успела стать городом, – но не только могилы, но и самого кладбища найти ему не удалось. Там, где по памяти следовало быть кладбищу, стояли огороженные высоким забором заводские корпуса.
Так что дед и бабка остались, как сказали бы они сами, без «последнего пристанища».
«О чем это я и к чему?.. – растерянно думал он, стоя посреди старого двора на Поточной улице. – Ах да, дедушкино пальто…»
Одну из крошечных тети Маниных комнатушек занимал почти целиком большой овальный обеденный стол темного орехового дерева. Вот на этом-то столе и расстелили дедушкино пальто, и мать мокрой тряпкой смывала с сукна запекшуюся на груди коростой коричневую кровь. Но когда она выжимала тряпку в стоявший тут же, на столе, эмалированный тазик, с тряпки стекала не коричневая, а бледно-алая жидкость, запекшаяся кровь как бы вновь оживала. Это была дедушкина кровь, но тогда все думали уже не об этом, а о том, как бы поаккуратнее ее смыть и заштопать понезаметнее дыры от осколков, словно бы накладывая запоздалые спасительные швы на дедушкины раны, чтобы можно было продать пальто на барахолке в Сабуртало.
Надо было жить.
Потом-то, после того первого раза, когда они поехали на барахолку с дедушкиным пальто, он бывал там чуть ли не каждое воскресенье, в базарный день. В дело пошло, вещь за вещью, все, что они успели взять второпях с собой из дома: дедушкины и отцовские костюмы, бабушкины и мамины платья и белье, столовое серебро, дедовы карманные серебряные часы фирмы «Лонжин», серебряная же его тяжелая папиросница с монограммой, ковры бессарабской ручной работы, все мамины шелковые, и фильдекосовые, и фильдеперсовые чулки и даже его альбом с марками.
Он отчетливо и ярко вспомнил эти марки – верблюды и пальмы на бледно-кофейных и серовато-голубых, вытянутых в высоту марках Сомали и Эритреи или Тринидада и Тобаго, ощерившиеся носороги на марках Французской Экваториальной Африки или Бельгийского Конго, серебристый абрис профиля Георга V на зелененьких английских полупенсовиках, французская Марианна в сбившемся на затылок фригийском колпаке, бельгийский Леопольд и итальянский Виктор-Эммануил… Но гордостью коллекции были не имеющие особой филателистической ценности празднично-яркие, на плотной лаковой бумаге, очень крупные треугольники и ромбы Тувы и Монголии.
Пошли они все, весь альбом, если ему не изменяет память, за два кирпича полусырого, тяжелого и кислого пайкового хлеба.
Сабуртало…
Старый двор совершенно не изменился – тесно обстроенный облупившимися, невысокими, в два этажа, ветхими строениями со сплошными деревянными галереями вдоль каждого, с шаткими лестницами и скрипучими переходами с галереи на галерею, с яростной путаницей квартир, дверей и вещей на них, с беззастенчиво вывешенным на просушку небогатым пестрым бельем, словно флаги расцвечивания на севшем на вечную мель корабле.
Если пройти двором насквозь, то напротив, через улицу, должно стоять бордовое кирпичное здание собственно гимназии, впрочем, ходили слухи, что это была даже не просто гимназия, а чуть ли не пансион благородных девиц Святой Нины, в котором до войны помещалась партшкола, а в войну – тыловой госпиталь Черноморского флота. Во дворе же, несколько в стороне, дряхлела заброшенная, с забитыми наглухо дверьми, бывшая гимназическая церковь. Но тогдашние дворовые мальчишки, отбившиеся от материнских рук и чьи отцы почти все ушли на фронт с первых же дней войны, давно сломали запоры, и церковь, пустая, гулкая, прожаренная беспощадным летним зноем, пахнущая многолетним тленом и сухой, жаркой пылью, стала их потаенным прибежищем, чем-то вроде укрытого от посторонних глаз клуба или даже родного, им одним безраздельно принадлежащего дома. Тут они осваивали мужское искусство курения, играли на деньги в «очко» и «железку», прятали от бдительного родительского ока трофейные скабрезные открытки, которыми приторговывали или обменивали их на табак раненые черноморские морячки.
Он медленно обошел неправильный прямоугольник двора, узнавая и не узнавая его.
Тогда была война, и все, в том числе и старый этот двор, в котором он жил, виделось совсем в ином, чем теперь, свете.
Сорок лет назад двор жил привычной, будничной тыловой жизнью. Вот тут, в полуподвале рядом с коридором, в котором он сам прожил всю войну, обитал дворник-курд с толстой, молчаливой женой и дочерью, носившей странное имя Ледиджен, – звучно-иноплеменное, оно было всего-навсего простодушным соединением английских «леди» и «Джен», неведомо почему обольстивших некогда слух дворника; впрочем, и он сам, и его жена звали дочь на местный манер: Ледиджан; толстуха-молчальница безропотно убирала за мужа двор и общую на всех жильцов уборную, в то время как он с самого утра садился у дверей своего полуподвала на низенький табуретец и, положив па другой открытые нарды, монументально каменел в ожидании партнера, который не заставлял себя долго ждать и приходил со своим стулом. В глубине двора жил сапожник по имени Сурен, тачавший из добытой неизвестно какими путями дефицитной кожи мягкие чувяки и нашлепывающий набойки на заношенную до последней степени обувь жителей округи, сидя в некотором подобии собачьей будки у ворот, выходящих на Поточную, и замечательный тем, что мог болтать без устали с заказчиками, не вынимая изо рта мелких сапожных гвоздиков. У сапожника имелась дочь Нора, крайне некрасивая пятнадцатилетняя девица, сводившая тем не менее с ума вступивших в немилосердную пору быстрого возмужания дворовых мальчишек не по годам развитыми, тугими, упруго и тяжко перекатывающимися при каждом ее шаге шарами грудей под тонким, трещащим под напором плоти ситцем платья.
Она казалась им – теоретически по крайней мере – абсолютно доступным, но практически, увы, недосягаемым для них сосудом разврата. Сама она, несомненно, догадывалась о производимом на них впечатлении, но не только не стеснялась этого, а, напротив, проходя мимо кого-нибудь из них, еще мощнее покачивала щедрыми формами.
Всякий раз, встречаясь с ней во дворе, старый врач-грузин, живший тут еще с дореволюционных времен в казенной гимназической квартире с женою, бывшей начальницей гимназии, – в войну их уплотнили и оставили лишь одну комнату из прежних трех, – всякий раз, встречаясь с Норой, старик брезгливо отворачивался и делал шаг в сторону, словно боясь то ли замараться об эту купель порока, то ли подпасть под ее нечистые чары.
В реквизированных у врача и его жены комнатах было общежитие работающих по мобилизации в госпитале медицинских сестер – он вдруг вспомнил даже их имена: Манана, Сильва, Этери, Наташа. Это были совсем юные девочки, недавние школьницы, они нередко подкармливали дворовую ребятню госпитальными харчами, хотя им и самим еды доставалось в обрез.
У одной из сестер, у Этери, вспомнил он, был патефон с двумя или тремя заезженными довоенными пластинками: «Рио-Рита», «Брызги шампанского», «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу» и еще что-то в этом же роде, и вечерами в общежитии собирались такие же молоденькие выздоравливающие флотские офицеры – впрочем, тогда этого слова – «офицеры» – в обиходе еще не было, были «командиры», – и под звуки заигранных, спотыкающихся на каждом такте старых шлягеров эти вчерашние мальчики и девочки танцевали до упаду танго, фокстрот и уинстеп, пели хором «Синий платочек» и «А волны бушуют и плачут…».
Деревянные галереи вдоль внутреннего фасада дома были увешаны перекинутыми через парапет тюфяками и подушками, с этого и тогда, вспомнил он, начинался день: хозяйки проветривали постель, снимали с веревок просохшее за ночь белье.
Он поискал глазами теннисный корт, – когда-то прямо напротив окон его полуподвала был заброшенный теннисный корт, в теннис на нем никогда не играли, до тенниса ли было в войну, они гоняли на нем тряпичный или, если повезет, и настоящий футбольный мяч, когда сбегали с уроков «на шатало». Вот еще одно забытое и ненароком всплывшее слово, подумал он ностальгически, интересно, знают ли его сегодняшние мальчишки?..
Слово было образовано из русского корня и грузинского окончания, его и переводить-то не надо было, и так яснее ясного: сбежать с уроков и шататься по городу.
И вдруг он почувствовал себя именно сбежавшим «на шатало» – из привычной своей жизни, из обыденного, набившего оскомину каждодневья, от самого себя нынешнего, каким он волей или неволей стал за эти сорок промелькнувших как один миг бесконечных лет, как тогда шатающимся без цели по полузабытому и вновь неспешно обретаемому давнишнему своему городу – без нужды, разве что в поисках самого себя прежнего.
Корта не было, вместо него стояло стандартное жилое здание, на пятачке перед ним гомонили сегодняшние дети.
Он прошел узким проходом между бывшим кортом и бывшим своим жильем, мимо подвальных, забранных частой металлической сеткой окон коридора, в котором некогда жил, нагнулся и заглянул в них – теперь это был, по-видимому, опять просто коридор, никто тут не обитал, перегородки, делившей его пополам, как не бывало, сквозь давно не мытые стекла он разглядел сваленные как попало, одна на другую, старые парты, списанную за ненадобностью школьную мебель, разбитые фаянсовые раковины – видно, теперь здесь был склад ненужных, отслуживших свое вещей.
Полуподвал, в котором жил дворник-курд с молчаливой толстухой женой и дочерью Ледиджен, тоже был наглухо забит, видно, и тут давно никто уже не проживает.
Он прошел двором дальше, вглубь.
Подняв голову и заслонив от слепящего солнца ладонью глаза, он посмотрел вверх на второй этаж, – там прежде жил сапожник Сурен с дочерью Норой, некогда, вдруг вспомнил он и почувствовал, как краска давнего стыда залила ему лицо, совратившей его и лишившей невинности на пропахших сухой пылью, источенных древоточцем хорах бывшей гимназической церкви.
На галерее как раз снимала с веревок просохшее белье толстая женщина с квадратной спиной под выцветшим ситцевым халатом с темными пятнами пота под мышками, низким, хрипловатым голосом разговаривающая с кем-то в комнате. Она не доставала до веревки и, взяв табурет, взобралась на него, потянулась руками к белью, халат задрался выше колен, и он увидел ее ноги, короткие, густо поросшие черными волосками, и сразу узнал их. Она, не глядя вниз, обернула лицо в сторону двора – нет, лица бы он никогда не узнал, голова ее была совершенно седа, в неряшливо торчащих во все стороны сивых лохмах, и он подумал, что человек старится как бы по частям и не одновременно: Норино лицо состарилось гораздо раньше ее ног.
Нора так и не поглядела вниз и, сняв белье, ушла в дом, да если б и поглядела, подумал он с облегчением, наверняка бы тоже не узнала его.
На первом этаже тут когда-то жила тетя Маня Попова, но он не был уверен, жива ли она еще, ей и в войну-то было, по его тогдашним понятиям, немало лет, она ему казалась глубокой старухой. И вдруг он с удивлением произвел простейший подсчет: на самом деле она была тогда моложе, чем он сейчас, ей наверняка не было и пятидесяти, а ведь он не считает себя не только стариком, но даже и пожилым человеком – мужчина средних лет, о таких говорят: в расцвете сил. Теперь-то ей было бы под девяносто, едва ли она так зажилась на свете. А уж муж-то ее, мелкий конторский служащий из бывших белых офицеров, которого она и в глаза и за глаза называла не иначе, как Поповым, по фамилии, или белым недобитком, наверняка умер раньше нее.
У дверей первого этажа сидела на низеньком детском стульчике какая-то древняя старушка; тень от одичалого винограда, обвивавшего деревянные столбы галереи, падала ей на лицо, и от этого оно казалось совершенно зеленым, мертвенно-тинистым и походило на лицо утопленницы или до срока состарившейся от печали андерсеновской Русалочки.
Но прежде чем он успел ее разглядеть и догадаться, кто она, и как бы для того лишь, чтобы помочь ему это сделать, появившийся невесть откуда – из слепящего полуденного света или из зеленой, тинистой тени винограда – мальчик подошел к тете Мане и сказал:
– Тетя Маня, в магазине сегодня по карточкам сахар не дают, завтра будут.
Он уже не хромал, колено зажило, только на правой штанине виднелся грубый, неумелый, толстыми суровыми нитками шов.
Но тетя Маня мальчику не ответила, даже не повернула головы, а он вдруг вспомнил, что тогда, сорок лет назад, тетя Маня Попова его почему-то недолюбливала да и ко всей их семье относилась недружелюбно и даже не старалась этого скрыть.
Но теперь она посмотрела на него спокойно и без удивления, словно бы сразу узнав и даже давно ожидая этой их встречи.
Он подошел к ней, она не встала со стула, а только протянула к нему руки – не протянула, подумал он, а скорее воздела, так будет точнее, – и ему пришлось низко наклониться, чтобы обнять ее, но до лица ее он все равно не дотянулся, детский стульчик, на котором она сидела, был слишком низенький, он только и сумел, что коснуться губами ее макушки – сквозь реденькую сухую седину просвечивала пергаментная, в старческих коричневых накрапинках кожа черепа. И еще он успел услышать запах, который исходил от тети Мани, – несильный, но стойкий и резкий, это не был запах неухоженного тела или давно не стиранного платья, ни даже нежаркого пота старческого бессилия, хотя все это тоже было в нем, – нет, это был совсем особый, не истребимый уже ничем запах самой старости, решил он про себя и невольно отстранился от тети Мани, и ее руки, воздетые к нему и легшие без тяжести на его плечи, обреченно соскользнули вниз на колени.
– Садись, – сказала тетя Маня, и он подивился тому, что голос у нее прежний – сильный, властный, и, узнав ее голос, он сразу признал и ее всю. Сквозь зеленую тень, падающую на ее лицо и застоявшуюся в глубоких морщинах и подглазьях, он увидел ее такою, какой она была когда-то – со следами былой, знающей себе цену привлекательности, которую она уже тогда, сорок лет назад, стоически-ревниво оберегала и подчеркивала слишком яркой губной помадой, насурмленными бровями и ресницами, густо положенными на отцветающие щеки румянами.
Ни румян, ни помады, но лицо ее было по-прежнему самоуверенным и горделивым, она все еще помнила себя роковой женщиной двадцатых и тридцатых годов, это было в пей неколебимо, и, может быть, единственно этим она и держалась до сих пор.
– Садись и рассказывай. Садись, иначе я буду тебя плохо слышать.
Но сесть ему было не на что, он опустился перед ней на корточки, сидеть так, да еще на солнцепеке, было неудобно, он скоро устал и вспотел, но встать не решился, так и оставался в этой неловкой позе все время их разговора.
Он рассказал ей все – а на самом деле ничего – о том, что произошло с ним за эти годы, ограничившись одними событиями: о смерти матери и отца, о работе, неудачной женитьбе и о взрослой уже дочери, но его рассказ был похож всего лишь на прерывистый пунктир, который он не стал ни обводить сплошной линией, ни заполнять рисунок красками, оттенками, светотенью истинной правды о своей жизни, которая, собственно говоря, словам и не поддается.
Да тетя Маня и не слушала его или попросту не слышала, думая о своем и уйдя в свое, в то, что все эти сорок лет было собственной ее жизнью, о которой она тоже едва ли бы смогла ему что-то доподлинно рассказать словами. А может быть, ей многого уже было и не вспомнить.
Мальчик не уходил, стоял рядом и недоверчиво, как ему казалось, слушал его, тоже наверняка думая совсем о другом и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
– Я рада за тебя, – прервала его на полуслове тетя Маня, ничего в его рассказе ее не взволновало, не тронуло. Она жила в своем неприступном мире, обращенном в прошлое либо же, очень может быть, в еще не имеющее ни цвета, ни запаха, но неминуемое и уже близкое будущее, которого она не боялась и к которому давно была готова. – Я рада за тебя, у тебя все хорошо, я так и думала. У меня тоже все хорошо, видишь – я жива и даже здорова, если это слово в моем возрасте вообще имеет хоть какой-нибудь смысл. А все остальное… Нет, нет, ты не подумай, что мне чего-нибудь надо, у меня все есть. Кстати, тебе деньги не нужны? Молодым всегда не хватает денег, а я не знаю, куда мне их девать – и пенсия, и сдаю угол двум очень милым студенткам, они аккуратно платят, а мне ведь давно уже ничего не нужно. – И, чуть поразмыслив, попросила с несмелой надеждой и вместе с тем по-женски капризной, кокетливой уверенностью, что ей ни в чем и никто не посмеет отказать: – Разве что маслины… Я всегда обожала маслины, а теперь их у нас совершенно не стало, и мне иногда ночью снится, что я ем маслины, знаешь, такие сочные, мясистые, и выплевываю косточки в море… то ли в Гаграх, то ли в Батуме… При чем тут море – ума не приложу!
Мальчик поднял на него глаза, ожидая, что он ответит.
– Я их вам завтра же принесу, тетя Маня. Нет ничего проще, у нас в гостинице, в ресторане, их наверняка сколько угодно, и я завтра же…
– Ты остановился в гостинице? – с не очень искренней обидой прервала его опять тетя Маня. – Мог бы, кажется, и у меня, места, как всегда, хватило бы.
– В «Иверии», – объяснил он и чуть было не проговорился: – Я ведь не знал, что… – но вовремя спохватился.
– Что я еще жива? – договорила за него тетя Маня и рассмеялась неожиданно молодым смехом, голова ее, и плечи, и даже руки, бессильно лежавшие на коленях, узловатые, с подагрическими утолщениями на сгибах пальцев, тоже в коричнево-ржавых старческих крапинках, мелко затряслись, и он только тут заметил, что ногти на этих обезображенных старостью пальцах тщательно покрыты ярко-красным свежим лаком. – Куда я денусь? Я и не спешу, это всегда успеется. – И завершила свою мысль, указав пальцем с ярко-алым ногтем вверх, на небо: – Тем более что там таких, как я, пруд пруди.
– Я принесу вам маслины завтра с утра, – повторил он свое обещание, – И если вам нужно еще что-нибудь, из Москвы нетрудно прислать. Не стесняйтесь, тетя Маня.
– Вот уж чего я никогда не умела, так это стесняться, – опять кокетливо рассмеялась она, – для этого я всегда слишком нравилась мужчинам. Если хочешь знать, я потому и вышла за этого недобитого беляка Попова, что он был единственный, кто никогда не замечал, что я хорошенькая. И никогда не понимала, зачем он-то женился на мне. Может быть, потому, что без меня ему было бы еще страшнее жить, чем со мной. Мужчины меня вообще когда-то ужасно боялись. Я и твоему отцу тогда страшно нравилась, потому-то я и не любила твою мать.
Когда он распрощался с тетей Маней и пошел обратно залитым немилосердным солнцем двором, который один, вопреки всему, вопреки тому, что тетя Маня стала древней старухой и старухой стала даже Нора, – один двор оставался таким же, каким был сорок лет назад, – тетя Маня глядела ему вслед, но не видела его. Она уже может разглядеть, подумал он, только свое прошлое или свое будущее, хотя и это для нее уже одно и то же, и границы меж ними ей уже не различить.
Когда он напоследок оглянулся, заходя за угол дома, мальчика уже не было, тетя Маня сидела в полном одиночестве в густой неподвижной тени одичавшего винограда и, казалось, на глазах растворяется в ней, становится и сама тенью.
Проходя опять мимо окон полуподвала, в котором некогда жил, он вспомнил еще вот что: ранним утром во двор приходили крестьяне из окрестных деревень, привозили на низкорослых, ко всему безучастных, грустных осликах, с висящей клочьями на впалых боках серо-бурой шерстью и с миниатюрными, словно бы игрушечными копытцами, молоко, козье и коровье, и прохладную даже в самый удушливый зной простоквашу, и двор оглашался долгим и звеняще-высоким их криком: «Ма-а-ацо-о-они! Ма-ацо-о-они!..» Крик будил его, он просыпался и, не вставая с узкой и жесткой койки, выглядывал в окно, лишь наполовину поднимавшееся над землей, и только и мог в нем разглядеть, что тоненькие, хрупкие, в набухших жилах, серые осликовы ноги на сбитых копытцах да ноги хозяина в толстых, грубой крестьянской вязки, некрашеных шерстяных носках и в перевязанных бечевкой старых, потерявших блеск резиновых калошах, и больше ничего.
– Ма-а-ацо-о-они! Ма-а-ацо-о-они!..
И вместе с запоздалым эхом этого голоса в памяти как бы настойчиво воскресали прежние звуки, краски и запахи города, звуки, краски и запахи давно развеянной на семи ветрах жизни.
Стояла томительная, недвижная жара, асфальт под ногами плавился, в нем отчетливо отпечатывались следы каблуков, и, не задумываясь, помимо воли он направил шаги на улицу, всю в уже отцветающих каштанах и акации, где стояла некогда его сорок третья школа.
Он свернул за угол и увидел на табличке название улицы: Мачабели. И тут же безо всякого усилия памяти вспомнил: Капелька. И мальчик опять был тут как тут, шел рядом, приноравливаясь к его широкому, торопящемуся невесть куда шагу.
Он так никогда и не узнал, почему ее звали Капелька. Настоящего ее имени он тоже никогда не знал.
Капелька жила на Мачабели, он вспомнил до мельчайших подробностей ее дом, и – вот он: светло-коричневый, с облезшей штукатуркой и с кариатидами в виде ангелочков или, может быть, скорее купидонов с отбитыми носами и крылышками под балконом второго этажа, и самый балкон – чугунный, с тонкими витыми колонками, а под балконом – вход в просторный, прохладный даже в летнюю жару барский подъезд, выложенный в виде шахматной доски черными и серыми плитками и с чугунной лестницей, уходящей широкой, щедрой дугою вверх.
Он вспомнил и день – начало мая, и час – послеполуденный, самый душный. Он шел по Мачабели и еще издали услышал из открытого окна первого этажа звуки рояля. Это были не гаммы – до войны его самого почти силком обучали музыке, и за четыре года он успел люто возненавидеть хроматические гаммы и этюды Гедике, – а что-то ему незнакомое, нежное и хрупкое. Теперь-то он бы сказал, что это был Шопен, но тогда он этого знать не мог. Наверное, все-таки Шопен, подумал он и как бы вновь услышал это нежное и несмелое прикосновение чьих-то легких пальцев к клавишам. Он и теперь не мог бы объяснить, почему замедлил тогда шаг, прислушиваясь, как завороженный, к музыке из распахнутого окна.
В окне, упершись локтями в подоконник, глядела на улицу, одновременно прислушиваясь – это было написано на ее умиленном и вместе строго-требовательном лице – к тому, что играл кто-то за ее спиной в комнате, старая женщина с большой седой головой и с характерным медальным профилем, очки на кончике ее орлиного носа вспыхивали на солнце остренькими искрами. Одна дужка была сломана, вместо нее за ухо старухи уходила красная шерстяная нить.
Поравнявшись с окном, он хотел было убыстрить шаги, но это у него почему-то не получилось, а старуха, не поворачивая головы, громко сказала назад, в комнату, глубоким и зычным голосом:
– Ты совсем не считаешь, Капелька! Ты все время, чири ме, сбиваешься со счета, придется купить тебе метроном, как последней дурочке! – И стала считать за эту самую дурочку Капельку: – Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре…
Из глубины комнаты невидимая с улицы девочка ответила серебристо-звонко:
– Я считаю, бабушка! Ты смотришь на улицу и ничего не слышишь, тебе просто кажется!
– Не спорь со старшими, Капелька! Я могу быть на другом конце города, на Авлабаре или в Дидубе, а все равно слышу, считаешь ты или не считаешь!
И снова раздался серебристый, теперь с капризной интонацией голос невидимки Капельки:
– Ах, бабушка! Ты всегда так! Я же тебя знаю – скажешь, а потом сама жалеешь!
Не отдавая себе в том отчета, он остановился как вкопанный под окном, словно его приковал к месту этот звонкий и капризный голос.
Он стоял колом перед самым носом высунувшейся в окно старухи с неряшливо торчащими во все стороны седыми кудельками и с ужасно, должно быть, глупым видом уставился на нее.
– Тебе что, мальчик? – заметила его старуха. – Ты к Капельке? – И, повернув голову, сказала в комнату: – Капелька, к тебе какой-то молодой человек, очень похожий на кавалера! – И опять ему: – Можешь войти в дом, мальчик, я не кусаюсь, и – почему я тебя не знаю?
И сразу же, будто она все это время пряталась за спиной бабушки, в окне появилась, словно выпорхнула из-под локтя старухи, девочкина голова в таких же, как у бабки, торчащих во все стороны вихрах, но только совершенно черных, прямо-таки ослепительно черных, с нежно-смуглым, отливающим лимонно-матовым сиянием лицом и с такими – на этой лимонной, матовой смуглоте, под этими горящими черным пламенем волосами – неожиданно голубыми, цвета не неба, не моря даже, а чего-то иного, гораздо голубее, чище и нестерпимее, глазами, что ему стало прямо-таки больно и страшно на нее смотреть, и, невольно зажмурившись, он попятился назад, чуть не оступился и кинулся бегом прочь.
А вслед услышал вызывающе-насмешливый, на этот раз понарошку капризный Капелькин голос:
– Это не ко мне, это совершенно чужой кто-то, ходят тут всякие, а ты, бабушка, еще с ними разговариваешь!..
Он бежал до самой школы и не мог взять в толк, что его напугало прямо-таки до смерти – не Капелька же, не ее капризный и высокомерный голосок: «Ходят тут всякие!» – и, тупо уставившись в черную доску, просидел истуканом все пять уроков, не слыша ни учителя математики по кличке «Чиновник», ни замечаний исторички «Пифы».
Назавтра, однако, он пошел опять в школу не прямой дорогой, а той же улицей Мачабели. Музыки из окна на этот раз слышно не было, но в окне в той же, что и вчера, позе, будто она и не уходила на ночь, сидела старуха, и когда он, испугавшись, что она его узнает и окликнет, хотел было проскочить незаметно мимо, она все-таки узнала его и окликнула:

