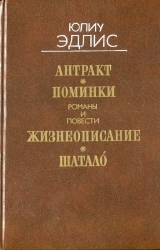
Текст книги "Антракт. Поминки. Жизнеописание. Шатало"
Автор книги: Юлиу Эдлис
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Одеваясь в комнате администратора, они договорились посидеть где-нибудь в нешумном ресторане. Настя предложила старый «Националь».
Машина Иннокентьева стояла у самого подъезда, он направился к ней, бросив на ходу:
– Садитесь, я только дворники на всякий случай надену.
Но Венгерова сказала ему вдогонку:
– А мы на своей. Поедем друг за дружкой, там встретимся.
Они расселись по машинам, вырулили на проезжую часть, медленно двигаясь в густой толпе выходящих из театра, свернули на Неглинную.
Рита не удержалась:
– «Мы на своей»… Что они, поженились, так надо понимать?..
И уже в Охотном ряду, когда Иннокентьев притормозил, чтобы пропустить поток машин справа, с улицы Горького, Рига задала за него вопрос:
– А – Эля?..
Иннокентьев никогда с тех самых пор, как они встретились втроем в Сочи, не говорил с ней об Эле. И Рита тоже ни разу о ней не заговаривала, как не говорила она с ним никогда и о Лере. Временами Иннокентьеву казалось даже подозрительной, а то и хорошо рассчитанной эта ее молчаливая чуткость. Как и то, что она никогда, ни при каких обстоятельствах не совершала по отношению к нему не только естественных в семейной жизни ошибок или оплошностей, грозящих хоть как-то потревожить их обоюдный мир, но и уходила от подобных чреватых размолвок, даже когда касался опасных тем он сам. Но он не давал этим мыслям хода – скорее всего из подспудного сознания, что и он любит ее тоже больше рассудком, чем чувством.
Скажи мне, какого счастья ты для себя хочешь, приходило ему иногда на ум, и я скажу, кто ты.
– А – Эля?.. – спросила Рита, и Иннокентьев подумал, что за все эти почти четыре года он, собственно, и не вспоминал об Эле. То есть вспоминал, конечно, но так издалека, как будто не о ней и не о себе с нею, а о каких-то совершенно посторонних, чужих ему людях.
Швейцар в потускневших золотых галунах – не тот ли самый, что и четыре года назад, когда они пришли сюда с Элей? – и не подумал их впускать, пришлось Иннокентьеву силой протиснуться в дверь, когда кто-то из нее выходил, и, как в тот раз, потребовать метра. И метр тоже был наверняка тот же, что четыре года назад, время над такими не властно, – непроницаемый и надменно-вежливый, он безразлично выслушал Иннокентьева, на этот раз не узнав его в лицо, и опять, как некогда, сам проводил всех четверых наверх, на второй этаж, в тот же самый памятный Иннокентьеву зал в золотисто-коричневых обоях в стиле модерн начала века, подвел к столу и сам выдвинул дамам стулья.
Иннокентьеву показалось, что и столик, за которым они расселись, тоже тот самый, у окна, но он не был в этом уверен.
А вот меню, взглянул Иннокентьев на карточку, меню точно нисколько не изменилось. Дыбасов, сидящий напротив, прервал его ностальгические мысли, спросил в упор:
– Вам не понравился спектакль, Борис Андреевич?
– С чего вы взяли? – попытался уйти от прямого ответа Иннокентьев.
– Потому что он и не должен был вам понравиться. И не спорьте, – холодно отрезал Дыбасов.
– Я и не спорю. Я только спрашиваю – почему вы так думаете?
– Пожалуйста, без дискуссий, – живо откликнулась на их тон Рита. – Мы не затем сюда пришли.
– Отчего же? – возразила Настя. – Роману Сергеевичу очень важно знать, что думает в действительности Боря. И вообще, пусть мужчины говорят о чем хотят, а мы с вами, Рита, выберем, чем их кормить.
И они с Ритой углубились в изучение меню.
Казалось, Дыбасов только этого и ждал.
– Потому что, – продолжал он еще резче и недружелюбнее, – мы с вами, Борис Андреевич, на этот раз сходимся.
– Вот сошлись за одним столом, и я рад этому, представьте себе…
– Потому, – не дал увести себя в сторону Дыбасов, – что мне этот спектакль тоже не нравится. Он пуст и манерен. Холоден, как песий нос. И не увидеть этого вы не могли.
Удивленный Иннокентьев не успел ему ответить – подошел официант, и они с Дыбасовым должны были по требованию дам заняться заказом. Переговоры с официантом взял на себя Дыбасов, и в его голосе Иннокентьев услыхал те самые не терпящие возражений ноты, присущие, как правило, всем режиссерам в разговорах с нережиссерами. А ведь еще четыре года назад, подумал Иннокентьев, в Дыбасове этого не было. А если и было что-то в этаком роде, то это следовало отнести на счет его неуверенности в самом себе…
Они чокнулись и выпили: Дыбасов и Настя – за встречу и возвращение Иннокентьевых в Москву, те – за новый театр и за будущие его победы.
По тому, как внимательно и преданно слушала Дыбасова Настя, не сводя с него глаз и ревниво следя, какое впечатление производит то, о чем он говорит, на Бориса и Риту, было ясно, что он так и только так живет теперь – зажав в железный кулак всех, кто вокруг него, всех, кто нужен ему, а заодно и всех, кто просто-напросто любит его. Впрочем, пришло на ум Иннокентьеву, любить его – во всяком случае, так, как он сам понимает любовь, – это значит отдаться полностью на его суд и расправу, слепо и верно служить ему и его театру, никаких сомнений, никакого инакомыслия или независимости он не потерпит. Настоящий главный режиссер, подумал о нем Иннокентьев, прирожденный, такому палец в рот не клади и на узком мостике ему не встречайся…
И, будто подслушав его мысли, Дыбасов, воспользовавшись тем, что женщины были заняты друг другом, сказал неожиданно устало:
– А знаете, Боря, почему у меня получился именно такой спектакль и никакой другой и не мог получиться?.. – Он помолчал, глядя в окно, там уже кружились в воздухе первые в году, сиротливые снежинки, тающие, не успев долететь до земли. – Потому что я стал – главный.
Понимаете, мне теперь надо все время доказывать всем, в том числе и самому себе, самому себе даже больше, чем всем остальным, что я имею право на это – быть главным. И артисты идут за мной не потому, как это было раньше, во времена того же хотя бы приснопамятного «Стоп-кадра», что им и мне одного и того же надо, что все у нас общее, все пополам, а потому лишь, что я – главный… Хорошо, если хоть верят, что я знаю, куда веду свой кораблик. А ведь я далеко не всегда это знаю, совсем не убежден, что не напорюсь на мель или на подводный камень. Но я не смею даже подать виду, у меня теперь одна забота – не позволить им усомниться в моем праве вести их за собой, даже если это для меня крест тяжкий… Такая это проклятущая профессия – главный… И может быть, я больше всех прикован цепями к этой галере. Потому что даже сбежать, даже дезертировать мне уже не дано – это все равно что самоубийство. Я должен ежечасно прятаться за самоуверенное, выверенное ремесло, за то, что неизвестно какой дурак назвал мастерством!.. Мастерство – это когда все знаешь, все умеешь, но когда ты уже все знаешь и умеешь, какого черта тебе заниматься этим делом?! Тогда уж – конец, кранты!.. Нет, Боря, не подумайте, я далеко не все уже умею, о всезнании и речи нет, но я – главный, я обязан делать вид, что все знаю и умею, а они все обязаны делать вид, что верят, будто я все знаю… Просто-напросто я в заговоре со своими артистами, только и всего. И только она, – почти пренебрежительно, как показалось Иннокентьеву, кивнул Дыбасов в сторону Насти, Настя, не расслышав его слов, но почуяв, угадав кивок, повернула к нему лицо и улыбнулась, и в этой ее улыбке было столько восторженного обожания, что Иннокентьеву стало на миг страшно за нее, – только она, – продолжал Дыбасов, когда Настя повернулась вновь к Рите, – искренно и как-то даже по-рабски верит мне, но мне, увы, не этого от нее нужно, не одного этого, мне от нее правда нужна беспощадная и чтобы было кому поплакаться в теплые коленки… Разве не того нам с вами от них надо?!
Они не заметили, как не раз и не два мимо их столика прошел официант, всем своим видом намекая, что время их вышло, пора и честь знать. Наконец подошел и сам метр и, извинившись, положил на стол листок со счетом.
Пока Дыбасов и Иннокентьев препирались по поводу того, кому из них платить, дамы встали из-за стола.
– Мы пойдем взглянем на себя в зеркало, – сказала Настя, – ждите нас в гардеробе.
Иннокентьев посмотрел в окно – там, оказывается, шел настоящий снег, он уже не таял, а оседал пышными хлопьями на деревьях Александровского сада, успел, пока они ужинали, выбелить кремлевские крыши, купола и зубцы стены, неторопливо выплясывал в оранжево-желтом сиянии уличных фонарей, и стало непреложно ясно, что зима на носу и что новый год не за горами.
– Что – Эля?.. – спросил Иннокентьев, и было непонятно, задал ли он этот вопрос Дыбасову или самому себе.
И по тому, как резко Дыбасов повернул к нему лицо – до этого он тоже молча смотрел в окно. – Иннокентьев понял, что он давно уже ждет этого вопроса. Но ответил на него не сразу, может быть, вопрос этот, хоть он его и ждал, застал его врасплох.
– Не знаю… – сказал он задумчиво, и лицо его передернулось болезненной гримасой. – Не знаю.
Иннокентьев не стал настаивать, да и в этом «не знаю» был, собственно, весь ответ.
– Она ушла из театра сразу, как мы переехали в новое помещение, – добавил после молчания Дыбасов, – уж не помню, из-за чего… Собственно, никакой особой причины для этого у нее и не могло быть. Просто взяла и ушла. Она ведь… – Но не договорил. – Правда, к тому времени у нас с ней… Одним словом, все уже было позади, так уж получилось. Я тогда вертелся, как карась на сковороде, – новый театр, новое помещение, репетиции, я набирал актеров… Честно говоря, мне было не до нее тогда, я и не заметил, как она исчезла… – И повторил с той же гримасой не то боли, не то печали: – Она ведь… разве ее поймешь?..
– И – все?.. – спросил Иннокентьев, и опять не столько Дыбасова, сколько, может быть, самого себя.
– Видишь ли… видишь ли, Борис… – Дыбасов впервые за все годы их знакомства сказал Иннокентьеву «ты», – так устроена жизнь, что таким, как мы с тобой, да и всем, нам подобным, нужны сперва женщины, которые приходят к нам, когда нам плохо, когда невыносимо, когда мы только еще карабкаемся на вершину и одному богу известно, вскарабкаемся ли и устоим ли на ногах… а потом, когда пусть даже на самую первую ступеньку взобрались, нам нужны другие, с кем не поражения делить, не шишки и царапины зализывать, а – победы праздновать, удачи… такие, как моя Настя или твоя Рита… Хотя по отношению к Насте я, пожалуй, несправедлив. Ну да все равно. Одним словом, такие, которые наши удачи чуют загодя, как кошки землетрясение, и приходят накануне, не раньше. – Он опять помолчал, и когда заговорил снова, в его голосе послышалась Иннокентьеву не прикрытая ничем – ни иронией, ни жестокостью – потерянность, – А может, мы и сами, когда ухватываем наконец удачу за хвост, уже не нужны ей, Эле?.. И она этот миг тоже чует загодя и успевает уйти так, что мы этого и не замечаем. Она и от этого нас оберегает – от тщетных угрызений совести… – Он устало погасил окурок в пепельнице. – Не знаю, Боря, ни что с ней, ни где она… Только вот ведь – говорим мы о ней и помним, и совесть мучает… И положа руку на сердце, это единственное, о чем нам за весь вечер и хотелось говорить, а не про эту муть, которую мы пробалтываем по привычке, не тратя на нее ни мысли, ни чувства… – И опять его лицо передернуло болезненная, как тик, гримаса, – Чувства – вот чего ей от нас надо было, чувства наипростейшего, элементарнейшего! Просто – любви! А именно этого-то в нас и не оказалось, нет ее в нас, отучили мы себя от этого ремесла, забыли напрочь. А может, не было этого в нас и от роду, не запрограммированы мы на такие простенькие, немудрящие вещи, как любовь. Я иногда думаю – это от профессии: все, что в нас есть такого – любовь, доброта, сострадание, жалость, боль, наивность, – мы в дело пускаем, пропади оно пропадом, на радость и забаву чужим, далеким людям, лиц которых нам даже не разглядеть со сцены, а для жизни, для близких, для собственного употребления, наконец, его и не хватает, расходуем все без оглядки, напропалую, проматываем… Горькая у нас профессия, Боря, жестокая, иногда – мученическая, да куда денешься?.. А скажи кому-нибудь из нас: брось, скинь этот крест с плеч, живи, как все, радуйся жизни! – охотников не найдется… – И вдруг вне всякой видимой связи с тем, что только что говорил, рывком бросив на белую накрахмаленную скатерть руки со сжаты ми кулаками, отчего на них разом взбухли толстые, вот-вот лопнут от натуги, жилы, не то простонал, не то пригрозил кому-то: – Но я все равно буду делать свое дело, будь оно неладно! До гробовой доски! Потому что ничего другого у меня нет, ничего другого мне не нужно, ни во что кроме я не верю! В одно это – в проклятое мучительство, самоистязание, именуемое искусством! Буду, черт меня раздери! И ты еще ахнешь, когда придешь на следующий мой спектакль. Мне есть что сказать! Кровь горлом, а – скажу, ты ахнешь еще! Все вы! И что главный – не беда, и что кораблик утлый – пускай, я знаю, куда мне плыть, к какому берегу. И театр у меня будет живой, не то что сегодняшнее скоморошество, вот увидишь, зря ты меня поспешил в тираж списать!.. Честь, добро, любовь, правда – вот для чего мне нужен мой театр единственно, можешь мне поверить… Каждому свое, Боря, а мне – не кесарево, а – богово, потому что… потому что такая уж у меня профессия, одним словом. Ты еще ахнешь, ох как ахнешь!.. – И, помолчав, заключил с доброй, печальной улыбкой, и в этот миг Иннокентьев готов был ему все простить: – А Эля… где-то она есть, непременно, куда ж она денется, Эля…
И вдруг Иннокентьеву представилось совершенно въявь, точно так же как тогда, на премьере «Стоп-кадра», он представил себе несостоявшуюся свою встречу с Лерой, – он совершенно ясно увидел, какой была бы его встреча с Элей теперь, когда все давно кончилось, все позади.
Это непременно случится в набитой битком ранней пригородной электричке – хотя как он окажется в этом переполненном до отказа поезде?! – он увидит ее в противоположном конце вагона и совсем не удивится этому.
И так он явственно все увидел, что ему показалось, что все это с ним уже было на самом деле, что не из воображения, не из будущего, а из какого-то несостоявшегося и все же совершенно реального прошлого пришло к нему – не «будет», а «было» – и было так: она стояла у дверей в тамбуре в своем вытертом, на все времена джинсовом костюмчике, стиснутая толпой так, что и рукой не пошевелить. Она стояла к нему вполоборота, почти спиной, и он узнал ее не в лицо, а по тому, как она, выпятив нижнюю губу, привычно сдула челку со лба. Она его не заметила, и первым движением Иннокентьева было сойти с поезда на первой же остановке. Поезд и затормозил, остановился на какой-то платформе, но ему было не пробраться сквозь плотную толпу к дверям, да он и не пытался, стоял как вкопанный в своем конце вагона и неотрывно смотрел на Элю, никак не решаясь подойти к ней, хоть и распрекрасно знал про себя, что подойдет.
За окном мелькало летнее Подмосковье, березы в нежной, не успевшей пожухнуть листве, чистое, без единого облачка небо, перечеркнутое плавно провисшими ниточками электропроводов вдоль железнодорожного пути.
Он стал пробираться к ней, поминутно натыкаясь на чьи-то локти, наступая на чьи-то ноги и извиняясь, и больше всего боялся, как бы она не вышла на какой-нибудь остановке до того, как он продерется к ней сквозь давку.
Он и сам не знал, зачем ему это: ведь все давно кончено, быльем поросло, и что он ей может сказать, о чем спросить – как она, где работает, как жизнь?.. И в чем, наконец, он должен повиниться перед ней, в чём оправдаться, да и в чем он, если вдуматься, перед ней виноват?!
Но когда он пробрался к ней, она подняла на него глаза, разом признала и не удивилась, ни о чем не спросила и ему тоже не дала ни о чем спросить, только и пропела свое неистребимое, все и всем прощающее, но и все и всех ставящее без пощады на место:
– Норма-ально!..
Вот что пронеслось как наяву в мыслях Иннокентьева, пока они с Дыбасовым, провожаемые вежливой и бесстрастной улыбкой вышколенного метра, спускались вниз, в гардероб.
Потом, выйдя вчетвером на припорошенную свежим снегом улицу, они еще долго стояли у подъезда «Националя» на уже пустой в этот час Манежной, не наговорившись там, в ресторане.
И наконец, дружески и мило распрощавшись, разошлись по своим машинам.
Ехать по только что выпавшему снегу было скользко, машину то и дело заносило, баранка плохо слушалась рук.
Рита о чем-то болтала рядом, но Иннокентьев не отвечал ей, да и не слышал, о чем она говорит, очень уж скользко и опасно ездить в гололед.
И неожиданно для самого себя сказал вслух, перебив Риту на полуслове:
– Нормально!..
Она умолкла, с удивлением покосилась на него.
– Нормально, – уговаривал он себя, – нормально…
Да так оно, собственно, и было.
Повесть: ШАТАЛО


Мальчик снова был тут как тут.
Самое странное, подумал он, что я опять не услышал его шагов, как и в тот, первый раз.
Тогда он бесцельно свернул вниз, в круто сбегающую к Солдатскому базару узкую улочку, вымощенную крупным, отполированным до сухого блеска булыжником, и вдруг улочка ему представилась – совершенно пустынная, ни души, залитая до краев фиолетовой, густеющей вечерней тенью, тесно сжатая отвесными каменными берегами домов, – руслом давно обмелевшей и высохшей реки, от которой только и осталась память, что эта аккуратно обкатанная потоком времени серая галька на дне.
Его собственные шаги, отраженные каменными берегами, гулко и отчетливо отдавались в уплотняющейся вместе с тенью тишине. Шагов же мальчика за собой он не слышал, это он помнил хорошо.
Мальчик возник как-то сразу, когда он неожиданно для самого себя вдруг остановился, словно с ходу ударившись лбом о внезапно возникшее давнее воспоминание, у старого дома с забранным решеткой квадратным отверстием в тротуаре над окном подвального, вровень с землей, этажа.
Он сразу, словно это было с ним вчера, все вспомнил. И вот тут-то, тоже сразу, словно бы из ничего или из той же внезапной, нежданной памяти, возник и мальчик. Именно возник, иначе, иди мальчик за ним, он бы непременно услышал его шаги за спиной.
Тогда, сорок с лишним лет назад, возвращаясь с третьей, вечерней – не хватало классных комнат, – смены из школы, они, несмотря на темень и промозглый, ветреный холод, делали большущий крюк из Сололак до Солдатского базара и шли сюда, в эту опрометью сбегавшую вниз улочку, где в старом доме – да, именно в этом, он не мог ошибиться, – была пекарня, по-местному – «тория», они еще говорили – «пурня», потому что хлеб по-грузински – пури.
Да, именно здесь, он не ошибся. Снизу, из квадратной этой зарешеченной дыры, из, казалось, бездонных ее недр, вместе с бледным, вялым светом мощно шел вверх, наружу, запах, живительнее и насущнее которого ничего на свете быть не могло. Они обступали молитвенно-молчаливым кружком решетку и, сосредоточенно глядя вниз, на плотно забеленное мучной пылью стекло подвального окна, сквозь которое все равно ничего было не разглядеть, вдыхали с благоговейной жадностью упоительно-сытный, удушливый, чуть кисловатый от привкуса тлеющего древесного угля, теплый запах свежеиспеченного лаваша.
Они тогда были постоянно голодны. Голод для них был не бедой, которую можно отвести, от которой можно уклониться, он был просто неотвратимой и потому естественной частью их тогдашней жизни.
Этот сказочный запах не имел ничего общего с сырым запахом тех тяжелых коричнево-черных, как выгоревший антрацит, кирпичей, которые выдавали – шестьсот граммов на работающего, четыреста на иждивенца – по карточкам в булочной – и которые не вызывали в нем никаких воспоминаний о прежней, довоенной, жизни. А вот этот, идущий из окна торни, был запахом не одного только хлеба, но именно той самой мирной жизни, которую его детская память сберегла не умозрительно, не с помощью ненадежных понятий и суждений, а – запахов: почти воздушного золотистого теста и ванили, когда на рождество в доме пекли пироги, а на пасху – куличи, или злого жара горчицы, когда он бывал болен и мама ставила ему на грудь ненавистные, хоть и спасительные горчичники; празднично-веселого запаха мандариновой кожуры в зимние каникулы или приторно-сладкого, только что выжатого бабушкой через дуршлаг виноградного сока под конец каникул больших, летних. Запахам можно довериться, если что забыто умом или даже чувством.
Они могли часами стоять так, тесным кружком, вокруг решетки, не пророня ни словечка, чуть осоловелые, может быть, даже слегка одурманенные, насыщаясь до отвала этим запахом свежего хлеба и отогреваясь его теплом, которое парило недвижным, невидимым глазу округлым облачком над подвальным окном.
И вот тут-то мальчик и появился.
Он молча и отрешенно, словно был здесь совершенно один, уставился вниз, на грязно-белое бельмо окошка.
Мальчик был странно одет: парусиновые или скорее даже сурового полотна брюки, слишком широкие и с вышедшими бог знает как давно из моды манжетами, выкрашенные неровно, пятнами, кубовой краской, но синими, вдруг явственно вспомнил он, они так и не стали, а сделались почему-то бурыми, с фиолетовым оттенком. И туфли с задранными кверху носами были на нем тоже парусиновые, некогда белые, их чистили, еще вспомнил он, зубным порошком, но у мальчика они были, под стать штанам, выкрашены черной ваксой, и сквозь ваксу сиротски проступал проплешинами их первоначальный цвет.
Мальчик тоже удивленно, недоверчиво и будто дивясь разглядывал его плетеные светло-коричневые мокасины. Потом взгляд мальчика медленно и, как ему показалось, испуганно стал подниматься выше – на его кремовые вельветовые брюки, на такой же пиджак, задержался на темно-бордовом в белую и синюю полоску галстуке и остановился, наконец, на его лице.
И вдруг во взгляде мальчика он прочел, что тот его узнал. То есть не узнал – где он мог его видеть, когда?! – а какая-то догадка мелькнула в его глазах, разгадка какая-то, и они стали еще недоверчивее и испуганнее.
Он вновь поглядел вниз, на окно за решеткой, – нет, там теперь никакого света не было, окно наверняка давно, годами, не мыли, да и никакой торни в подвале уже нет, хлеб теперь пекут не в этих самодельных печах-колодцах, как некогда, а на хлебозаводе.
Когда он поднял глаза от подвального окна, мальчика рядом уже не было, в вязких сумерках где-то в нижнем конце улицы мелькала чья-то легкая, неразличимая тень.
И вот теперь мальчик опять был тут как тут.
Поточная улица, выложенная таким же крупным, вылощенным неторопливым, упрямым ходом времени булыжником, местами такая узкая, что, если расставить руки, можно разом коснуться глухих, с редкими окнами, стен на противоположных ее сторонах, вела вверх, к подножию Мтацминды.
Он никак не мог найти ворота своего давнишнего, тех времен, дома.
Дом был, остался, вот он: задняя его стена из побуревшего красного кирпича с несимметрично и отсюда, с Поточной, высоко, на уровне второго этажа, пробитыми окошками, дом – вот он, но войти во двор, найти ворота он не мог. Ворот не было, их заложили кирпичом, заплата была относительно недавней, кирпич в ней другого, более светлого цвета.
Он стоял в растерянности один на безлюдной улице, пышущей полуденным сухим жаром раскаленного солнцем кирпича стен и булыжника мостовой, и не очень понимал про себя, зачем он здесь и чего ему надо.
Вот тут-то и объявился опять мальчик.
Он бежал сверху, со стороны Мтацминды, спуск был так крут и горбат, булыжник так неровен и скользок, что, подумал он, даже при желании мальчик не мог бы остановиться, инерция бега гасилась лишь в самом низу, на пересечении с другой улицей.
Мальчик и пробежал мимо него, даже не заметив, но вдруг поскользнулся и упал, больно ударившись коленом о камень.
Правым коленом, вдруг резко-отчетливо вспомнил он, у меня и сейчас временами ноет это колено, и на коленной чашечке поныне остался грубый, выпуклый белый рубец. И еще он с внезапной яростью вспомнил, что упав, он тогда перво-наперво подумал не о боли, а о том, не треснуло и не порвалось ли изношенное суровое полотно его единственных, неровно выкрашенных кубовой краской штанов.
Он безотчетно нагнулся и нащупал ладонью сквозь плотный рубчатый вельвет тот давний шрам.
Мальчик поднялся с трудом на ноги, сквозь продранную штанину на разбитом колене расплылось ярко-алое пятно, и, с натугой волоча ногу, заковылял к дому и исчез в воротах, которых только что не было.
Уходя в ворота, мальчик на ходу мельком оглянулся на него, и в его взгляде, кроме удивления и испуга, которые он прочел в нем еще в прошлый раз, у бывшей торни, а также нынешней боли, ему почудилась еще какая-то молчаливая, смутная укоризна, упрек, что ли, но – в чем?.. И еще – давешняя разгадка, в которую не мог же он – взрослый человек, тертый калач! – поверить!..
Он нашел все-таки новый вход во двор – за углом, в коротком глухом тупичке.
Двор был совершенно пуст, мальчика и след простыл.
Жизнь сложилась, думал он вразброс, стоя в нерешительности посреди двора, залитого плотным, хоть сожми его в горсти, солнечным светом, в пятьдесят ее уже не перебелишь, не пересочинишь наново. Да ему и не в чем ее
укорять, как и самого себя тоже. Это мальчишками мы ждем от нее чего-то невероятного, не выразимого словами, ни на что и ни на кого не похожего. И лишь с годами начинаешь привыкать к мысли, что невероятное, никакими словами не выразимое чаще всего или даже неизбежно оборачивается несбыточным, просто-напросто невозможным, и ничего тебе не остается, как примириться с этим. А еще очень может быть, что это – невероятное и несбыточное – всего лишь синонимы, стоит только заглянуть в толковый словарь. Или даже иначе – может быть, жизнь и есть как раз проторенный не одним тобою путь от невероятного к несбыточному. Только вот откуда мальчику-то знать, что, умножая знания, мы умножаем скорбь?.. Поживи вот с мое, думал он без насмешки, но и без обиды, без укора, поживи с мое, вот тогда-то мы бы и поговорили, а сейчас что ж… Поживи, узнаешь.
Хотя, тут же усомнился он и в этой мысли, вот я: пожил, узнал, а – что я знаю? Что я знаю такого неоспоримого и не боящегося сомнения, чего еще не знает мальчик?..
И все-таки его надо отыскать, мальчика. Ничего нельзя оставить без ответа. Нельзя уклоняться от вопросов, даже если заведомо знаешь, что на них нет ответов. Мальчика надо непременно отыскать.
Память, еще подумал он, странная это штука на поверку, память… Питаясь неведомо чем, она прямо-таки на глазах обрастет новыми, вполне достоверными подробностями, как молодыми листьями и побегами дерево по весне, забытыми или и вовсе никогда не существовавшими лицами, светом и запахами далекого и, казалось бы, давно отвергнутого прошлого или какого-то неведомого будущего, на которое к тому же у тебя нет никакого права… И тут уж, подумал он, совершенно не имеет значения, было ли это все с тобою на самом деле или же ты это сам напридумал, наплел себе на досуге… Собственно говоря, прошлое состоит отнюдь не из одних непреложных фактов, не из одного того, что было на самом деле, – иначе мы не стали бы до конца своих дней денно и нощно достраивать, перекраивать, досочинять это наше собственное прошлое, чтобы в конце концов прийти к убеждению, что то, чего у нас не было, чем обошла нас жизнь – такое же неотъемлемое наше достояние и так же честно и по заслугам нам доставшееся, как и то, что и взаправду выпало нам на долю. И ни то, ни другое нам незачем от себя утаивать или вычеркивать из памяти, иначе получится что-то вроде уличной моментальной фотографии, на которой запечатлено наше лицо, но нет нас самих.
Память об одних несомненных фактах не в состоянии поспеть за нашей неутолимой жаждой созидать самих себя, даже если это созидание обращено вспять, в прошлое. И тут уж в дело идет все без разбора, и то, что было, и то, чего не было, и важное, первостепенное, и всякая всячина, пусть и самая малая мелочь, одним словом – все, что под руку попадется…
Они сразу же, как попали сюда в сорок первом в эвакуацию, поселились в этом дворе. Сперва, правда, они жили некоторое время у тети Мани Поповой, тут же, во дворе, в ее крошечной двухкомнатной – если можно было назвать комнатами две каморки с подслеповатыми окошками, выходящими на Поточную улицу, – квартире, и лишь сколько-то спустя сняли у дворника-курда перегороженный пополам тонкой фанерной стенкой полуподвальный коридор бывшей – до революции, разумеется, – женской гимназии, безо всяких удобств: один кран и один толчок на весь густо и тесно заселенный двор. В образовавшихся таким образом вытянутых кишкою клетушках-пеналах, где едва помещались вдоль продольной стены две железные, без матрацев, койки и, чтобы обойти их, приходилось передвигаться боком, они и прожили всей семьей до конца войны.
Но прежде этого с ними были еще дед и бабушка…
И тут он вспомнил, с чего, собственно, началась их новая жизнь в этом городе и в этом дворе: дедушкино пальто.
А, значит, памяти не миновать и Сабуртало, барахолки.
Смысл слов и понятий, подумал он, меняется быстрее, чем старимся мы сами. В ту пору слово «барахолка» означало совсем другое, чем сейчас, нечто гораздо более важное, без чего была бы просто невозможна их тогдашняя беженская жизнь.
Отец, провинциальный бессарабский адвокат, был, что называется, интеллигентом в первом поколении, выучившимся на медные гроши. А вот мать, а стало быть, и дед, ее отец, происходили из старой, чуть ли не в пятом колене, образованной южнороссийской семьи. Дед, окончивший еще до японской войны Дерптский университет, в первую мировую был уже полковником медицинской службы, а после Февральской революции начальствовал над снабжением медикаментами и прочим необходимым всех госпиталей Румчерода. Этим и объясняется, почему после Октября так получилось, что он застрял в перешедшей к румынам Бессарабии и, за неимением лучшего, завел в Бендерах свою аптеку и бактериологическую лабораторию.
Дед – до революции опять же – не раз избирался мировым судьей, и в доме долго хранилась его судейская бронзовая – или медная? – цепь из крупных плоских звеньев, находящих одно на другое подобно чешуйкам панциря, с нагрудным знаком в виде двуглавого орла, которую он надевал на шею, председательствуя в суде.
Дед замечательно играл на старом, с облупившимся кое-где лаком «Шредере» и вообще, как не без ревнивого укора подтрунивала над ним куда более простолюдинского происхождения бабушка, был «помешан на искусстве».
Кроме всего прочего, он состоял заместителем, или, как тогда это называлось, товарищем председателя русского офицерского землячества в Бессарабии. Вторым товарищем председателя был бывший прапорщик и знаменитый в начале века «русский богатырь», силач и цирковой борец, некогда соперник самого Ивана Поддубного, дедов приятель Иван Васильевич Заикин, тоже осевший и доживавший свой век в захолустных Бендерах.

