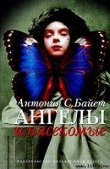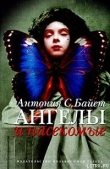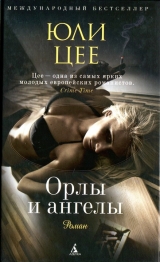
Текст книги "Орлы и ангелы"
Автор книги: Юли Цее
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
29
ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ
Она не слушала. Она вообще не слушает, ее здесь нет, с таким же успехом я мог бы рассказывать псу, сраной машине, стене. Она больше не перепечатывает мои кассеты, она меня просто не слушает. За это ее можно было бы убить, ничего другого она не заслуживает.
Мне скучно. Желтая луна на темном небе похожа на половинную дольку лимона, звезды вспыхивают, как газовые пузырьки в бокале колы, этакий безалкогольный коктейль. Сна у меня ни в одном глазу, ночь почти такая же душная, как день, ночью вроде этой хорошо сидеть с друзьями в летнем кафе под деревьями, попивая «штурм», я чувствую себя совершенно нормально, не считая того, что у меня нет друзей, я терпеть не могу «штурм», это мутное молодое винцо с серным привкусом, и в летних кафе мне становится дурно, когда откупоривают бутылки, и из них несет тухлыми яйцами.
Клара не реагирует ни на пинки, ни на удары, а калечить ее мне не хочется. Может, она больна, может, у нее СПИД, и последнее как раз было бы неплохо, я подцепил бы от нее заразу, вот только представить себе не могу, как бы я смог в нее проникнуть.
Все время ломаю голову над тем, как она будет выглядеть с короткими волосами, ищу среди бумаг на письменном столе ножницы, не нахожу, натыкаюсь вместо этого на трехцветную авторучку, и у меня пропадает охота продолжать поиски. Набираю ведро воды из-под крана, отпиваю, брызгаю на нее, осторожно и понемногу, чтобы не напугать, я ведь хочу только помочь, слежу и за тем, чтобы влага попала ей в рот и чтобы она ее выпила.
Послушай, говорю я ей прямо в ухо, я расскажу тебе все, до конца. Но мне надо знать, что ты меня слышишь. Слышишь и слушаешь.
Открывает мокрые губы, отдирает от нёба язык.
Я тебя слушаю, говорит.
Я не могу сосредоточиться, все время вполуха прислушиваюсь к происходящему на улице. Не понимаю, почему никто еще не явился, не понимаю, почему они оставляют нас в покое. С их стороны это лишено смысла, вот что меня нервирует. Мне необходимо найти себе какое-нибудь занятие.
Дверь в первом этаже дома, через который проходишь сюда, во двор, открывается без усилий, древесина настолько прогнила, что не крошится, а продавливается, как глина. Комната буквально заросла паутиной и наполовину заставлена старыми ведрами с краской, их тут целая пирамида, видимо, когда-то собирались сделать ремонт. За дверью обнаруживаю штабель инструментов – клещи, швабры, сверла, молотки, – металлические части настолько проржавели, что по цвету почти не отличаются от деревянных, во всяком случае в темноте. Выбираю предмет, выглядящий крепче остальных, это лопата.
Ни одной беззащитной улитки у колодца, или он высох, или ангелы онемели. Крышка доставляет мне больше трудностей, чем в прошлый раз, но при помощи лопаты, используемой в качестве рычага, мне удается свернуть ее набок. Остальное – вопрос земного тяготения, я успеваю вовремя убрать из-под нее ногу. Руки и плечи у меня ободраны здешним кустарником, царапины уже начинают чесаться. Мглой и мшистой стужей веет из непроглядно черной глубины. Достаю зажигалку, но ее пламя освещает жерло колодца лишь на какие-то полтора метра, а вот меня ослепляет совершенно. Надо подождать, прежде чем отважиться вновь открыть глаза. Да и кокса нюхнуть не мешает. Что бы ни таилось там, на самом дне, от меня оно не сбежит.
Сажусь на край, луна стоит в небе уже малость выше, ломаю несколько веток, чтобы она светила в колодец. В кустах повсюду разбросано битое стекло, словно бы повторяющее рисунок небесных созвездий. Вновь гляжу вглубь. Теперь в сплошной темени различаю несколько чуть менее черных, чем все остальное, контуров. И это все.
Вырываю вслепую несколько страниц из Клариного регистратора, скатываю каждую обеими руками в толстую трубочку и раскладываю их рядком на краю колодца. Они белеют в полутьме; еще не будучи подожжены, они прибавляют света. Зажигаю первую, держу пламенем вниз, пока оно не касается моего запястья, потом отпускаю в колодец.
С уверенностью устанавливаю, что внизу лежит синий пластиковый мешок для мусора и он чем-то наполнен. Какими-то отходами огорода, допустим. В конце концов, двор можно с некоторой натяжкой назвать огородом или хотя бы бывшим огородом. Возможно, здесь косили траву, пропалывали сорняки, отрубали сухие ветви и сваливали все это в мешки. Мешок вроде бы покрыт сверху какой-то грязью. Допустим, его присыпали землей, а потом ее частично смыло дождем. Смыло так, что кое-где мешок проступил наружу.
Отпускаю в колодец одну за другой восемь бумажных трубочек, и последняя из них долетает донизу, не успев погаснуть. Так что мне теперь виден даже пепел семи ее предшественниц. Вижу я и еще кое-что. Изнутри мешок распирает нечто более светлое, так что он в этом месте едва не лопается; похоже, мешок надели на это нечто в обтяжку, а потом оно разбухло, раздулось, начало рваться наружу. Строго говоря, это нечто напоминает человеческое лицо, напоминает крупную, налысо выбритую голову. Начинает пахнуть горелым пластиком. Раньше я и сам был точно таким же разбухшим, правда по другим причинам. То, что, вполне возможно, лежит внизу, было, во всяком случае, достаточно стройным, чтобы скрестить руки на груди, разведя пальцы по плечам. Но сейчас я строен или, вернее, тощ, а нечто внизу превратилось в большого белого кита; даже если дело всего лишь в оптическом обмане и в мешке находятся отходы и мусор, все равно это кит, и ему воздано по справедливости. Пламя гаснет, в колодце опять воцаряется непроглядная темень. Не поджигая девятую трубочку, я отпускаю ее, белую и невредимую, вниз, во тьму. И мне кажется, что я вижу, как она белеет на дне, правда очень слабо. Едва заметно.
Вставая, я спотыкаюсь о лопату и чисто рефлекторно хватаюсь за нее, зато теперь, когда она уже у меня в руках, проще всего воткнуть ее в землю. На окаменевшей лужайке это не удается, а вот в кустарнике, ближе к колодцу, земля должна быть не такой жесткой. После пары неудачных попыток я приношу из мастерской топор и разбиваю землю на площади примерно в два квадратных метра. Хорошо, оказывается, махать в воздухе тяжелым топором. Резкий стук резонирует от стены второго дома с крошечным запаздыванием. Почувствовав, что достаточно, я ногой вгоняю лопату в разрыхленную и разрубленную топором землю. Джесси такое одобрила бы. Мы заведем трех детей. И если один свалится в колодец, у нас останутся еще двое.
На глубине примерно в сорок сантиметров почва и впрямь становится чуть влажнее. Еще один удар – и на лопате оказывается розовый обрубок дождевого червя; извиваясь, он ищет собственную половину. Маленьким мальчиком я порой приезжал на субботу-воскресенье к матери, мы выходили из дому и притворялись, будто возимся на огороде, – отчасти из-за соседей, отчасти ради того, чтобы самим почувствовать себя одной семьею. Тогда я и узнал, что если рассечь пополам дождевого червя, то его половинки продолжат существование, каждая сама по себе, только став вдвое короче, парочка новорожденных близнецов, причем этот процесс можно и продолжить, – и меня интересовало, на сколько же живых частей можно нарубить одного-единственного червя, но я был не из тех мальчиков, что обрывают крылья бабочкам и через соломинку надувают лягушку, пока та не лопнет, поэтому экспериментально я так ничего и не проверил. Я был убежден в том, что и меня самого можно точно так же рассечь на бесчисленное количество маленьких Максов, причем каждый из них станет немного счастливее меня исходного, потому что не будет чувствовать себя таким одиноким.
Земля с лопаты падает в колодец. Вторую половину червя нахожу в ямке, оставленной лопатой, и отправляю вдогонку за первой. Чтобы они стали немного счастливее. И не чувствовали себя такими одинокими.
Мое тело – конгломерат страданий, сливающихся воедино, как звуки в многоголосом аккорде, образуя единство, именуемое мной, и далеко не дисгармоничных. Мой мозг болтается от уха к уху, как кокосовое молоко в свежем орехе. Яма уже достаточно глубока, чтобы в ней можно было похоронить человека, а вот колодец далеко не полон. Делаю паузу и иду взглянуть, не подевалась ли куда Клара.
Какое-то время сижу возле нее совершенно спокойно, зажав сигарету воспаленным углом рта. Клара прекрасна, чтобы смотреть на нее не отрываясь, мне надо научиться моргать попеременно то левым, то правым глазом – и тогда я не упущу ничего важного. Отпихиваю пса в сторону, ее стерегущего, ложусь на мгновение рядом с нею, вкладываю наши тела, как фрагменты головоломки, друг в дружку, чувствую, что я расслабился, и наслаждаюсь успокоительным воздействием ее лишенной запаха кожи.
Затем копаю дальше. Почему бы мне не проработать всю ночь, Джесси бы порадовалась, она принялась бы подпрыгивать на обеих ногах сразу, показывая мне, что я должен ценить жизнь и элементарные вещи, в нее включенные: ночь, воздух, землю, червя и чего еще человеку надо. Проще копать дальше, чем оставить это занятие. Жак Ширак выходит из «домика» поглядеть на меня. Я нахожу ритм. Не то шорох, не то шелест, с каким лопата вгрызается в землю, мое дыхание со свистом и стук земли, падающей в колодец (мешок уже давным-давно засыпан), звуки в целом сочные и тяжелые, сливаются в гипнотизирующую музыку, и я принимаюсь и сам – каждый раз, занеся полную лопату над краем колодца, – издавать тихие звуки лишь потому, что все так прекрасно. Где-то во мне слышится капель, образованная мириадой капель, так бывает всякий раз, когда я думаю о Джесси, как будто я сам всего лишь дно сосуда, на которое капает вода, а ведь пока я копаю, я все время думаю о Джесси – о том, как она сидела тут, на краю колодца, кидала вниз камешки и ждала, пока они не ударятся о дно, и при этом она, должно быть, думала о Шерше, которого любила всей душою, хотя он к ней и не вернулся, и я точно знаю, что она была не способна это понять и поневоле верила поэтому, будто она виновна в его смерти из-за того, что не сдержала страшной клятвы, и тем не менее не переставала ждать его, пока ей не дано было убедиться собственными глазами в том, что он мертв.
Неотступно я думаю и о том, что у меня даже нет фотографии Джесси и что я с удовольствием подарил бы ей еще что-нибудь, но так и не знаю, где находится ее могила. Если у нее вообще есть могила. И, как лопата полная земли за лопатой, точно такими же толчками мне в голову протискивается мысль, что здешний кит, которого я как раз сейчас захораниваю, может оказаться вовсе не Шершей, а Джесси. Или ими обоими.
Надо прекратить, не то я сойду с ума.
Рядом с Кларой мое бурное дыхание успокаивается, я вновь и вновь глажу ее по волосам. Просто потому, что мне не выдержать ожидания, слишком уж я взволнован. Выкладываю «дорожку» сантиметров в сорок длиною, хотя сердце и без того в панике стучится о ребра с такой силой, что удары отдаются в груди, на запястьях и под коленками. После приема порошка мне в голову приходит, что, находись на дне колодца нечто плотское, это наверняка уже можно было бы учуять; мысль немного успокаивает, вот только сердце не унимается, я вновь прижимаю голову Клары к груди, чтобы она послушала, ей наверняка понравится: двести ударов в минуту, двести bpm. Становится ясно, что необходимо что-то сделать, необходимо сдвинуться с места, мои веки вздрагивают все быстрее, моя правая нога дергается, мне еще только не хватало эпилептического припадка. Загоняю пса в «домик» к Кларе и запираю дверь снаружи.
Ночь вроде бы на пару градусов прохладнее предыдущих. Что ж, по моим выкладкам, это вполне логично. Сейчас, похоже, конец августа, значит, жара должна пойти на убыль, если, конечно, Земля не застыла на орбите, значит, рано или поздно пойдет дождь, и может быть скоро.
У меня возникает подозрение, что Клара в «домике» всего-навсего дожидается дождя, подобно какому-нибудь растению пустыни, в засуху становящемуся бурым, плоским, на долгие месяцы сморщенным и даже в биологическом смысле мертвым. Но под воздействием влаги оно за считаные минуты волшебным образом расцветает, оно вырастает чуть ли не вдесятеро, становится зеленым и разве что не прекрасным. Этот феномен я словно бы вижу собственными глазами, я даже припоминаю, как называется данное растение – иерихонской розой. И тоже словно бы собственными глазами вижу Клару: на четвереньках выползает она, едва с неба закапало, во двор и остается под дождем, пока не наберется сил подняться на ноги и пойти, ни на кого не опираясь, после чего сразу же уходит отсюда, на сей счет нет ни малейших сомнений. Такое объяснение ее нынешнего паралича представляется вполне уместным. Она в биологическом смысле мертва. Надо бы послушать прогноз погоды. Надо бы купить садовый шланг, прикрепить его к водопроводному крану во дворе и пустить воду на крышу, забарабанить по оконным стеклам, чтобы проверить, как отреагирует Клара и не выползет ли она какое-то время спустя на четвереньках на крыльцо. Иерихонская Лиза.
Но сейчас у меня нет времени. Я закрываю и ставни, и возникающий при этом ветерок и впрямь кажется мне подозрительно холодным и, если угодно, даже влажным.
В этой проклятой Богом части города едва ли найдется стоянка такси. Бегу вдоль по Оттакрингерштрассе, мимо цифрового табло, на котором значатся двадцать восемь градусов тепла, два сорок три ночи и безопасные показатели всех мыслимых и немыслимых загрязнений, включая даже озон. Это пропаганда, разозлено думаю я, табло внушает мне, будто стоит совершенно нормальная ночь, и мне уже не выкинуть этого из головы. Картонка под мышкой – изрядная помеха ночному стайеру.
Оперная площадь, говорю я, поехали, старина.
Шофер невозмутимо спокоен, и его стоическая лень идет мне на пользу. Мне ведь и самому спешить некуда, спешить некуда. Таксиста не удивишь, чего он только не повидал на ночных дорогах. У него «даймлер» той же модели, что у моей матери.
А сейчас помедленнее, говорю.
Бесшумно катим по первой полосе вдоль по Рингу. Кое-где на скамьях под деревьями коротают ночь бродяги. Раскрываю картонку, достаю купюру в тысячу шиллингов, выхожу из машины прежде, чем водиле придет в голову подумать о сдаче. Он успевает бросить быстрый взгляд в картонку, и по его гримасе я вижу, что стоицизм на этом и заканчивается.
Стою неподвижно, пока он наконец не трогается с места, потом смотрю на витрины, проверяя, выставлены ли в них все те же картины. Не обнаруживаю ничего красочного, только забавные коллажи из серого папье-маше работы какого-то другого художника. Глубина помещения просматривается плохо, лишь какие-то темные пятна на стенах, а посредине зала некий сравнительно крупногабаритный предмет, ничем не подсвеченный, но ловящий блики невесть откуда.
Подхожу к боковому входу в здание, нажимаю на кнопку звонка и давлю, не отпуская пальца. Звонок похож на пение птичек на ветвях соседних деревьев, давно пора бы их всех передушить. Ничто не дает мне повод подумать, что владелец галереи живет прямо над нею, это всего лишь попытка. Но вот меня спрашивают в домофон, кто я такой.
Экзальтированный клиент, отвечаю, с целым ящиком денег.
Когда дверь отпирают изнутри, первой мне бросается в глаза рука, сжимающая вальтер; из точно такого же застрелилась Джесси. Судя по всему, Герберт снабжает банду из арсенала немецкой полиции.
Узнав меня, он, однако, сразу же убирает оружие.
Какой, говорит, сюрприз, это ты, размазня.
И принимается хохотать. Какое-то время он кажется мне призраком, кажется порождением моего больного сознания в результате достигшей определенного уровня перегрузки; о чем-то таком я слышал, хотя никогда в это не верил.
Заходи, говорит, я, знаешь ли, еще не ложился.
Vade retro, [30]30
Отойди от меня (лат.).Ср.: слова Иисуса: «Отойди от меня, Сатана» (Мф. 4: 10).
[Закрыть]говорю, какого черта ты тут делаешь?
В некотором роде я в отпуску, отвечает. Жду, пока не закончится весь этот цирк, а потом с чистой совестью выйду на работу.
Выражайся конкретней, говнюк, говорю я ему, что именно ты делаешь В ЭТОМ ДОМЕ?
Послушай, говорит он, это как-никак дом моего родного отца.
Плохой приход, отвечаю, очень плохой приход.
Ставлю картонку на пол, лезу в карман брюк, достаю то, что буквально прилипает мне к пальцам, сую в нос, нюхаю, остаток слизываю с ладони.
Хе-хе, говорит он, сбавь обороты. Ты и так на взводе.
Глаза слезятся, он предо мной как в тумане. Значит, звукооператор Том сын галерейщика. Того самого галерейщика. А почему бы и нет? Да и наплевать.
Ладно, говорю, спасибо, что разъяснил. Но послушай, мне нужно не к тебе, а на первый этаж, в галерею. Хочу кое-что купить.
Покупатель из тебя тот еще, говорит Том. Покупаешь прямо у Руфуса, да вдобавок не выходя из дому. Мировой рекорд. И это мне по душе. Вот только струна, того гляди, лопнет, скрывать от тебя не стану.
Кстати, насчет лопнувшей струны, говорю. Ты парень тертый, вот и объясни: КАКОГО ХУЯ ни один ХУЙ СОБАЧИЙ не приходит по нашу душу?
Не кричи так вульгарно, отвечает Том, соседи.
Отвечай на вопрос, говорю.
Сам подумай, отвечает.
Протягивает руку, словно хочет до меня дотронуться, я уворачиваюсь.
Нервишки у них пошаливают, это точно, говорит он, но все, как волки, попрятались – каждый за свой камень. И все ждут, вытянет она из тебя или нет.
КТО, кричу, ЧТО вытянет?
Хватает меня за руку, тащит в подъезд, запирает дверь.
Повезло тебе, говорит, что отец в отлучке.
Волки, тигры, орлы, проникаясь пониманием, говорю я, и каждый в своем углу.
Вот именно, говорит. Но сейчас все снова в полном порядке. А поскольку я не забыл, что перед тобой в долгу, устраивать для тебя шоу без надобности. Для всех заперто, а для такого покупателя, как ты, открыто, договорились?
Обеими руками хватаюсь за нос, меня разбирает чих; кто три разика чихнет, тот влюбленный обормот; я же чихаю как минимум десять раз подряд. А когда заканчиваю, уже не могу вспомнить, что за вопрос я задал перед тем, как начать; вспоминаю зато другое – чего ради я сюда приперся. Я пришел купить что-нибудь Джесси в подарок. Уже целую вечность я не затевал ничего в той же мере прекрасного, ничего способного доставить мне столь же искреннюю радость. У меня такое чувство, словно Джесси откуда-нибудь наблюдает за мной, наблюдает за тем, как я глубокой ночью стою в подъезде у входа в галерею, наблюдает и звонко смеется, трясет головой и шепчет: «Куупер, тебе вечно лезет в голову всякий вздор!»
Договорились, говорю я. У меня тут на улице миллион шиллингов в пересчете с трех разных валют, так не угодно ли тебе его хотя бы занести?
Выходит, заносит в подъезд картонку, несет ее в руках, возглавляя шествие; мы проникаем в галерею со служебного входа, «TAVIRP», значится на стеклянной двери с изнанки. Я вхожу медленно, лениво, особо важный клиент и к тому же друг дома, решивший купить картину глубокой ночью. И вижу статую.
Ах ты, черт, говорю, совершенно забыл, что он тоже тут.
Красивый, правда, говорит Том.
Он ставит картонку на кассовый столик, облокачивается на нее и засовывает руки в карманы. Здесь темно, только сквозь стекла большой витрины просачивается желтоватый свет уличных фонарей. В воздухе витает аромат какого-то благовония; должно быть, здесь воскуряют мускус, усыпляя бдительность клиентов. Статуя в центре зала вбирает в себя весь здешний свет, и взоры она приковывает тоже, и вообще все тут словно бы выстроено вокруг нее. Шерша, значит, остается все тем же.
Подхожу вплотную; вид у него невероятно натуральный. Не будь он прозрачным, как вода, ничто не смогло бы убедить меня в том, что он не настоящий. И не живой. Стоит, как стоял всегда, чуть нагнув голову, словно прислушивается к чему-то, разворачивающемуся у него под ногами. Он обрит налысо, но это ему идет.
Не зажечь ли свет, спрашивает Том.
Нет, спасибо, говорю, только не это. Освещение как раз по мне.
Узна ю шрам у него на колене, сбоку, его оперировали после разрыва связок.
Если хочешь приобрести, говорит Том, капусты, которая у тебя с собой, как раз хватит.
Я твердо намеревался купить в подарок Джесси одну из тех картин – «Короли и планеты», «Фу любит Фулу», и я знал, как обрадовалась бы она этому. Но сейчас передо мной открылась качественно иная перспектива. Задаюсь вопросом, захотелось ли бы ей завести себе стеклянного Шершу, а если да, то в каком качестве: как трофей, как памятку, как памятник, как памятного ангела на ее собственной могиле, или чтобы иметь возможность его уничтожить, или чтобы иметь возможность его обнять, – я прилагаю усилия, я даю волю воображению, я представляю себе: вот она стоит здесь рядом со мной, видит Шершу воочию, а я все равно не догадываюсь, как она отреагирует. И это меня пугает. Я был уверен в том, что знал ее лучше, чем кто бы то ни было другой, потому что, строго говоря, мне никогда ничего от нее не требовалось, даже не хотелось, а сейчас тем не менее бессилен ответить на такой важный и такой простой вопрос. Отворачиваюсь; это зрелище меня буквально убивает.
А у вас есть еще те картины, спрашиваю, с женщинами, похожими на муравьев?
Только крупноформатные, говорит он, мелкие разлетаются, как горячие каштаны.
Показывает мне три квадратных полотна в задней части зала – и вот они, те самые, все три, как будто их решили отложить для Джесси на два года. И это решает все.
Сколько они стоят, спрашиваю.
По сравнению со статуей сущие пустяки, отвечает Том, по триста тысяч каждая.
А если я возьму все три и заплачу наличными, что в коробке?
Без проблем.
Я понимаю, что мое решение базируется на выборе, который, несомненно, сделала бы и сама Джесси, – в пользу картин, а вовсе не статуи. Но тут же меня принимается терзать мучительное подозрение, что на самом деле все обстояло бы ровно наоборот. И от этого подозрения мне уже никогда не избавиться. Оно омрачает мне покупку, подливает дегтя в мед, я ведь решил подарить ей то, чего хотелось ей самой. Он опять взял надо мной верх, Шерша, проклятый выблядок, он продолжает брать надо мной верх и сейчас.
Том снимает полотна со стены, подносит к кассе, заворачивает в бурую оберточную бумагу; мне кажется, будто я в мясной.
Что это здесь так гудит, спрашиваю.
Это, отвечает Том, Corpus Delicti, [31]31
Состав преступления (лат.).
[Закрыть]здесь в несколько каламбурном смысле.
Откидывает край клеенки, которой застлан кассовый столик, позволяет мне увидеть в нише стола компьютер.
Вместо калькулятора нам служит, поясняет он, для расчетов с клиентурой. Конечно, это все равно что гонять на «боинге» куда-нибудь на угол, за куревом. Но здесь он все же в сохранности. А потом они снова его заберут.
Все это для меня китайская грамота, я не понимаю ни слова, да и неважно, Том стоит спиной ко мне, а я таращусь на тяжелую цепочку его портмоне и оттянутый вальтером гигантский задний карман. Чувствую, что завод у меня сейчас кончится, остро чувствую… Из-за того что он так гудит, говорит Том, Джесси вечно называла его…
Когда он оборачивается передать мне пакет, я беру его захватом за плечи. Мой лоб стукается о его лоб, столкновение оглушает нас обоих, но вот «пушка» уже у меня в руке, и он пятится. Я выстрелю один-единственный раз – в него, в себя или в Шершу, – и больше всего мне хотелось бы выстрелить в себя, честное слово.
Слишком задираю ствол, вспомнив при этом о Кларе, охотившейся со спреем на паука, вспомнив о Джесси и трости на балконе в квартире Герберта, вспомнив о себе самом и о телефонной трубке в лейпцигском офисе, когда грянул выстрел, разнесший ей голову, вспомнив о многих вещах одновременно и сразу.
Промах. Листовое стекло витрины распадается на куски, как при замедленной киносъемке, с воем срабатывает сигнализация, в моем здоровом ухе свистит, в глухом тоже. Роняю вальтер, вижу обескураженную физиономию Тома-звукооператора и в тот самый момент, когда уже выпрыгиваю на улицу сквозь разбитую витрину, замечаю коробку с трехцветными авторучками, желто-красно-синими, рекламный подарок посетителям в ящике у дверей. Чуть не падаю с ног, поскользнувшись на битом стекле. Статуя, неповрежденная и неуязвимая, высится на пьедестале, ее улыбка врезается мне в память, врезается раз и навсегда. Плотней прихватываю под локтем сверток с картинами и пускаюсь бегом, бегом, бегом.