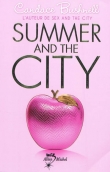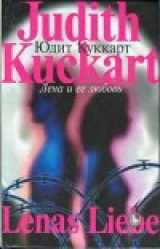
Текст книги "Лена и ее любовь"
Автор книги: Юдит Куккарт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
– У тебя есть фотоаппарат?
– Да, – и она поставила подпись.
– Магдалена Крингс, – зачитал он. – Все еще Крингс?
– Да.
Окна редакции выходили во двор. Дождь капал в раскрытый бак для бумажных отходов. С неба в С. лило почти постоянно. Когда случалось что-нибудь необычное, местные жители говорили: «Что ж удивительного, под дождем-то».
«На машине поедешь?» – спросил Штефан, она подтвердила: «Конечно», и он полюбопытствовал, какая у нее машина. Глубоко вдохнув, Лена произнесла: «вольво» – так, как сообщают: «мальчик».
– Ладно, тогда впиши сюда километры, – черкнул шариковой ручкой крестик в нужной графе и передал привет Людвигу, а она только в дверях спросила, с чего бы это.
– Я видел вас вместе, – пояснил он, и она прислонилась к косяку, пытаясь расслабиться. – Людвиг тоже поедет?
– Да нет, с чего бы?
– Я много раз видел вас вместе, – настаивал Штефан.
В среду она двинулась на своем «вольво» за автобусом команды. Рано утром. Очень рано утром. Руки и ноги мерзли, а еды она взяла мало, чтобы сохранять бодрость. Без чего-то шесть въехав из-под Моста самоубийц в Бломбахскую долину у Эльберфельда, она почувствовала, что в ее жизни наступил поздний вечер. Но педалью газа ей всегда удавалось побеждать перепады настроения. Быстрая езда – вот что не раз спасало ее. За рулем она преодолевала и не такие состояния, как нынче. На каком-то шоссе обогнала автобус со спортсменами. Мальчики махали ей, будто девочки на школьной экскурсии, только лица у них казались более заспанными, чем девочки бы себе позволили. Один поднял картонку, ясно и грубо оповещая мир о том, что ему нужна женщина. Скорость держала под восемьдесят. Луга и поля, реже – лиственный лесок. Над миром по щиколотку стелился туман.
На подъезде к Чехии впервые остановилась, ступила ногами на твердую землю, обнаружила новую царапину на левой дверце, выпила стоя кофе и на маленькой почте, которая была не почтой, а всего лишь окошком возле колбасного прилавка в магазине, сняла деньги со счета. Закупила провизию. Две краковских колбаски, два пакетика горчицы, не очень острой. Проезжая через границу, мимо двух девочек, помахавших ей белыми гибкими ручками, мимо садовых домиков с тюлевыми занавесочками, цветами в горшках и светящейся табличкой «Non Stop Extase», укрепленной между водосточными желобами, она чувствовала себя одинокой. Но такое одиночество замечают не сразу.
А теперь? По радио польская певичка заливается третьим по счету шлягером. День, когда Лена на всю оставшуюся жизнь запомнила имя польской певички, – этот день имеет дату. Иоанна Шудец, 28 мая. Долго стояла вчера Лена в гостиничном коридоре у своего номера. Уставилась в окно, на пустую улицу перед гостиницей. Дверь в номер за ее спиной приоткрыта, горит только лампа на ночном столике. Распахнула окно. Внизу, на улице, не было ничего особенного. Только появлялся время от времени человек в темном костюме, заворачивал за угол и курил. И время от времени ко входу подъезжало такси, и тут же раздавался женский голос из диспетчерской. И еще была луна, тяжело и низко повисшая над домом напротив. Там, где дверь в коридор была открыта. Коридор – это нежилая комната между комнатами. Она всегда боялась коридоров.
– Лена?
– Я здесь.
Дальман напряженно вглядывался в окно, поправляя очки.
– Что же вы там видите? – спросила она.
Дальман снял очки. Слон без хобота.
– Вижу? В данный момент почти ничего, но вообще этот вид мне хорошо знаком, – проговорил Дальман и посмотрел на нее во все глаза, и зрачки у него расплывались, соединяясь с белками. Взгляд как у ребенка.
– Лена, вы не находите, что музыка по радио раздражает? – говорит он тихо. «Ты же плачешь», – сказал ребенок с швейцарским акцентом, а мать ему по-французски: «Закрой рот». Мать и дитя выглядели как арабы и к темным волосам оделись во все желтое.
На пути из Базеля в Карлсруэ, когда поезд «Евросити-Экспресс» задержался на базельском вокзале Бадишер дольше обычного, Лена заплакала. Нацепила солнечные очки и смотрела в окно, отвернувшись от остальных пассажиров. Идет дождь, и пусть новый сезон начинается без нее. Ей придется отказаться от квартиры, но она не знает, куда деваться. Вот постель, вот стол, вот стул, вот она сама. Возьмет из питомника собаку, если той еще хуже. Черного такого пса, назовет его Ахилл. Или Доктор.
– Ты плачешь? Почему? – ребенок перелез на пустое соседнее сиденье. – Умер кто-нибудь?
– Нет.
– Так что тогда?
– Не могу тебе сказать, – она оперлась подбородком о руку и прикрыла рот ладонью.
«Ух, какие сиськи здоровые!» – пялясь на нее, гоготнул в первом ряду парень со жвачкой во рту. Наверху, на сцене, она проклинала художника по костюму. Что за идиотская идея выставить так ее. С обнаженной правой грудью.
– Плохо в школе учишься? – допытывался ребенок.
– Я уже кончила школу.
– Значит, у тебя есть дети?
– Нет.
– Так что ж тогда?
Лена стояла впереди, у рампы, а парень все жевал резинку. Молодой, лоб высокий, рот красивый. Играли «Пентесилею», второй спектакль. «В живых оставшись чудом, не смирилась, и ввысь опять стремится по скале отвесной»[5]5
Генрих фон Клейст. Пентесилея. Действие 1, явление 1. Цитата в романе искажена; в трагедии: «Sie rafft sich bloss zu neuem Klimmen auf».
[Закрыть]. Лена строго взглянула на парня в первом ряду. Тот в ответ ухмыльнулся. И повторил: «Ух, какие сиськи здоровые!» – как будто рукой ее за грудь хватает.
Спустя три дня место парня заняла пожилая дама. Ради этого вечера дама побывала у парикмахера, и Лена ей почти сочувствовала. Но осталась стоять прямо перед ней. Между двумя кулисами покашливал коллега, как перхают овцы, отрывисто и сдавленно. А в зрительном зале повисла тишина, какая редко бывает в театре. Была суббота.
«Я играла Пентесилею», – произнесла она.
Пятьдесят или шестьдесят ударов сердца, все чаще стучавшего слева под доспехами амазонки, и она повторила:
«Я играла Пентесилею».
Дама в первом ряду внимательно посмотрела на Лену, скрестила руки и даже улыбнулась. Она, наверное, имела абонемент и регулярно ходила по театрам, так что ко многому привыкла. Улыбнулась, будто вспомнила лучшие времена, и покойного мужа, и общие их абонементы, и старомодные, но яркие изъявления чувств в легендарной постановке «Фауста». По ней видно, что пытается провести анализ текста. Это были лучшие годы, и вообще, и в ее жизни. Дама улыбнулась. Она любила театр, а потому сочла и эту актрису, сошедшую с круга, за явление искусства. В наше время случается и не такое. Лучше улыбнуться и слегка кивнуть. И все своим чередом.
Пути отступления у Лены нет. И она стояла – пленная в это мгновение, но свободная для тех мгновений, что наступят после. С завтрашнего дня ей не надо подчиняться этим людям, гоняющим других людей по подмосткам. Им всегда мало. Эта минута будет последней в череде несчастливых минут, когда она, бездарно повязанная пустыми указаниями, выставлена напоказ в слепящем свете. Здоровенный прожектор и сегодня направлен прямо на нее. Стоя у рампы, она рада бы тихонько сказать той даме: «Лучше в кино, чем сюда. Был в кино и плакал, словами Кафки».
Дама улыбалась.
«Я играла Пентесилею», – в третий раз повторила Лена и улыбнулась в ответ. Ничего не произошло. Зрители все еще принимали эту фразу за человеческие усилия, именуемые режиссурой. Но это была ее собственная фраза. И не только из-за здоровых сисек утратила она душевное равновесие.
«Я играла…»
«Занавес», – послышался чей-то голос из-за второй кулисы. Помреж опустил занавес в тот момент, когда Лена защелкала в воздухе пальцами правой руки, воображая, что между большим и средним вспыхивает огонь, сжигает на виду у всех договор на действительность, за многие месяцы ее трудом созданную. Она швырнула через плечо отработанный жест. Тот шлепнулся в пустом пространстве за Леной и отбросил назад картинку. На картинке маленькой Лене мать застегивала на груди старую вязаную кофту, синюю с пуговицами-цветочками, чтобы послать в магазин перед закрытием: четвертушку сливочного сыра, но пусть тонко нарежут, полфунта серого хлеба и таблетки. У папы опять разболелась голова, деточка. «Все истории, – успела она подумать в последний свой миг на сцене, – все истории каким-то образом связаны». Коллега, взяв за плечи, оттащил ее от рампы.
На второй день она забирала документы в администрации. У директора в момент прощания изо рта пахло лакрицей. Рассказал, что в ней было всегда так привлекательно и почему с самого начала ей давали большие роли. «По-честному», как обещал. Лена смотрела на него с интересом. Она, по его словам, выделяется некоторой неуместностью. Всего несколько лет отделяют ее, Лену, от поколения новых лиц. Но у нее-то нового лица никогда не было.
– Точно, – согласилась Лена.
– Не было, причем даже в самых удачных ролях, – продолжал он. – Стань вы, Лена, актрисой года, спустя еще год про вас забыли бы и пресса, и хозяева ресторанов.
– Верно, – кивнула она.
– Ага, – подтвердил директор, причем он знал и причину. У нее ведь лицо своеобразное, но неприметное. Невозможно распознать в ней актрису нового поколения и возликовать. Она красива, но не стоит и на это возлагать больших надежд. С таким лицом ничего не начинается, а скорее что-то кончается.
– Спасибо, – оборвала Лена, – звучит ободряюще.
Но директор не сбился. Ее лицо свидетельствовало о сильных чувствах и о том, что делало ее всегда новой. А именно – изменчивость. В каждой роли она выглядит по-другому, так что, видя ее, забываешь, что уже видел ее раз на сцене и, было дело, восхищался.
– В вашей улыбке читается все, что вы упустили, и то, что счастливая минута зависит от минуты. А не от счастья, – разглагольствовал директор.
– Хватит! – Лена, почуяв опасность, встала и подняла над головой руки. Пахнуло потом.
– Что вы будете теперь делать?
Затренькал телефон, он потянулся к трубке, и она воспользовалась этим, чтобы покинуть его кабинет, кивнув головой.
Она осталась в Базеле, потому что любила этот город. О расторжении договора на квартиру следовало сообщить за три месяца. До конца театрального сезона каждый день читала толстую затрепанную книгу из городской библиотеки, вечером ходила в кино и перезванивалась с подругой под телевизор без звука и дождь за окном. Они вместе учились в театральной школе, менялись одеждой, машинами, работой. Но не мужчинами.
– Шотландское лето, – констатировала подруга.
Лена лежала, зарывшись лицом в волосы. Чувствовала себя опустошенной.
– Понимаю, – говорила подруга. – У меня тоже так было.
– Нет, у меня по-другому! – возражала Лена. – Я не хочу больше жить впечатлениями, которые ко мне не имеют отношения.
– Понимаю, – говорила подруга.
– Что мне теперь делать? Я рада была, когда меня другие тащили на сцену. Я ведь добровольно никуда не пойду. Я существую, пока есть театр. Понимаешь?
– Да, – говорила подруга, с телефоном в руке передвигаясь по квартире. Слышно, как открывается шкафчик. Звякают столовые приборы. – Понимаю, – говорила она рассеянно, заправляя посудомоечную машину.
Лена потянулась за сигаретами.
– Самое ужасное, – продолжала она, – что я чувствую себя не старой, а хуже – стареющей. У меня бедра стали как-то выше, будто торчком.
– Обычное дело, – заверяла подруга. – У меня это уже позади. Правда, я оказалась не так беззащитна, как ты. У меня уже тогда была семья.
– Ага.
Фоном звучали шумы, издаваемые семьей, которая только и ждала, пока мать, наконец, закончит переговоры с внешним миром. Ведь без матери за ужином холоднее. А у Лены в комнате всегда тишина. Она задула спичку.
Хотела бы она на полставки в булочную, да, синий нейлоновый халат, а летом, в жару – синий нейлоновый халат на голое тело. Хотела бы по выходным ездить в кино в ближайший город, а еще лучше, чтоб ее туда возили, чтоб рядом со случайным знакомым, пахнущим лосьоном для бритья и бальзамом, уплетать мороженое и поп-корн, и чтоб ее голые коленки, два светлых острова, торчали из темноты кинозала.
– Ты снова закурила?
– Да, чтоб его.
Они разъединились.
Несколько часов спустя, когда дождь перестал, через открытое окно стало слышно людей на террасе в кафе напротив или на пути к последнему трамваю. Стояла теплая ночь. И было открытое окно, и было воскресенье, и не было у нее детей. А счастлива ты, а счастлива ты в этом вечном круговороте без круга? Завтра тоже будет день.
Понедельник – день кино. У «Люкса», напротив театра, она встретила сослуживцев. Это был первый свободный вечер в конце сезона.
– Чем ты теперь занимаешься?
– Этот вопрос я тоже себе задаю. А вы?
– Ты же знаешь, вчера – последний спектакль.
А тот, с кем после праздника по случаю премьеры она, не сняв маску, оказалась на диване, обнимал новую суфлершу. Сообщил:
– Улетаем в Шри-Ланку.
Наутро Лена села в поезд, просто так. Вышла в Карлсруэ и отправилась на террасу кафе «Зинн». Напротив вокзала. В загончике возле кафе «Зинн» жарким южногерманским утром горделиво выступали фламинго. Какао она закусывала яблоком. Светило солнце. Она радовалась: под солнцем думается лучше, чем без него. За соседним столиком человек в кресле-каталке ласково говорил со своей таксой.
– Нет, в самом деле, ты вовсе не такая толстая, – обращался он к собаке.
Вокзальные часы показывали почти десять, когда раздался звонок. Фраза из Баха скоренько пропиликала в ее дорожной сумке, а человек в кресле-каталке закричал: «Телефон, телефон!», так что его такса даже привстала.
– Ты где? – голос в трубке звучал глухо.
– В кафе «Зинн».
– Так, не дури, – продолжал голос. – Твоя мама вообще-то…
В эту минуту мимо проехал грузовик. Шофер поглядел на Лену, а Лена поглядела на бирюзового цвета брезент польского происхождения, если судить по номерному знаку.
– …И прихвати что-нибудь черное из одежды, – глухо распорядился голос.
– А ты меня видел когда-нибудь в красном?
Того, кто звонил, она знала давно, но не очень хорошо. На его примере за последние тридцать лет ей удалось усвоить, что вовсе не обязательно обладать какими-то хорошими качествами, какими-то особенно хорошими качествами, чтобы тебя любили. Звонивший являлся ее отцом, поскольку он же являлся мужем ее матери. Она наклонилась к сумке и попутно сморщила нос: человек в кресле нанес гуталин слишком жирным слоем. Ее, склоненную над дорожной сумкой, на мгновение обдало холодом. «Вообще-то умерла». Теперь это мгновение навсегда пропахло гуталином.
Через пять минут она уже стояла на вокзале Карлсруэ перед желтым расписанием. Теперь она по крайней мере знала, куда ей деваться с багажом и с начавшимся летом.
Десятое июля. Интер-Сити-Экспресс. Потом пересесть на электричку до С. Ведь в С. большие поезда не останавливаются. Родина – то место, про которое женщина может сказать, что там она девочкой носила на зубах пластинку, рекомендованную ортодонтом. У Лены таким местом был город С.
Когда в С. она выходила с вокзала, уже настал полдень. Улица, ведущая в город, одной стороной лежала в тени, другой – на ярком солнце. Прежде, когда Лена в разгар лета возвращалась из школы, улицы разделялись так же. На сгустившуюся черноту и немыслимую белизну. Молодой турок вел за руку свою девушку. На вокзальной площади стояли в ожидании три автобуса. И они втроем направились к остановке 248-го. Девушка в платке курила, сигаретой вырисовывая в воздухе очертания проблемы. Браслеты на запястье звякали, когда она в одной фразе мешала слова немецкие и турецкие. Подойдя к автобусу, задрала длинную юбку, сигарету высоким своим каблуком раздавила. Потом поцеловала его. Поверх цветочков платка на плече своей девушки молодой человек глазел на Лену. На нем были дорогие синие спортивные штаны. Лена поставила сумку на землю, откинула волосы. Подул ветерок, как прежде, и она почуяла запах от пивоварни. В С. пили местное пиво, и пивные имелись чуть не на каждом углу, зато гимназия – только одна.
«Я не возвращаюсь, я просто сюда еду», – уговаривала она себя.
Вдруг ветел задул сильнее. Он несся со стороны вокзала, от поездов, мчавшихся через С. так быстро, что пассажиры не успевали ни разобрать название города, ни разглядеть две зеленых церковных башни и красную фабрику роялей. В С. прошла ее юность. Поезда, мчавшиеся мимо, и стали тем ветром, что унес отсюда Лену.
Она выбрала теневую сторону улицы. У двери закусочной молодой человек вынимал кусочки лука из своего кебаба. Красный солнечный зонт отбрасывал розовую тень на его лицо. У пустого столика стояли два стула, незащищенные от солнца, но повернутые друг к другу. Люди, сидевшие здесь, давно уже ушли. Но последнее движение их осталось, в промежутке между одним и другим стулом.
Прежде… Когда оно было?
Прежде? Тогда, когда еще дети были на дворе, как однажды сказала мама.
Звонок поблескивал золотом в стене у садовых ворот. Лена едва коснулась его – наверное, чтобы можно было быстро уйти. На часах без десяти три. Дом стоял на крутой, но тихой улочке в дорогом квартале. Два каменных льва, не крупнее терьеров, прямехонько сидели на углах стены, справа и слева от ворот. Мать называла этот дом Левенбургом, Львиным замком. За домом шумел высокий тополь, да трескотня сороки нарушала дневную тишину. Жалюзи на втором этаже были приспущены. Лена вошла в сад.
«Ты с ним дружила, мама?» – «Вроде того, пока твой отец не появился». – «А потом?» – «Потом меньше». – «Почему?» – «Потому». – «Потому что он смешной?» – «Почему это он смешной?» – «Потому что ты так говоришь. Потому что все так говорят».
Дальман, когда его мать умерла, некоторое время жил в доме один. А потом выставил в окне эркера табличку: «Сдается комната».
«Какой хороший сад», – подумала Лена и стала искать сигареты. Ей было не по себе. Наверняка к окну прилажено зеркало, чтобы наблюдать за непрошенными гостями. Неприкуренная сигарета в уголке рта. Выглядит, должно быть, небрежно и по-мужски. В саду растет что ни попадя, стремясь в жаркий август, а в доме слышны шаги по деревянной лестнице.
Лена перебрала в уме все, что помнила. Наверняка у него и теперь вьющиеся от природы волосы, только уже крашеные, да еще две сестры, младшая замужем за двоюродным братом, старшая – за его лучшим другом Освальдом, который на всех свадьбах отлично играл на аккордеоне. В том числе и у ее матери. С внутренней стороны на двери цепочка. Лена убрала сигарету. Дверь открылась. Она смотрела в пол, плитка черно-белая, на плитке пара ботинок. Черных. Носки белые. Подняла взгляд. И подумала: «Все люди стареют».
– Здравствуйте. Вы ведь сдаете комнату? – Лена вдруг стала нерешительной. Он провел рукой вверх по дверному косяку. Казалось, он сомневается.
– Лучше бы вы заранее позвонили. Ну у меня и видок!
На нем были джинсы, коричневый ремень, белая рубашка с длинными рукавами, аккуратно закатанными до локтя. Ухоженный и в то же время несобранный. Сдвинул назад очки, приблизил к ней лицо. Завершая это движение, шмыгнул носом.
– Боже мой, теперь-то я знаю, где я вас видел!
– Где же?
– Да тут вот, по телевизору, в театральной хронике, – разъяснил он. – Еврейка из Толедо[6]6
«Еврейка из Толедо» – пьеса Лопе де Веги.
[Закрыть]. Вполне современно сделано. Вы еще целый акт в бассейне плавали, с актрисой этой замечательной, с этой знаменитой, по фамилии Шефер. Отец у нее тоже актер. Да вы знаете, кого я имею в виду.
– Да, Сильвана Шефер, – подтвердила Лена. – Могу я теперь посмотреть комнату?
– Ага, сдаю, сдаю, – вспомнил он.
Она кивнула и представила себя с лицом мужчины. Молодого и красивого мужчины, и как она в этом обличье, только-только спрыгнув с коня и бросив поводья на решетку ворот и, увы, заодно на шиповник, в знак приветствия сдвигает широкую шляпу на потный затылок. Нацепила мужскую улыбку. Подействовало.
– Изумительно, ах, конечно! Теперь я понял, кто вы! – заорал он так громко, будто и соседи выказывали интерес к тому, чтобы узнать, кто она такая.
– Значит, вы умней меня, – ввернула Лена.
И его рот, большой и печальный, способный исторгнуть жалобу, но не грубость, разверзся расселиной.
– Ведь вы…
«Точно, она самая», – хотелось ей подсказать.
– Вы дочь, – прошептал он, – вы дочь моей Марлис. Надеюсь, вы больше не играете на пианино.
Она последовала в дом за Юлиусом Дальманом.
Пасхальные цветочки, украшавшие открытку, добрались до С. к Рождеству 1943 года. Казус с рождественской открыткой был одной из тех двух-трех историй, которые Марлис любила рассказывать про Дальмана, когда ей хотелось кого-нибудь позабавить. «Надо же такому случиться», – завершала она рассказ. И повторяла: «Произошло это в О., все происходило в О.». Лене она тоже так говорила.
До того, как открытка пропала, текст на обратной стороне прочитали трое. «Погода хорошая. Как ты живешь? Дорогая Марлис, не плачь, я тоже не плачу. Здесь очень хорошо, но если ветер западный, то воняет из лагеря. Робби Больц тогда говорит: «Ой, вечно эти евреи». С Робби Больцем я не дружу. Ты не можешь приехать? Твой Юлиус. Я тебя очень люблю». В тот день Марлис убедилась, что Юлиус Дальман в О. чокнулся. Никаких сомнений. Окруженный унылыми пустырями и елями на горизонте, запертый на той стороне иззелена-черной зубчатой лесной ленты, умом тронулся. Ведь только тот, кто тронулся умом, способен послать на Рождество эти невинные пасхальные цветочки. Марлис несколько раз перечитала открытку, сунула ее за пояс спортивных штанов, вечером прочитала снова, а наутро открытка исчезла из тумбочки. Вопросов она не задавала. Ждала. Летом Юлиус должен приехать. Как и в прошлом году, они будут распускать старые шерстяные вещи. Он вытягивает нитку, она сматывает клубок. «Можно я разок тоже надену красную юбку?» – спросит Юлиус. Она великодушно кивнет и смутится. «Что это с тобой?» – и она вопросительно тронет его живот.
«Как же он выглядел, мама?»
«Уморительно, – отвечала мать. – Просто умора».
И у Лены в голове складывался образ: Дальман, темные кудри, узкое лицо, изящные ножки и напяленная тайком старая мамина тряпка. Она смеялась. Значит, дело было в О.? Как забавно. На подъезде к Катовице красивый пейзаж обрывается. Грязное облако разделяет небо и город, объездная дорога ведет вокруг центра. Трамвайные рельсы, кирпичные одноэтажки, булыжные мостовые, старухи на кривых своих ногах идут вдвоем во всю ширину тротуара. Боковым зрением заглядывает Лена в чужие улицы, и они кажутся ей очень глубокими. Глубже, чем на самом деле. О месте, откуда она родом, напоминает ей глубина этих улиц. Так, как само это место все чаще напоминает о мрачном сне.
У «Макдоналдса» останавливаются, пьют кофе рядом с водителями грузовиков.
– Где вы заночуете в Берлине?
– В Моабитском монастыре, – отвечает Дальман. – В гостях у одного монаха, раньше он тоже был актером, потом поменял профессию и использует свой театральный опыт на благо церкви. Я занимался у него на курсах в Шверте.
– Актерское мастерство?
– Развитие речи, – вмешался священник.
– Там я и с Рихардом познакомился. Правда, Рихард? – большим пальцем тычет назад Дальман.
– Да, – подтверждает тот.
– Двадцать с лишним лет прошло, правда, Рихард?
– Да.
– После курсов я раз в месяц, каждое второе воскресенье, читал у алтаря из Евангелия, – рассказывает Дальман. – Мать с обеими сестрами сидели в первом ряду, а иногда и Марлис с ними. У меня хорошо получалось, правда?
– Да.
– И что на него иногда находит? Все дакает и дакает.
– Может, он впервые в «Макдоналдсе»? – предполагает Лена.
Дальман смеется. Лена откидывает со щеки прядь волос. Священник молчит.
«Вот если бы со мной этот Рихард Францен был знаком двадцать лет, меня бы это напрягало», – приходит ей в голову. Стоит вообразить эти курсы, как в нос шибает запах горохового супа и наперед сваренного кофе из пластмассовых термосов, и одиноких мужчин в тонких поплиновых плащах с коротковатыми рукавами, а на улице обычные четыре градуса ниже нуля и сырость. В Шверте. Движения одиноких мужчин, когда они натягивают свои плащи, отдают кошачьим душком. Точно.
Три шофера за соседним столиком пялятся на нее.
– Магдалена! – восклицает Дальман.
– Да? – она встает и идет к машине. Видит, как священник выбрасывает три пластиковых стаканчика из-под кофе. Шоферы грузовиков пялятся теперь на его сутану.
– Вы считаете красивым это имя?
– Какое? – она открывает ключом пассажирскую дверь.
– Ваше, – уточняет Дальман. – Когда мама сообщила нам имя, я тут же…
– Магдалена?
– Да, и когда Марлис сообщила нам имя Магдалена, я сказал Хельме: «О, сколь изысканно – Магдалена! Звучит-то как! Но раз уж мы в семье справились с Трауготтом, так справимся и с Магдаленой». А Трауготт – это мать его, дуреха, придумала. Беременная сидела у телевизора и смотрела тяжелый фильм, а режиссера звали Трауготт такой-то. Уж она на этом фильме наплакалась. И бедный человечек у нее в животе получил имя Трауготт.
– Зато вам нравится Марлис?
– Да, имя Марлис мне очень нравилось, – сдвинув ноги поплотнее, он смотрит из бокового окошка. И последних лучах света выглядит очень загорелым.
– Откуда ты знаешь?
– Женщины всегда это знают.
– Ты уже разве женщина?
– Почти.
– А как это?
– Кровь начинает течь.
– Где?
– Тут, – Мартина показала на «молнию» своих джинсов. – Года через три, – разъяснила она, – а потом тридцать лет подряд и каждые четыре недели.
– Где же именно?
– Тут, – она показала между ног.
– Из задницы?
– Нет, спереди. Оттуда и дети вылезают.
– Ну? А как они туда попадают?
– Тоже спереди.
– Ага, значит, не через зад?
– Нет, точно не через зад, – подтвердила Мартина.
Они с Леной появились на свет в одну и ту же ночь в одной и той же больнице. «Но я на два часа старше», – утверждала Мартина.
Ее родители владели самым большим в округе магазином тканей. «Лихтблау» – горело синим неоновым светом, с размахом пятидесятых годов растянувшись по длине шести витрин. Над буквой «т», на втором этаже, была комната Мартины. Окно выходило на рыночную площадь. За домом раскинулся их парк: пруд, розовая клумба и каштановая аллея. У дома Лены во дворе болтались семеро шалых детей. Она любила ходить к Мартине. На складе витринного реквизита состоялись ее актерские дебюты. Когда Лена с Мартиной играют, это серьезно. Для них это работа. На складе витринного реквизита Лена открыла для себя, что с изнанки мир сделан из фанеры. Положив посередке манекен, они вели разговоры о смерти. Им было восемь. Мать Мартины старая, богатая и вечно чем-то занятая. Мать Лены молодая и от скуки хочет заниматься воспитанием. Мартинины родители часто говорили между собой по-английски. В семь лет Мартина превосходно шила.
– Надо же, прирожденная портниха, – восхищалась мать Лены. – Вот бы, Лена, тебе такие таланты.
В день первого причастия Мартина и Лена под черным мужским зонтом побежали к исповеди. Лил проливной дождь. Мартина рассказала, что ночью к ней в комнату кто-то приходил. Точно не разглядела, но все-таки уверена, что это черт собственной персоной. Потому что с хвостом.
– Где? – спросила Лена.
– По-моему, – ответила Мартина, – по-моему, сбоку.
В начальной школе они с Мартиной сидели за последней партой, а перед ними два мальчика-итальянца, знатоки всякого неприличия. На арифметике Мартина надевала очки. «Сиськи», – провозглашали мальчики. Мартина хорошо училась, за двоих хорошо, так что очки запотевали. Лена списывала. Раздумывать ей было неохота, и она списывала просто: «Место, где мы родились и где мы живем в детстве, – наша родина. Здесь нам хорошо. Наша родина – С.». Тремя-четырьмя секундами раньше эти строчки появились в тетрадке у Мартины. «У нас дома все в порядке. Папа зарабатывает деньги. Папа, мама и старшие дети вместе обсуждают, как их употребить, и мама выполняет то, что решил семейный совет. До семейного совета чума бушевала в деревне С., чума и огромный пожар, из-за которого расплавились даже церковные колокола». К главе про семейный совет Лена пририсовала черно-красно-золотой флажок на цепочке, для надежности прицепив еще одно «т» к слову «совет», а главу «Чума и пожар» украсила черно-желтой гирляндой в честь команды «Боруссия», Дортмунд. Мартина, одобрив, попросила цветные карандаши. И срисовала. Учитель сказал, что обе они дуры, особенно Лена. Потому что в Мартину он влюбился. Кожа у нее была как шелк, и в шелковую девочку был влюблен не только этот учитель. В своей бело-розовой детской она жила таинственной жизнью, ходила на балет, но только в дождь, а солнечным днем сидела в подвале в отсыревшем плетеном кресле, свесив по сторонам белые руки, причем одна рука с синим детским колечком на пальце по-хозяйски покоилась поверх клетки, где носился хомячок с двумя кроваво-красными шариками между задними ногами. На улице без девочки отцветали каштаны. Служанка спускалась в подвал с двумя стаканами сока, говорила, что на улице цветущие каштаны. «Выйди разок на воздух, Мартина, вот и мама так говорила». На другой день Мартина, спотыкаясь, двигалась через прихожую с ботинком наперевес. Цель – убийство собственной матери. Порою только наглаженное платье да причесанные волосы отличали ее от зверюшки. Приличная такая зверюшка, посреди бела дня раздевается и натягивает коротенькую ночную рубашку, обрезает сзади ремешки у красных детских сандаликов. Так ей удавалось наказать хоть сандалики, да пошлепать в них по дому, будто дом – это Рим, да проскакать через парк на ремонтных козлах, ох бедовая женщина, а волосы – флагом по ветру. Порой из-за Мартины в комнате повисала тишина – такая, что не могла одна только маленькая девочка служить ее причиной. Время, проведенное с Мартиной, Лена прочувствовала позже, как будто в детстве у них не было детства. Они друг друга любили, но и терпеть друг друга не могли.
Когда Мартине исполнялось одиннадцать, она пригласила весь класс на шоколадное фондю на чердаке, и все девочки завидовали – вечеринке, красивым братьям, белокурой служанке с высокой прической, украшенному чердаку, Мартининой ранней порочности. Лене и Мартине стало двенадцать, потом тринадцать, и церковные башни обрели свои зеленые заплаты. Кран прикрыл ими последние военные раны. В ров у замка снова залили воду, запустили пять лебедей, и тогда война в С. окончательно завершилась, а Лена, впервые поедая ветчинные рулетики с хреном, крикнула: «Огонь!» В соседней комнате отец крикнул: «Гол!», а бабушка крикнула: «Тихо! Пока еще это мой телевизор!» В конце сентября 1972-го астры уверенно вылезли из земли, а между ними, в саду, у подножья Красных гор нашли два трупа, и тогда в этом районе городская администрация играть запретила.
– Запретный сад! – воскликнула Мартина. – Идем туда.
Без Красных гор – об этом часто думала Лена – без Красных гор ей бы вовсе не понять своей жизни. Там, у отвалов иссякшего железного рудника, превращенных в мусорные кучи, они с Мартиной сидели в то последнее лето, когда еще окончательно не повзрослели. Упали на красный диван в гостиной между кустами бузины и перелистывали страницы жизни. Той, что прожили, и той, что их ожидала. На красном диване, у подножья Красных гор Мартина рассказывала Лене, как та появилась на свет. Она, кажется, и о том бы рассказала, как сам свет на свет появился!