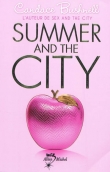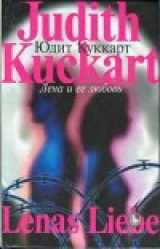
Текст книги "Лена и ее любовь"
Автор книги: Юдит Куккарт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– А в один прекрасный день ты начал заикаться у алтаря, – и на барном табурете закинула ногу на ногу.
– Никогда я не заикался, – возразил он.
– Да ладно, – продолжала, – ты даже в микрофон заикался.
– Разве я такое рассказывал?
– Да ладно, чего ты не рассказывал, то я могу домыслить.
– Но я у себя в церкви и микрофона-то не использовал.
– Да ладно. Ты себе кое-что представил у алтаря, вот и начал заикаться.
– Лена, не надо.
И вперил взгляд в спину той женщины. По плечам болтаются волосы парика, жесткие, как щетина у швабры. Складки платья, колыхнувшись, показали Лене, что женщина смеется. Людвиг не мог оторваться от этого беззвучного смеха. Смех заполонил пространство, и Людвиг прилип к ней взглядом, упрямо, тупо, со всей непрошибаемостью иной расы – мужчин.
– Хорошо, – и вцепился Лене в волосы, и держит крепко. – Хорошо, я заикался. Довольна?
«Бросишь ты меня», – мелькнуло в голове, и в тот самый миг он в испуге ее отпустил. Глянула на растерянную его руку. И – телефонный звонок.
Женщина взяла трубку:
– Да-да, мне двадцать четыре, – и посмотрелась в зеркало стойки, за батареей бутылок. – Что вы желаете? Только руками? Стоимость услуги шестьдесят марок. Да-да, да-да, жду.
Положила трубку. В комнате ужас как жарко, клохчет воздух в батарее, и вид на озеро предвещает серый рождественский день. Прекрасный вчерашний день закончился тоже не так прекрасно, как начинался. Из Дальмановой столовой донеслись звуки церковной музыки. «Мессия» Генделя. Людвиг подтягивал. Что же за женщина была та, ради которой нарушен обет безбрачия? И как у нее насчет таблеток? Людвиг сказал – не знает, до таких разговоров дело не дошло. У Дальмана внизу «Мессия», вторая часть, громче. «Аллилуйя» вступает мощным хором, так что дыхание перехватывает. А без дыхания нет и настоящего пения, подумалось ей. Вот и Людвиг уже бросил подпевать, но тут у Дальмана музыка зазвучала еще громче. Дрозд спокойно уселся, наконец, на голую ветку и клювиком лазает к себе под крыло. Под музыку одна бретелька лифчика у Лены скользнула с плеча, к концу пассажа доехала почти до локтя. Хоть это удалось. Сказала сухо, что намерена раздеться догола. Не для него, для дрозда на ветке. Тот уж точно до конца досмотрит. Только сказала, как птичка улетела. И музыка в столовой оборвалась, и Дальман выронил из нетвердых своих рук коньячную рюмку, ясное дело, выругавшись.
Та женщина проводила Людвига и Лену к двери. Такой же парик, но светлый, и платьице короткое красное, под грудью в сборочку. Разворачивались, а она все стояла в дверях, водила прядкой волос по губам. Рядом с табличкой на выезде новый знак: гололед. Лена скомкала обертку от последней шоколадки.
– Сама не знаю, – вот так она тогда ответила.
Поколебавшись, Лена решается на обгон. Гуськом идут солдаты через польскую весну. Ноги мужские, тонкие в штанах, и зеленый форменный кажется тусклым рядом с зеленью травы за обочиной. Так, немедленно затормозить, там, где последний солдат тень отбрасывает на дорогу. Солнце на юге. Тормоз. Дальман в который раз хватается за руль, а тут уже и ногой почти на коврик.
– Оставьте, – говорит, – оставьте. Мне тридцать девять, и все без аварий.
Лена и Людвиг шли своим старым путем, мимо бассейна в лесу, мимо последнего в С. крестьянского двора, да и тот перестроен под четыре частных квартиры и мастерскую на месте хлева. Рождественский сочельник. Лена промочила ноги, ком снега на сапогах точным контуром горной гряды. Показала. А порою горные хребты точный слепок лежаков на пляже, когда берегом прошла песчаная буря. Обращал ты на это внимание, Людвиг? Улыбнулся вместо ответа. Шли мимо крестьянского двора, мимо пустого загона для ослика Густава. И асфальт переходил в укатанную землю.
– Вон там стоял дом, – первым сказал Людвиг и ногой ступил на порожек в конце асфальта. – Мы там были однажды.
– Дважды, – поправила Лена. И посмотрела на часы. Ошибка! Сколько у нас времени? – вот что она хотела спросить у любви. Сколько времени? – задала вопрос циферблату. Что, дополнительное время ей не нужно? С самого августа из времени они выпали, и попали в прекрасное место. Называлось оно так: настоящее. С видом на это место, да с Людвигом рядом, провела бы она остаток жизни, сидела бы и курила, вела беседы на капоте «вольво», впереди красное неспешное солнце, позади придорожный трактир с комнатами для постояльцев, а у ног некрасивый вереск. И это вовсе не та реальность, которую они делят со всеми другими людьми на свете. Это просто жизнь. Их жизнь, собственная. Почему же надо посреди жизни обязательно смотреть на часы? А сегодня днем и часы ответили перепуганным взглядом, будто их разбудили.
– Двадцать минут четвертого, – произнес Людвиг. – Да и дома-то больше нет.
Остался узкой полоской фундамент, заметный в промерзшей земле. И забор исчез, сохранились только ворота сада, торчат, как заброшенный памятник на могиле. Людвиг придержал створку, пропуская ее вперед. Створка заскрипела, захлопнулась за ними и немедленно открылась снова.
– Дом, – сказала Лена.
– Можем взять его с собой, – сказал ей Людвиг. – Если это тебе еще нужно.
Из ниоткуда, казалось ей, закричал ослик.
Пошли назад и вернулись в город. В пешеходной зоне под дождем качались рождественские гирлянды, город выглядел так, будто никто не пришел на праздник, ради которого он наряжался. Она подергала Людвига за средний палец, и оставила его в сжатой ладони. И тут за ними свист в два пальца.
– Это – я, – возгласила Мартина, глядя на Людвига. А Людвиг вопросительно посмотрел на желтую рекламу коммерческого банка, мигавшую над их головами. Смеркалось. Мартинины мокрые волосы в желтой подсветке вспыхнули непримиримым рыжим цветом. Лена тут же протянула к ним руку. Это ты? Последний раз я видела тебя, Мартина, на заднем сиденье мотоцикла, тебя и твою красную кожаную куртку, и твой красный, широкий, раной расползшийся рот на бледном лице.
– Это Мартина, – представила ее Лена. – А это Людвиг.
– Привет, – сказала Мартина.
– Очень приятно, – ответил Людвиг.
«Бред!» – подумала Лена. А вслух произнесла:
– Вы ведь знакомы… – и про себя закончила: «Со дня теплой воды в бассейне».
Мартина вся, от щиколоток и выше – движение вперед, а сама с места не сходит, с Людвига не сводит глаз. Старая ее метода. Залезет к кому-нибудь на колени, и все равно внушит ему чувство, будто он завоеватель. Ни пальто, ни куртки на ней, только толстый белый лыжный свитер. Праздничные гирлянды над их головами раскачивались на ветру.
– Мы за стол сядем поздно, ждем моего второго брата. Не хотите у нас выпить кофе? – предложила Мартина.
И сунула руку под свитер, и по животу прямиком к пупку. Задрала свитер, как делает, растерявшись, ребенок. Показалась нижняя рубашка, а за нею гладкая белая кожа, и рука поигралась с зеленым камушком, украшеньем пупка.
– Так ты не священник?
Людвиг положил руку Лене на плечо.
– Ага, вот какая парочка!
Почему она сказала «парочка», не «пара»? Парочка – это когда меньше года.
– У меня старший брат тоже собирался стать священником, – поделилась Мартина. – Но потом ему что-то помешало.
Втроем двинулись через Рыночную площадь, Лена между Людвигом и Мартиной. Видела, как Мартина поглядывает на Людвига, и за помощью обращалась вверх, к окошку над буквой «т» в надписи «Лихтблау». Окошко светилось. «Там мы играли когда-то», – говорила себе Лена.
Старший братец, который не стал священником, повел Лену в гостиную, для начала обняв за плечи и называя девочкой. Вот уже пятнадцать лет он таксистом во Франкфурте. «Господин Эдгар» – так к нему раньше обращалась Лена, потому что он на восемь годков старше и на школьном дворе известная личность.
– Ты по-прежнему в театре? – поинтересовалась Мартина, скинула ботиночки, вытянула ноги и бойко пошевелила в воздухе пальцами. Те же стулья вишневого дерева, та же кожаная обивка. Красного цвета. Красного, как ремешки детских сандаликов, срезанные тридцать лет назад Мартиной ради римского ощущения жизни. Некоторые истории Лена запоминала по цвету.
– А ты-то чем занимаешься? – в свою очередь спросила она Мартину.
Та провела по волосам прежним жестом, только рука уже постарела.
– Ну, то-се, то портнихой, то костюмершей, если надо – и подшивка-перешивка, иногда на модных показах и – как модель. Обнаженная.
А сама смотрела, как эти слова отразятся на лице Людвига. И под белым толстым свитером виднелось белое тело, может, ставшее со временем поквадратней, но все еще удобное в обращении и упругое, и мягкое, как подушки в хорошем отеле. Мартина сохранила остатки той красоты, что уже не восхищает, но все равно берет за живое.
– Обнаженная модель? Не стара ли ты для этого?
Настоящие свечки горели на рождественской елке и пахли медом. Все расселись за большим столом, только брат держался поближе к арке на кухню. Вместо кофе принесли шампанское. Под бокалы дали подставки, которые они с Мартиной четверть века назад смастерили в католическом кружке для девочек. Сухоцвет и соломка, спрессованные под пленкой. На таких, бывало, стояли вазочки для персиков в шампанском. Людвигов бокал чуть качался на мертвых незабудках. Цвели те когда-то на куче компоста, потом сушились между страницами «Моби Дика».
И вдруг по всей комнате храп. Мартина показала на розовую пластмассовую штуковину при колонке.
– Наш подарок мамуле на Рождество.
– А что это? – полюбопытствовал Людвиг.
– Это? Бэбифон.
– О, так она жива? – воскликнула Лена. Никто не ответил.
Когда-то мать у Мартины была та еще напудренная тетка, и с таким количеством украшений в ушах и на шее, что в иные дни ее декольте обнаруживало пятна от вчерашних кулонов и цепочек.
– Так ты все еще священник?
И все поглядели на Людвига, без особого любопытства, но и без смущения. А вопрос был задан Мартиной.
– Нет.
– Почему же? – и заулыбалась, хотя Людвиг смотрел только на братца Эдгара во время всей своей дальнейшей речи.
– В один прекрасный день я проснулся, – заговорил он совершенно серьезно, – и не суть оказалась утрачена, но мои поиски этой сути. Я – там же, а вопросов как не бывало. Такого я не ожидал и просто лежал в постели, глядя в потолок. Никаких объяснений не требовалось, я закрыл глаза и увидел киноплакаты, о которых и знать не знал, что видел их прежде. Захотелось пойти в кино. А почему? Вот это-то мне и было безразлично. Мне не требовалось больше никаких объяснений. Слишком долго мне все объясняла вера. Только ведь вера – это не объяснение.
– Понимаю, – встряла Мартина, но Людвиг не обратил на это внимания.
– Вера, – продолжал он, – это позиция…
– Понимаю, – опять вылезла Мартина.
– А таковой я не обладал.
– А я вот ничего не понимаю, – сказала тут Лена. – И вообще: дайте глоток шампанского.
Смотрела на Мартину, пока та не пошла на кухню. Людвиг не стал ждать ее возвращения. Опять обратился к Эдгару:
– К полудню мне надо было в церковь, встречать машину с котельным топливом. Надел старый свитер, а навстречу мне человек в синем комбинезоне. И при виде его я уверился, что вот он, конец пути, и что прежнее невозможно. В то утро я совершил выбор между человеком в комбинезоне, с его усталым, но добродушным лицом – и ликом небесным со всеми его посулами. Выбор между реальностью и истиной. Так я назвал это позднее, стараясь разъяснить себе тот миг. Да, я совершил выбор между жизнью и Богом, ее сотворившим. Такой он мне ее дал. Такой я ее проживу. Начиная с этой минуты.
– Понимаю, – ответил ему Эдгар, – у меня тоже так было.
– Вот уж неправда, – и Мартина неожиданно замахала руками, – у тебя всегда все из-за баб.
Поглядела на Лену. А та смотрела на Людвига. На легкую синеву его щек, след выбритой бороды. И видела, как он мальчиком ведет свой спортивный велосипед сквозь давно ушедший в прошлое вечер.
– Вот мы и прослушали настоящую проповедь, – и Мартина щелкнула заколкой в волосах. Густые пряди, чуть помедлив на затылке, рассыпались по плечам. Стащила свитер, показалась в мужской, в рубчик, майке и с голыми, белыми, чуточку дряблыми руками.
– Лето на дворе, – язвительно произнес братец Эдгар, покинув наконец-то свой пост у арки, шлепнув заодно Мартину по плечу. Дряблая кожа мелко затряслась. Лену это отчего-то взбесило. А Мартина задрала кверху руки. Подмышки гладко выбриты, и первый взгляд, при снятом-то свитере, направлен на Людвига.
– Мне пора, – заявила Лена.
– Почему же, – не понял Людвиг, оставшись сидеть, когда она уже поднялась. Так и стояла. «Спокойно, Лена, спокойно, – говорила она себе. – Так просто ничего не может произойти, всегда и все можно поправить. А вдруг ничего и не происходит? А вдруг это паранойя? Но кто сказал, что при паранойе нечего бояться?» Из бэбифона донеслось легкое шипение.
– Лена, что такое? – улыбнулся ей Людвиг. И тоже поднялся.
Вышла в прихожую, взяла пальто. Людвиг за ней. У вешалки Мартина задела Людвига своим голым плечом, рассыпанными волосами. Силы такой, как пламя. На миг Лене стало очень одиноко, одиноко в вагоне поезда, где за ней лишь безлюдье коридора и пустующие купе. А раз одна, а раз ночь, то уж поезд теперь точно не остановишь. Помчится сквозь ночь до самого конца в небытие. И тут Людвиг обнял ее. Бэбифон издавал жестокий храп.
Ушли. Людвиг взял под руку, задрав подбородок и на нее не глянув. Так ходят накануне серебряной свадьбы. Между ними неполадка, какая бывает на судне. Легкий сдвиг в обшивке корпуса. Слабое покачивание – не заметишь, само остановится. Но кто-то уже потихоньку покидает судно.
Людвиг отправился к своим родителям, она – к Дальману. Вошла в прихожую, а тот беседует с кем-то в столовой. Постучалась. Но Дальман совершенно один.
В тот вечер он не приглушал звук телевизора, как и тогда, когда впервые рассказывал ей про О. – немецкий городок О., точно как С., только на юге Польши, где у маленького немецкого мальчика некогда была большая собственная комната. Рассказывал громко. Но телевизор орал еще громче.
А что сказал Людвиг Лене, когда в грузовике с ящиками для минералки, где-то неподалеку от Альтенберга, она впервые всю жизнь перед ним разложила, а он, слушая, лакомился шоколадкой? Когда она вновь и вновь восклицала, дескать, главное-то я и позабыла. Когда в темноте шоферской кабины воспоминания охватывали ее с такой силой, что она то и дело колотила Людвига жестким кулаком по ноге. Что же он произнес? Тогда, когда руку у него на бедре оставив, она поняла: без него – все пустое.
– Кто рассказывает, тот задает вопрос, Лена.
Вот что.
Рождественским вечером Дальман начал свой рассказ, и она позабыла о всякой Мартине. Говорил о пешеходном мостике на пути в Бжезинку – Биркенау, где высокие перила отражались на лице тревожной решеткой из света и тени, это если высоко светит солнце, а ты совсем маленький. Рельсы под мостом вели к лагерной платформе. А над рельсами по мосту ходили женщины в платочках, безмятежные и радостные, как пасхальные цветочки. Говорил о краснокирпичных домах поселка, где жили дети, с которыми играть не разрешалось, говорил об официантке Янине из ресторана. Как она рыдала на унитазе в уборной на лестничной клетке. Перечислял, что ему было каждый день видно из окошка детской. Поезда, битком набитые при подъезде к платформе и пустыми уходившие обратно. Вагоны без окон, но с раздвижными дверями. Иногда вагоны без крыши, так что с мостика видны были люди.
– А что же Янина? – Лена спросила, потому что ей понравилось имя.
В телевизоре Рождество обсуждали пятеро пожилых дядек и одна тетенька-теолог с вылезающими вперед зубами.
Лена, не сняв пальто, стояла у Дальманова стола. Скатерть еще мама вышивала, золотая парча шаров и красные свечки. Так, в пальто, и присела. Дальман уже поехал, уже набрался. Голос казался трезвым, но звучал высоко, необычно. Так что же Янина?
– Мама, мама, они там внизу целуются, – вот что я сказал матери. – А она, мол, кто целуется, Юлиус? – Янина и немецкий дядя, – это я говорю. А она мне, мол, какой еще немецкий? – Самый, говорю, красивый.
Перчатка выпала у Лены из рук. Не стала поднимать. За окном порывами налетал ветер, но нового снега не приносил.
Янина с 1942-го по 1944-й работала официанткой в казино СС напротив вокзала в О. Впрочем, может, и не так долго, – добавил Дальман. Во всяком случае, влюбилась она в посетителя-немца, а не в немца-хозяина. Как-то днем полячка Янина и немец-шеф оказались в эсэсовском казино одни, а Юлиус как раз возвращался домой из школы. Темные шторы в окнах на улицу задернуты, в ресторанном зале слабый свет. Янина, наклоняясь, протирала стулья, каждый по отдельности. Хозяин встал за ней. Углядел узкую полоску кожи выше чулок, разглядел всю женскую фигуру сзади. Боковая дверь ресторана открыта в коридор. Оттуда ходят к уборной на площадке лестницы и к квартирам. В коридоре Юлиус притаился, наверх не пошел. Дверь в казино, да не дверь, а так, щелочка. Через щелочку видны ему двое. Шеф обеими руками ухватился за Янинины бедра, всем телом в нее уперся, голову откинул и покраснел страшно. Янина – назад тряпкой, вырвалась, и по лицу опять тряпкой. И он ее по лицу, сначала кулаком, а потом и ведро хватает, как мужчины берутся за ремень. Одним махом перевернул, и ей всю воду на голову, и сверху ведром пришлепнул. Та под ведром повизгивает, но не очень громко. Постояла так минутку, а Юлиус из коридора – во все глаза. Думает, вот смех. Янина ведро наземь, на шефа уничтожающим взглядом, и вверх на один пролет до уборной, юбка развевается, блузочка белая вся запачкана, а грязные струйки воды червями в волосах. Янине шестнадцать, а Юлиусу одиннадцать. Мимо пробежала, не заметила его в белых штанишках за дверью. Учебники стянуты ремешком, висят на плече, и запах от него школьный. Все дети пахнут школой, когда оттуда приходят. Рванул наверх, за Яниной следом, и на развороте столкнулся с человеком, что стоял за ним все это время, из-за двери наблюдая за сценой. Тот широким шагом вошел в зал ресторана, растащил в стороны шторы на окнах. Люди, проходя мимо, заглядывали в глубь зала, видели белые скатерти, видели белые свечки. «Как это понять?» – спросил самый красивый у другого, шефа. «Да я так, да так, да так просто», – вот какой был ответ. А Юлиус – вверх по лестнице.
Ты плачешь?
Замер у двери в уборную, тихо постучал. У мыска ботинка раздавленная папироса. Подтолкнул к перилам, скинул. Всхлипы за дверью уборной, окурок внизу на серой плитке. Отец ненавидит мусор в подъезде. Отец – гладкая лысина, собачий надсмотрщик в лагере, отец – псам пес, отец – рев как лай, отец – палец крючком: Юлиус, почему помойка у входа?
Юлиус пошел вниз и поднял окурок. У стены стоял велосипед Янины. С окурком, как с дохлой мухой в руке, побрел он к своей квартире.
Дальманы жили на втором этаже. Польскую фамилию Матеюк как попало заклеили, написали немецкую фамилию Дальман. Через цветное стекло в верху двери теплый свет падал ему в лицо, освещая желтым, красным, синим, а внизу тихонько открылась дверь уборной. Юлиус побыстрее нажал на звонок, на плоскую львиную морду из меди. Открывает полька-служанка, хочет, как обычно, по головке погладить. А он бегом в свою комнату, в конец коридора, и высунулся до пояса из окошка. Внизу, у двери, красивый господин подсаживает фройляйн Янину в авто, большое и черное.
А велосипед ее еще несколько недель простоял внизу, возле входа, – закончил свой рассказ Дальман.
И налил Лене коньяку. Тут-то она и сняла, наконец, пальто.
– Кстати, счастливого Рождества! – вспомнил он.
Красивый пейзаж
Слишком долго просидел Дальман один за большим и красивым материнским столом в стиле бидермайер, позволяя летать по комнате как шторам, так и запаху книжного клея. Рядом жил переплетчик. Вышел на пенсию, теперь приводит в порядок только истрепанные книги соседей. Тоже один. Но его предложение вместе коротать время у телевизора Дальман отвергал неизменно. И сидел один в своей столовой в угнетенном столешницей бидермайер состоянии духа. Пока не явилась Лена. И пока вслед за Леной в доме не появился Людвиг.
– Второй этаж, ее комната в конце коридора, слева, – объяснил он молодому человеку в сером и с лицом вроде бы знакомым. Дальман не скрывал своего неодобрительного отношения к мужским визитам, пусть даже таковые имели место до 22.00. Пусть даже молодой человек еще столь недавно был облечен духовным саном. Не такой он, Дальман, дурак, чтоб не знать про любовь среди бела дня. Когда в тот раз он уселся, как обычно, за стол своей матери, на состояние его духа давила не только столешница, но и сам восставший пол.
Тихими шагами, что Дальман оценил, молодой человек поднялся наверх, деликатно постучал в комнату, отворил и так осторожно прикрыл за собой дверь, словно боялся потревожить сон Лены. Дальман потащился следом, как предлог использовав гостевые полотенца, которые то ли надо, то ли не надо дополнительно положить в ванной. Потом скользнул дальше, мимо ванной, и так долго стоял на цыпочках у двери Лены, что у него свело мышцы на ногах. Стоял, пока не осознал глупости своего положения. Пока тихонько не опустился на пятки. Из-за двери слышалось воркование влюбленных, но что оно скажет? Только нежности, нежности – и только.
– Ты что себе представляешь, когда мы вместе?
– Я себе представляю, что мы вместе.
– То, что и так есть?
– Иногда еще что-нибудь.
– Что же?
– Красивый пейзаж, – ответил Людвиг.
Дальман пробрался по коридору назад, ведя пальцем по голубым штофным обоям, купленным когда-то матерью. Задержался наверху у лестницы. Обои и вправду красивые. И Людвиг этот тоже красивый. Да, а пейзаж-то? Что же он имел в виду? Эннепеталь, Гевельсберг, Хаген – вот уж точно нет. Нет, только не тоскливую эту местность с ее тоскливыми домами и крышами, вечно мокрыми от дождя. Да еще трубы кругом, трубы при мертвых шахтах или просто трубы. Унылые копры да вышки, унылые святилища индустрии, унылые воскресенья, унылые булочные, которые по воскресеньям открыты только с 14.00 до 16.00 ради продажи тортов – сухих или с избытком жирного крема да привкусом никотина, потому что булочник и на работе не выпускает изо рта сигарету. Правда, Людвиг тоже тут родился, недалеко от вокзала, не он ли сын старого Фрея со Средней улицы? Кстати, и вокзал такой унылый, такой несимпатичный, что даже стыдно перед гостями из Баварии или из-за границы, когда там вечно торчат эти хмурые подростки – и бороды-то ни намеком, но все равно пахнут одеколоном, потому что у них в жизни одна проблема, а именно – что у них нет машины. Все это как не знать Людвигу, и эти улицы с безлюдными тротуарами по выходным и с киосками по углам, где на выбор либо лак для волос и леденцы в жестянке, либо женские журналы и тампоны, либо дешевые тайваньские тапочки. В таком месте живешь, живешь, пока тоска вконец не забирает. Красивый пейзаж – да где тут такое видано? Стоя наверху, у лестницы, Дальман закрыл глаза. Он весь – движение, и более смелое, чем у тех, за дверью, со всеми видами их гимнастических упражнений. То он подслушивал под дверью, а теперь вслушивается в самого себя. Трава высокая… Вступает шелковый шелест стебельков, и вот уже видно траву, она длинная и зеленая. Потом лошади тащат повозку, груженную красными перинами. Вот и река, а на той стороне, за мостом, шампанский заводик, и в воде ребятишки, смехом заливаются, ноги тонкие, и зубы через один. Но главное – на фоне красивого пейзажа! Один мальчик, хоть и жара, а в белом шарфе. Дальман и себя самого увидел, и тоже с тонкими мальчишескими ногами, на лице восторг. Польша, Польша! Вот какое название носил его собственный красивый пейзаж, а посреди этой дивной Польши располагалась детская комната. Солнце попало лучом в зеркало на колесиках за его дверью, и пустило зайчика, и ослепило на миг прохожего там, у вокзала в О. Тот поднял голову, посмотрел вверх, на второй этаж. Юлиус одиннадцати лет стоит у окошка. Есть такое положение тела, с которым лучше всего возвращаться в прошлое, – вытянутая шея, опущенные плечи и сердце на ладони.
Он услышал, как голоса за дверью становятся все невнятней, громче, бессмысленней, и тихо спустился по лестнице в столовую.
Включил радио – культурная программа, встал, сделал погромче, подлил в рюмочку. Поприветствовал полной рюмкой портрет матери. До 1974 года у нее был «форд – адмирал» с каштаново-коричневыми кожаными сиденьями. Как-то в воскресенье Дальман разбил его вдребезги. И с тех пор всегда ездил поездом, например, в Шверте, на курсы. Пить с тех пор стал только больше, раз уж без машины. Но – так он себя убеждал, сидя за барной стойкой в вокзальном ресторане Шверте и пялясь на рекламу сберкассы, – форму ему сохранять удается. Форма – говорил он себе – есть тот самый зазор, через который могут спастись бегством страхи его трусливого мира. И будьте здоровы. За барной стойкой в вокзальном ресторане он подливал себе сам. Хозяин, подмигнув, ставил бутылку с ним рядом, записывал налитые рюмки. Дальмана он знал, ведь в последнее воскресенье месяца тот всегда появлялся. Помнил и путаную его речь ближе к приходу поезда. Например: «А знаете, хотел бы я стать священником. И не только потому, что у них вся одежда расшитая». Или: «А вы знаете, что если мужчина и женщина друг друга любят, то в углу комнаты непременно засядет свинья? Вот уж свинья так свинья со своими грязными фантазиями».
«Ваш поезд, ваш поезд!» – всегда вовремя напоминал хозяин.
Будьте здоровы. В столовой Дальман чокнулся с тем бокалом, что в руках у матери на фото. Сел. Свел вместе ступни, только ступни. Свисающая скатерть касается его ног, и даже это вынести трудно. Вверху, на потолке, слышны шаги – судя по звуку – босых ног. Вот, бегут над ним по коридору. Спуск воды. Ноги бегут назад. Не Лена, та при ходьбе наступает сначала на пятки. Происходящее отныне в доме пробивает бреши в его жизни, пусть сам он непосредственно в этом и не участвует.
Все то время, когда наверху был Людвиг, он сидел за столом своей матери, нервно суча ногами – под скатертью, под контролем, – пока в один прекрасный день не сорвался и не открыл рот, чтобы компенсировать давление сверху, со второго этажа. Открыв рот, он для начала намеревался компенсировать давление на барабанную перепонку. А то, что понеслось изо рта, было побочным действием несчастья.
– Вон там, у деревянной церкви!
– Что?
– Остановитесь, – командует Дальман, – Лена, остановитесь.
Церковь стоит на перекрестке, где автобусная остановка, продовольственный магазин, телефонная будка. Девушка проходит почти вплотную к машине, смотрит на номерные знаки. Интересно, похожа она на Янину? Ах, эти красотки-полячки, ах, накрашенные красотки-полячки с их невероятной белой кожей, с их ломкими и светлыми, как стекловолокно, волосами, с их глазами, подведенными темным. Будь Лена мужчиной, как бы выбирала? В руке у девушки толстый пакет. Прозрачный. Две золотые рыбки тыкаются в прозрачные стенки.
Лена ставит машину у телефонной будки. Вот и тут красиво цветет бузина.
– Лена, мы за водой, – и оба вылезают.
Она ногой раскачивает дверь машины. Я-ни-на. Ускоряет ритм. Я-ни-на. Я-ни-на. Что за сон ей сегодня снился? Тот, про Янину. Какой-то, вроде, трактир. И будто сидят они с Людвигом, влюбленные, за грубым столом, под старыми деревьями. Кто-то дал им сырые луковицы и большие стаканы с вином, и Янина приближается к ним в белом передничке. Встает за Людвигом, кладет руки ему на плечи. Людвиг говорит, не поворачиваясь: «Смотри, Лена, не такая уж она и хрупкая». А Янина тут же отвечает: «Вот уж надо было вам посмотреть на отделку бара, какая она была до ремонта».
Дальман был виноват в этом сне, как и в том, что Лена так глубоко зашла в его коридор напротив вокзала, а еще глубже – в сами его истории. Вечером на Рождество он неожиданно начал рассказывать, и неделями потом не останавливался. Рассказывал потому, что Лена ведь частица Марлис, а Марлис нет уже на свете. Так им удавалось прислониться друг к другу тем израненным местом, где каждому не хватало Марлис, и такими принимать друг друга. Он рассказывал, она слушала. У нее особая манера слушать, это он подметил. Как у Марлис особая манера откидывать назад косички. Дальман рассказывал и рассказывал, в течение всей зимы. Весной Лена поехала в О. и отправилась в его коридор. Дважды – один раз посветлу, второй раз затемно. Днем одна, а ночью с Адрианом. Днем она фотографировала. Пустые стены, тишину и свет. Делала ли она это для Дальмана в надежде самой что-то такое увидеть? Через Дальманов коридор пыталась добраться до собственной затворенной двери? Войдя в его коридор впервые, она оказалась в замешательстве, в замешательстве из-за сумеречного света, видно, присущего этому дому в пору, когда Дальман сам был ребенком. Свет и поныне таким сохранился, а вот дверь в уборную забита гвоздями. Кончилась пленка, и она решила сюда вернуться. Только зачем вместо пленки взяла с собой Адриана?
Рывком открываются пассажирские двери.
– Лена опять вся в мечтаньях, – делает наблюдение Дальман.
Банка колы – к ней на колени, Дальман – на пассажирское сиденье.
– Нет, вся в слезах, не видишь? – возражает ему священник.
– Может, я сяду за руль? – предлагает Дальман.
– Ничего, ничего, пусть Магдалена ведет машину, – успокаивает всех священник.