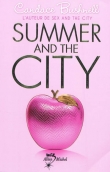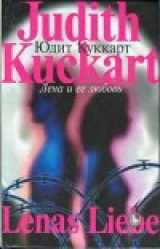
Текст книги "Лена и ее любовь"
Автор книги: Юдит Куккарт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
– Знаете, что со мной сегодня было?
Бар неподалеку от молодежного центра. Девушке за стойкой семнадцать. Нос у нее блестит, и плечи. Она всегда работает вечером по пятницам. Но священник ходит в бар не только в выходные, а чаще. По службе, – вот его объяснение. Только по службе. Телевизор между бутылками джина, водки и виски настроен на канал «Пол-Сат». На экране мельтешит музыкальное шоу с бесконечной болтовней про пани Новак. Так зовут солистку «Републики». В О., кажется, никого не удивляло, что у стойки священник. Рядом с ним стояла Лена. Стояла тихо и при здешнем освещении будто порозовела.
– Знаете, что со мной сегодня было? – поспешно спросил он снова, пока ее не отвлекли разговором. И рассказал, как в молочном баре он в обед подсел за столик возле оконца грязной посуды к одной женщине, однако та, возможно, была мужчиной. На голове засаленная синяя ушанка, сама воняет. Все-таки он не ушел, а смотрел на руки с остатками шпината под ногтями, и как эти руки стыдливо со стола скользнули. И как только на оконце появлялась следующая грязная тарелка, так надкушенный хлеб исчезал сначала в кулаке, потом в кармане ветровки. Каждое движение доносило до него запах подвала и кошек, и немытых волос. Потом зазвонил мобильный. Все посетители, какие были, обратили на это внимание. Не на женщину. Девушка с мобильным кричала: «Так, так» – себе в ладошку и смеялась.
– У нее даже пластинка еще на зубах, – сказал священник.
– Так, так, – повторила Лена.
– А что у вас сегодня было, Лена?
Она опустила голову и вытянула дудочкой губы. На мгновение стала похожа на улитку.
– Неудачно?
– Нет, нет, почему же, – и она, пригладив растрепанные плюшевые волосы, попыталась закрутить их на затылке. Узел тут же распустился. Она кивнула:
– Добже.
А он сделал вид, будто не понимает по-польски.
– Хорошо. Мы были в лагере, – сказала она. – Сегодня днем, после футбола.
Теперь кивнул он. Вчера, накануне товарищеского матча, мальчики-немцы до полуночи пили тут, в баре, текилу и заговаривали с польскими девчонками, обращаясь к ним «огорка!». Словечко они, должно быть, подхватили во время обеда. «Огорка!» – очень похоже на женское имя, но значит «огурец». Священник у стойки бара все это видел. «Смотри-ка, они сюда, пока не помрут, так и ходят», – сказал вчера вечером один из мальчиков, а другой ему: «Эй, так это же священник».
Сделал вид, будто не понимает по-немецки. Тут мальчики притихли и стали бросаться картонными подставками для пива, нагнув головы. Почему? Он мог себе представить.
– Счет «шесть – один». Поляки выиграли, – сказал он.
– Да, знаю.
– Вы ведь собирались писать?
Она засмеялась.
– Точно, это вы и подозревали, – произнесла она и надолго вперилась взглядом в точку между его глазами. Пока он не коснулся лба.
– Между прочим, днем я была в лагере с проигравшими и с телевизионщиками из «Спорт-шоу», – сказала она.
– И что?
– Мальчики натянули на глаза бейсболки, больше ничего.
Лена взяла бокал, чтобы пересесть за столик на потертое красное коктейльное кресло, которое как раз освободились. Кресла списала гостиница «Глоб», и они когда-то три дня простояли под дождем на автостоянке перед входом. Священник заметил и это, проходя по городу. Лена двинулась через зал по диагонали. Он за ней.
– Вы знакомы с Элой Пастернак?
– Вела экскурсию?
– Да. В белом плаще и черных замшевых туфлях. Выглядела, как маленькая белая палатка.
– И больше вы ничего не заметили?
– Я стояла рядом и обратила внимание, как изменился ее запах, когда она рассказывала, что двойная колючая проволока была под током и в первую очередь женщины…
Лена запнулась. Обернулся, потому что она посмотрела на дверь.
– И еще, – продолжала она, – в музейных витринах лежат только седые волосы. Значит, у молодых волосы тоже были седые. – И она вопросительно на него посмотрела. Потом взгляд стал жестким: – Впрочем, неважно. Все равно их надо вернуть.
– Волосы?
– Мертвым. Они принадлежат им, – сказала и снова на дверь посмотрела, когда та открылась.
– Что? – начал было священник, но запнулся. Вошел юноша, который вчера подобрался так близко к Лене, а сегодня утром с избалованным видом западного человека стоял у ворот. На мгновение Лена сделала вид, будто интересуется телевизором и музыкальным шоу. Потом глянула на священника. В лице ее читается попытка самоутверждения. Под глазами слегка припухло, будто она и гневна, и печальна.
– Вы как раз хотели рассказать, – проговорила она, – что вы тут вообще делаете, если вы – баран, если вы не видите дальше…
Показал точку между глазами, пальцами щелкнул.
– Очки для бараньей рожи, пожалуйста, – ответил.
Засмеялась. Значит, понравилось. Значит, он ей понравился. И именно в этот момент избалованный юноша уселся на спинку ее коктейльного кресла и погладил дерево под тканевой обивкой. Темно-синие широкие штаны со множеством молний, а свитер с капюшоном по-прежнему завязан на бедрах. У священника в голове мелькнуло, что Лена и молодой человек почти одинаково одеты, хотя она лет на десять его старше.
– Мой знакомый, – представила молодого человека.
И прижалась прямой спиной к засаленной спинке кресла. Вид у нее более радостный, чем с полминуты назад. Может, за весь день этот миг для нее самый счастливый. Или за всю неделю. Или с давних пор? Справится, – так он подумал. Сумеет за два дня просто посмотреть город. О. для нее такое же место, как все остальные. Подставила себя, не подумав, что увиденное требует еще и понимания.
– Там даже лейка стояла на подоконнике, – сказала Лена.
– Где? – спросил молодой человек. Не ответила.
– А рядом, – продолжала она, – то есть рядом с лейкой, в клетке волнистый попугайчик.
– Где? – опять спросил молодой человек. Голос звучал равнодушно. «Неинтересно ему», – подумал священник.
– В лагере, – объяснила она.
– А, – ответил молодой человек.
Суббота. Священник стоит в вестибюле вокзала. Полоска полуденного солнца привела прямо к вокзальному ресторану. Взявшись за ручку двери, помедлил. Громкоговоритель сообщил о прибытии поезда из Кракова. Первый путь. Поезд Дальмана. Священник посмотрел в глубь ресторана. На стеклянной двери наклейки «Golden American 25» и «West», но внутри деревянные ножки стульев из прежних времен, тонкие и светлые, своими металлическими подковками выцарапывают на черно-белых плитках всякое неосторожное движение. Три женщины – с возрастом они стали между собой похожи – не поднимая глаз из-под белых колпаков, поднимают жестяные крышки со столовских котлов, нагружают едой тарелки. Кто-то хотел пройти мимо. Кто-то по ту сторону стеклянной двери кивнул священнику от стойки и поднял в знак приветствия чашку. Кто-то позади него насвистывал. Мотив оперетты из прежних времен. Ты черный цыган. Обернулся.
Тонкая фигура, белые носки, с прострочкой цвета бордо коричневые туфли, молодежного покроя джинсы, пояс на бедрах, а над ним намечающийся животик, чего не желает признавать великолепная золотая пряжка. Сверху черный пиджак из мягкой кожи, какой бы и женщина надела. Золотую цепочку под воротом рубашки видно издалека. Таков замысел. Цепочка уверяет в легкомысленной жизни, на которую у Дальмана не хватит ни смелости, ни безрассудства. Рубашка желтая. Вот прифрантился, и как ему не идет. Священник уставился в пол. Полоска солнца все еще на месте. По этой полоске к нему направлялся Дальман, уже рассуждая. И в очках.
– Здесь все изгажено голубями. Они гадят даже на детских площадках.
– Откуда ты знаешь?
– Ну, глаза-то у меня есть, – ответил Дальман, поставил чемодан, бросил сверху кофр для костюмов и протянул руку. Часы на толстом золотом браслете. Носит на правой руке. Какая-то мамаша провезла между ними детскую коляску. Только после этого священник сделал последний шаг к Дальману.
Хотел было сказать, что это воронье гадит, не голуби. Но Юлиус Дальман понес дальше:
– Вокзал теперь застекленный! Это зачем? Выходит, на это у них, у поляков, деньги есть, на это у них, у поляков, есть деньги, – возмущаясь, он проверял рукой кудри, держится ли еще утренняя прическа. Волосы у него выкрашены темным.
Они познакомились двадцать восемь лет назад. В Шверте. На курсах. «Участие мирянина в богослужении». Вел этот курс священник Францен, и он весьма неохотно пригласил актера-профессионала для развития речи. На Дальмана все сразу обратили внимание. Его отличали артистический голос и наружность, что произвело впечатление даже на актера-профессионала. Уже тогда он носил эти розовые и синие, и желтые рубашки, наглаженные мамой. Но у алтаря, когда он читал из Послания к римлянам без микрофона, с ним совершалось чудо. У алтаря великая беда Дальмана на миг оборачивалась его величием.
Вышли из здания вокзала. Что они значили друг для друга? Об этом никогда не говорили. Дальман идет не в отель, а к нему, спасая себя от вечного одиночества?
Позволил священнику нести багаж. Так у него обе руки свободны, чтобы похлопывать в ладоши.
– Вот так, и это через пятьдесят пять лет, – сделал три осторожных шага по вокзальной площади О., будто ступил на нетвердую почву. – Я тебе много раз звонил, Рихард. Таксист даже злился, что приходится останавливаться у каждой будки. Ты мало бываешь дома? У тебя в доме нет женщин? Хотя однажды какая-то взяла трубку. Полячка?
– Которая у меня убирает, а вот и моя машина.
Во Вроцлаве Дальман сошел с поезда, сел в такси. «Такси до Кракова, – рассказывал он, поспешая за священником. – Договорился с водителем о дневном тарифе, и тот вытащил карту 1939 года, вот так запросто, из бардачка. При этом машина у него была конца семидесятых, «мерседес» белого цвета».
На ходу Дальман говорил особенно громко.
С этим нанятым шофером он поужинал в гостинице, чуть отъехав от Рыбника, там же и заночевал. Лампа на ночном столике не работала.
– Польша, типичная Польша, – бубнил Дальман, – у немца нечистая совесть и та отлажена лучше, чем быт у поляка.
Даже на эти слова священник не обернулся.
А Дальман рассказывал, что он ни в одном городе так и не решился порасспрашивать о том, зачем приехал. Например, в Рыбнике. Он бы и рад зайти в гостиницу тех времен, однако название произнести не решился. «Гренцвахт». Только спросил, сохранились ли красные ковры там, в здании напротив?
– Так что на обратном пути собираюсь туда снова, – тем и закончил.
Священник, поставив багаж на землю, открыл Дальману пассажирскую дверь. Тот, не заботясь о багаже, сел и захлопнул дверь слишком резко. «Фиат» вздрогнул.
– А ты когда собираешься обратно? – священник затолкал Дальманов багаж на заднее сиденье.
– Когда тут все осмотрю.
– Но в лагерь-то ты не хочешь?
– В лагерь, – произнес Дальман, – в лагерь. Боже упаси.
С места на стоянке священник тронулся задним ходом и увидел своего пассажира сбоку. И не положил руку на спинку соседнего сиденья, как обычно делал, когда ехал назад. Дальман прижал к боковому стеклу указательный палец с женственным ногтем.
– А вон там мы жили, вон там, напротив вокзала.
– Где?
– Там, где открыта дверь в коридор.
Поехали дальше. Дальман закурил сигарету и посматривал на священника так же, как смотрел на трехэтажные краснокирпичные дома поселка. На один из тех смешанных жилых кварталов, где уже далеко не все бедны.
– Сегодня после обеда я покажу тебе город, – сообщил священник. Выхлопная труба «фиата» давала о себе знать довольно громко.
– Отлично. Знаешь, как я люблю путешествовать! – вздохнул Дальман, и в этот момент священнику привиделось, как он, вечно взнервленный, носится по всем концам света со своей сестрой Хельмой. Оба неподходяще одеты. От обоих провинцией так и несет.
– А что с ней?
– С кем?
– С Хельмой.
– У нее начался флебит.
Пока священник парковал «фиат» возле дома, между его бампером и бордюром тротуара прошел мальчик в зеленой куртке и в сапогах панка. Священник нажал на тормоз и вспомнил Лену, Лену, которая вчера неудачно парковалась на том же месте. Мальчик шагал, широко расставляя ноги. Весь мир у него под ногами. А впереди бежит на поводке старая такса, вопросительно оборачиваясь, в смысле – раньше мы в охотку гуляли.
Дальман выбрался из машины и пошел к соседнему дому, где белая фигура в саду.
А на дом священника вовсе не обратил внимания, хотя тот гораздо красивей. В нижнем этаже окна забраны белыми витиеватыми решетками, к парадному пять широких ступеней ведут полукругом как на свадебном торте, дверь матово блестит, но тяжелая, деревянная, а над ней желтый фонарь и ангельский лик. Штукатурка гладкая, чистая, хотя и не свежая, и в уходящем полуденном свете обычная охра отливает лимонно-желтым. Водосточный желоб выкрашен ярко-красным. Две березки зеленью задевают за стену. Священнику нравилось, когда в непогоду они стучатся в окно.
– Ты хотя бы не здесь живешь? – Дальман возвращался решительным шагом человека, хлебнувшего лишку. – Хотя бы не здесь?
– Ты имеешь в виду…
– Я имею в виду, не у гипсовой бабы? Это же бывшая штаб-квартира гестапо! Я там спать не могу из-за шума!
– Какого такого шума?
Позднее утро субботы. Движения на дороге почти нет. Стояли друг против друга, между ними автомобиль, оба у задних дверей «фиата». И вдруг наклонились, чтобы взять багаж с заднего сиденья. Подняли глаза и оказались лоб в лоб слишком близко, чтобы друг друга увидеть.
– Я живу в доме рядом.
– В этом, за березами?
– Да.
– Тогда прошу прощения, – заключил Дальман.
Священник взглянул на часы.
Суббота, день, начало четвертого. И небо нежное, и земля бледнее, чем утром. Жизнь, нехитрая песенка. Они с Дальманом стояли на мосту, перекинутом через Солу на пути из лагеря в город. Вдоль берега шла Лена, и не одна. Священник поднял было руку, но на полпути задержался, изменил направление жеста и не помахал, а взял Дальмана под локоть и повлек за собою. Стал подталкивать его, тараторившего без умолку, через улицу и тротуар напротив, вниз, к другому берегу Солы. Где не было Лены. На этой стороне трава серая и замусоренная.
– Что ты вдруг побежал, будто тебя муха укусила? – удивился Дальман.
Священник издалека увидел, как навстречу идет Лена, увидел Лену и избалованного юношу. Они гуляли среди коз, привязанных к колышку, в густых одуванчиках вдоль берегового откоса, направляясь к мосту. Молодой человек сорвал одуванчик и зажал между зубами. Шел к Лене так близко, что ей то и дело приходилось сходить с тропинки.
– Здесь, на Соле, мы раньше купались. Ведь то, что мог Хёсс, мы тоже умели, – сообщил Дальман.
– Хёсс тут тоже купался?
– Ты разве не знал?
– Знал, конечно.
– Тогда зачем спрашиваешь? И Робби Больц тоже.
Старые синие школьные автобусы, грузовики и мотоциклы грохотали за ними по латаной мостовой к центру О. В Польше большинство машин выкрашены в красный. Западный красный.
– Именно здесь, – уточнил Дальман, показывая на заросли крапивы у берега. Где-то за горизонтом Сола впадала в Вислу. Дальман нацепил солнечные очки, одной рукой уперся в бедро, а другой пытался залезть в карман, но джинсы были ему узки. Через прибрежный кустарник пробиралась серая кошка.
– А кто такой Робби Больц?
– Мой школьный товарищ, – Дальман показал на кошку. – Правда, старше нас всех. Дважды второгодник. Меня он называл Забыватель физкультурной формы.
– Как-как?
– Называл Юлия, или Забыватель физкультурной формы, то так, то так, – пояснил Дальман. – Это был рано повзрослевший мальчик, и имел он все, чего обычно не имеют дети. Звучное имя, длинный темный плащ, белый шарф и сексуальный опыт. По слухам, успел уже и переспать с кем-то, здесь же, на берегу. И лет ему было примерно тринадцать.
– И он об этом рассказывал?
– Да, мы как раз на берегу сидели, поплавав. Мне тогда было лет десять.
– А ты что?
– Говорю же, мне было десять. Пойдем-ка дальше, – предложил Дальман, оставаясь на месте.
– Отец этого Робби, – продолжал он, – был лейтенантом полиции. Вот откуда взялись темный плащ с белым шарфом. Поздней осенью сорок четвертого его родители едва ли не первыми перевозку мебели заказали.
– А твои?
– Мой отец вообще-то был сельский жандарм, и словил трех-четырех польских простофиль, мелких воришек. Но зато у него были большие собаки. Вот с собаками он в лагере и работал.
– А ты?
– В жизни я не гордился собой больше, чем в те времена, когда был здесь немецким ребенком, – тихо вымолвил Дальман. – Знал, что ничего лучше в моей жизни не будет.
Движение на мосту на несколько секунд прекратилось, хотя поблизости не было светофора. Тишина нежданно опустилась на берег Солы. Тишина, которая прислушивалась. Мимо порхнула бабочка. Не какая-нибудь красивая, а белая и грязноватая, вроде моли.
– Каникулы в усадьбе Липовских, – добавил Дальман. – Летом.
– Где это?
– Там, где Здуньска Воля.
– Где-где?
– Ай, ну у Лодзи! – воскликнул Дальман и хлопнул себя по ляжке. И взялся рассказывать. Дальманов дядя был бургомистром Здуньской Воли. С сорок второго по сорок четвертый. Семья жила в усадьбе Липовских, на краю городишка, в конце аллеи, таившей загадку. В темно-зеленой тени подъездной дороги любой гость от любопытства вытягивал шею. А потом оказывался перед усадьбой. С фасада – скромный дом. Но задний фасад его открывался подковой в парк, нет, превращался в фасад дворца. Там даже у детишек были собственные слуги. И у кузины Дальмана – тоже. Красивая она девочка, но застенчивая очень. За стаканом сока, рассказывал Дальман, сама ходила на кухню. Лето в усадьбе всегда было жарким и долгим, как это бывает только в детстве, и трава такая высокая, что до сих пор смыкается в памяти у них над головами. А локоны у кузины золотые, продолжал он. Иногда им разрешались конные прогулки, иногда даже далеко, до красной фабрики, только она не фабрика больше. И так тихо там, на пыльной площадке под палящим солнцем, так тихо, наверное, потому, что было когда-то очень громко. Тишина, наверное, тому причиной, что они, – придерживая поводья и с седла не спрыгнув, – только за руки молча держались, и ведь это только одно мгновенье из всех прошлых мгновений. Миг, достигавший глубины сердца на пыльной фабричной площадке. А когда они возвращались, то коней пускали шагом, и по-прежнему держались за руки, зажмурив глаза.
– Вот так, – Дальман снял очки и закрыл глаза, вспоминая. – Из-за комарья.
Священник решил уйти с берега, вернуться на мост, на дорожку для пешеходов. Полез вверх, помогая себе обеими руками. Потом протянул Дальману правую руку, потому что тот скользил на кожаных подметках. На мгновение увидел со стороны и себя, и его. Смешно они выглядят? Медленно шли к городу, шли хотя и рядом, но между ними хватило бы места третьему. По мосту. Тень решеток, тень перил лежала на асфальте. Башня костела на другом берегу реки Солы острием упиралась в предвечернее небо. Там-то и пропал силуэт Лены, возле виллы Хаберфельд, напротив храма.
– Но однажды… – заговорил Дальман. И его шаги стали мельче, а потом он остановился, как всегда, когда пытался сказать о важном.
– Так что было однажды? – потянул его за рукав священник. И подумал: «Мы действительно забавная пара».
– А то, что однажды нас со всем ее классом повели на пепелище, – откликнулся Дальман. – Пепелище в центре города, я точно помню, – и опять остановился. – Это было в то самое лето, – продолжал он. – Лето перед тем, как пришла Красная Армия и, наверно, кто-то из товарищей в детской у моей кузины нашел тоненькую солдатскую Библию, а заодно и ее собственные стихи. Мы все уже давно уехали. Хочешь знать, что за стихи?
– Да, да, только идем дальше.
– Любовные стихи одному барану по имени Карл, – не унимался Дальман, немного отставая от священника. – Кузина держала его при себе, как собачку. Тот провожал ее по польской дороге через польский лес в немецкую школу. Ждал на улице, на заборе, и не пил, не ел, пока она не выйдет и не отдаст ему остатки школьного завтрака. Как влюбленная парочка.
– Так что же с пепелищем?
Дальман опять остановился, но молчал. Проехал синий автобус, подскочив на стыке бетона с булыжником мостовой.
– В самом центре города. Пепелище. Ведут нас туда. Погода хорошая и теплая, первый день каникул. Да, я это точно помню. Все помню. Точно. На пепелище, – продолжал Дальман, медленно шагнув вперед, – нас построили парами и повели. Мы расселись наверху на трибунах, смотрим вниз. Там на крюках висели люди. Так вешают картины. Дома мы про это рассказали за столом, и я помню, как сидели рядом против света мой отец и мой дядя – широкие головы, короткие шеи. Мрачные, будто два надгробия, прижатые друг к другу.
Дальман прибавил шаг.
– И что же?
– «Что это вы такое говорите?» – спросил дядя и полез пальцем за голенище. Он всегда так делал, чтобы выиграть время. «А ну-ка, отцепитесь друг от друга», – сказала тетка, и раз – по рукам. «Завтра мы уезжаем», – обиженно сказала мама. Хельма вместо того, чтобы возразить, теребила кончики волос. Она бы и рада остаться, а Зайка, моя младшая сестренка, опять разрыдалась. Отъезд для нее всегда подходящий повод. И вот на следующий день мы стоим в прихожей усадьбы Липовских. Служанка, вытащив чемоданы, пооткрывала все двери, так что ветер носится, как по коридору. «Вы не на вокзале, – кричит дядя, – двери закройте!» А я говорю, вот смешно – вокзал в коридоре, вот смешно-то, но говорю, только чтобы не заплакать. А погода на улице прекрасная. И подъезжает машина. Все, конец, – подытожил Дальман. – Вон, смотри.
Указал пальцем на темно-серые, поросшие деревьями развалины у реки, а деревьям тем больше полувека. Что-то было не так с этими развалинами. Священник наблюдал за ними с тех самых пор, как он поселился в О. С годами они разрастались, вместо того чтобы разрушаться. Похоже на заблуждение души – как с людьми, которые тебе близки. Когда уходят, то становятся ближе. А где же Лена? Повернул голову.
– Ага, там руины виллы Хаберфельда, – пояснил Дальман.
– Да знаю я.
– Еврейская вилла. Хаберфельд производил шампанское, слышал ты об этом?
– Да, шампанское.
– М-мм, – промычал Дальман, и было неясно, задумался ли он о евреях или о вкусе шампанского. Свернули в бывший еврейский квартал. У какого-то дома Дальман остановился, подошел к двери. На первом этаже горела неоновая лампа, освещая отвратительным светом отвратительный коврик. Ладонью тронул цветное стекло на входной двери, читая список жильцов на табличке.
– Что ищешь?
– Здесь жила Кассиг. Мария Кассиг. Она быстро перешла из одной социальной группы в другую, потому что торговала сладостями и свечками. Вот уж ей было что предложить для обмена. А когда дела пошли лучше, то она тут же заказала новую челюсть. И вверху и внизу по два лишних зуба. Говорила, так разглаживаются морщины. Между прочим, на этот город упали всего-то три бомбы.
– И одна из них на Марию Кассиг, верно? – поинтересовался священник.
– Не пори ерунду. Одна на склад в главном лагере, другая на вокзал, а третья – вон там, на сортир в кинотеатре, как раз когда фильм крутили.
Дальман показал на пустой павильон неподалеку от заваленного обломками пустыря у виллы Хаберфельда. За окнами висели, небрежно собранные по сторонам, безжизненные розовые шторы.
– А какой фильм?
– Ну, этого я не знаю, – отозвался Дальман. – Для кино я был слишком мал.
Теперь Дальман шел впереди по направлению к Рыночной площади. В витрине магазина хозтоваров «Вейски Дом» женщина в блестящих чулках оформляла витрину, расставляя стеклянных зверюшек и скороварки. Поправила рукой волосы, когда священник и Дальман задержались у магазина. Здешние женщины любили священника. В автобусе часто старались уступить место или угостить какими-нибудь леденцами. В О. его все знали, потому что он, немец, служил мессу по-польски. Неплохо он тут прижился. Поздоровался с женщиной в витрине, и та, вставая с корточек, задела белую тюлевую занавеску. Что-то ему померещилось, но невнятно, так как Дальман уже схватил его за руку. Как в темном кинозале, когда охватывает ужас.
– А вон там «Вуппертальский двор»?
– Это ратуша.
– «Вуппертальский двор», – повторил Дальман и сдвинул ноги. – Принадлежал Панхансу. После войны господин Панханс в Вуппертале открыл новый «Вуппертальский двор», рядом с Оперой. Мы все – папа, мама, я, Хельма и Зайка – жили тут первое время, пока не освободилась квартира напротив вокзала.
– Там, где открыта дверь в коридор?
– Вот что ты замечаешь?
– Вот что я беру себе на заметку.
В этот момент Дальман развернулся и заявил, что внутрь – ни в какую. Побледнел, закапризничал. Под лучами дневного солнца священник мог бы пересчитать все лопнувшие у него сосуды щек и носа, когда бы их было не так много. Почудилось что-то Дальману? В самом ли фасаде, в пустом ли флагштоке над дверью, в зарешеченных ли окнах подвала? А может, в звуке шагов по коридору? Они и на улице отдаются, шаги. И кто его знает – сегодня они отдаются или прежде.
Дальман двинулся вперед, заявив священнику, мол, если идешь, то сам. «Хочет побыть один», – отметил священник и пошел. Стоя на одном и том же месте, они вдруг оказались далеки друг от друга.
Коридоры в ратуше выстелены линолеумом. От двери до двери стоят для посетителей скамейки из светлого дерева. Ему в голову никогда не приходило, что цифры на дверях у кабинетов точно такие, как в старых гостиницах. Он поднялся вверх на один марш, чтобы убить время, пока внизу приходит в себя Дальман.
– Вполне вероятно, что это бывшая гостиница. Вполне вероятно. А ты-то откуда знаешь?
Голос слышался с площадки второго этажа. Вместо ответа – жужжание фотоаппарата. Кто-то менял пленку. Внизу у лестницы, где священник все еще стоял, рельеф из белого мрамора: мужчина во фраке ведет женщину под фатой вверх по белым ступеням. «Регистрация браков», – гласил по-польски указатель.
– Ты что, не заметила? – снова раздался голос избалованного юноши. «Тщеславный мальчик, и сам изумлен масштабами своего тщеславия», – подумал священник и тут же устыдился этой мысли.
– Да ну, случайность, – услышал он Лену. – Я вообще его не заметила.
– Он тебя точно хочет покрестить.
– Я и так крещеная.
– Тогда для святого отца он слишком уж набивается.
– Ну, не знаю.
– Точно, набивается. К тому же с ним еще один.
– Тоже священник?
– Нет, так, пустое место. Таскается за ним целый день.
Дальман, когда священник вернулся к нему, стоял с закрытыми глазами в лучах солнца на Рыночной площади, ни к чему не прислоняясь.
– Пошли.
Теперь в сторону Нового города по широкой улице, двумя полосами устремлявшейся к еврейскому кладбищу и русскому рынку. Кончиком ботинка Дальман постучал по мостовой:
– Все Гиммлер, все это Гиммлер построил.
На углу киноафиша. «Independence Day»[2]2
«День независимости» (англ.).
[Закрыть]. Он за плечи подталкивал Дальмана направо, к центру. У первого же дома тот схватился за угол стены.
– Полякам это нравится, – заявил он. – Поляки, когда война кончилась, строили и дальше по немецкому плану.
– В самом деле?
– Гиммлер, то-то и оно, – заключил Дальман и обернулся.
Деревья цветут белым цветом, а за одноэтажными домами развешано белье, темное и грубое. Стены грязные и бурые, двери в основном открыты. Оконные переплеты выкрашены яркой белой краской.
Детишки катались на велосипедах вокруг зеленых кладбищенских оградок, издававших какой-то пряный аромат. Машины тут почти не ездили, а вот повозка с лошадьми никого бы не удивила.
– Ты понятия не имеешь, – выпалил вдруг Юлиус Дальман и откинул голову.
– С кем ты разговариваешь?
– Ты, ты понятия ни о чем не имеешь! Правда, ты и всегда был таким.
Дальман пошел мелким шагом и посреди улицы вытащил свою элегантную серебряную фляжку.
Когда стемнело, священник отправился на обычную свою прогулку без Дальмана. Тот прилип к огромному черно-белому телеэкрану со старым советским фильмом. Уверял, будто старые фильмы уютны, и поэтому он останется дома. Сначала поискал цвет, нажимая немногие кнопки, потом удовлетворился беспокойным мельканием серого и серого, в иных местах обретавшего медный оттенок.
– Уютно, – вздохнул Дальман еще раз, когда священник вышел из дому.
Священник опять оказался у стойки бара «Эль Пако». Лена вошла. Даже не поворачиваясь, заметил. Кожа вокруг глаз бледная, немыслимого белого цвета – вот что видно в зеркале над стойкой. Так она в свой приезд не выглядела еще ни разу. Встала вплотную к нему. Пусть это и казалось интимным, но было, наверное, всего лишь одной из ее театральных привычек. Поисками тепла в очереди буфета. А в Германии она такая же? «Германия», – вспомнил он. Пока его отсюда не отзывали, но епископ уже приглашает на беседу. «В ближайшее время», – так велел написать епископ. Значит, при первой возможности надо съездить. Он пробыл в О. дольше других священников, и ему тут было неплохо. Время, проведенное в О., он сочтет удачным периодом жизни, это уже ясно. Потому что О. – ворота в Галицию. Галиция! Земля его обетованная.
– Отчего вы все время смотрите в сторону? – Лена положила маленькую руку на стойку. Яна поставила пиво между ним и ею.
– Послушайте, господин пастор, – проговорила Лена. – Разговаривая со мной, не смотрите, пожалуйста, в сторону и вверх, где «Лаки Страйк». На рекламу вы сможете любоваться с завтрашнего дня целыми вечерами, долгие годы. Когда я отсюда уеду.
– Вы имеете что-то против духовенства?
На стойке белые цветы – для усталой Яны, для ее ленивого взора, для долгой ее улыбки.
– О, знали бы вы, – ответила Лена.
На пути сюда он увидел, что на парковке перед его домом отцвели каштаны, а под ними на скамейке, поближе к собственной двери, сидели две старушонки. Две девчонки в крошечных юбках стояли в телефонной будке и пытались поделить между собой трубку. Все парами, один только он. Пора уходить.
– Я пошел.
– Останьтесь-ка, господин пастор, – потребовала Лена. – Я хочу вам поисповедоваться.
– Слушаю.
– Вчера вы спрашивали меня про лагерь.
– Да.
– Позавчера вы меня спрашивали, что мне тут нужно.
Лучше снова ответить «да».
– Вы сказали тогда, будто я пишу. А сказать вам, как бы я написала, если б могла? Мне придется просить кого-нибудь, чтобы написали.
– Кого?
– Людвига, наверное. Но рассказать я могу и сама.
– Пожалуйста, – вежливо согласился он и посмотрел на часы, чтобы не спрашивать, кто такой Людвиг. Не тот избалованный юноша, уж в этом он уверен. Таких зовут не Людвиг, а Бьерн, Ларс, Леон, Стеффен или вроде того.
– Когда я была в лагере с маленькими футболистами, – начала Лена, – я слышала, как они говорили: «Мы приехали сюда играть в футбол. Мы приехали ради удовольствия». И я видела, как они смотрели на израильских школьников, у которых тоже была экскурсия. Как они смотрели на девочек, на их юбки в пол и волосы длинные, а выглядели те воинственнее, чем мальчики в кипах под флагом со звездой Давида. «Что у них такое на голове, – громко спросил меня наш вратарь. – Что за грубая крючочная вязка?» И им всем после утреннего проигрыша было весьма неприятно, когда маленькие израильтяне вышагивали под своим флагом, будто вся земля под ногами – их земля.