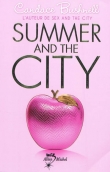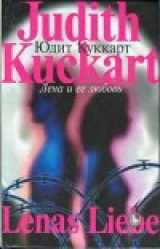
Текст книги "Лена и ее любовь"
Автор книги: Юдит Куккарт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Коридор
Адриан по-польски спросил у таксиста огня. Закурили и пошли через улицу у вокзала и гостиницы «Глоб». Нежилой дом. Дверь в коридор открыта. Вошли.
– Точно, – заговорила она, – это здесь. Здесь он жил. Лет десяти или около того. Вот, представь себе.
Тронула выключатель и удивилась, что загорелся свет.
– Кто?
– Юлиус.
– Кто такой Юлиус? Твой друг?
– Юлиус – это Дальман.
– Дальман, у которого ты живешь?
– Именно.
– И мы из-за этого здесь посреди ночи?
Промолчала.
– Эй, что не отвечаешь?
Лена разглядывала истертые каменные ступеньки. Зачем она тут с Адрианом? Адриан не Людвиг. Адриан – некая условная единица, которой Лена позволила разместиться между нею и Людвигом. То ли проверка, как далеко можно зайти. То ли легкомыслие и озорство, чтобы жизнь не застаивалась. Адриан взял ее за руку и потащил вверх по лестнице. Ступенька за ступенькой, теряла она Людвига. Сердце колотилось. И говорило, мол, будешь так делать – ни к чему не придешь. Мол, это не жизнь – на месте драмы разыгрывать драму, отрекаясь от себя самой. Это не жизнь.
Адриан притянул ее к себе. Не научил его никто, что надо бы ждать, пока женщина сама сделает первое движение. Он и в начале вечера был не в меру тороплив.
Лил дождь. Для начала три больших пива. Потом поездка в такси на дискотеку в соседнем поселке, два танца быстрых, один медленный, дважды по такому набору среди девочек в белых блузочках и парней с плоскими затылками. Хотелось танцевать, он придерживал ее за талию и прижимал к себе, она чуть изогнулась и опустила руки, ничего не говорила до тех пор, пока они, в такси, не обменялись несколькими словами, по видимости пустыми, по сути интимными. Вышли у вокзала, где ее гостиница, и поплелись через пешеходный мостик, высоко над рельсами, над вагонами коричневыми – те спали, над вагонами синими – те бодрствовали, над фонарями на пустых платформах. Перила мостика почти на высоте их плеч, а в будке среди доброй дюжины цветочных горшков спит дежурный у своего пульта. Кулак на кулак, уперся усталым лбом. Впереди во тьме деревня Бжезинка.
– Вон там ты поселился?
– Да.
– Как деревня называется?
– Бжезинка.
– По-немецки Биркенау. Ты живешь в Биркенау?
– Да, у одного знакомого. Я на пару дней.
Держась друг от друга на расстоянии, шли мимо маленькой фабрики. Пахло свежевыстиранным бельем. В домике горел желтый свет, но стул сторожа пустовал.
– Нам нужна зажигалка.
– Да.
– Тебе нужна подружка.
– Да.
Сделав шаг в сторону, чтобы увеличить расстояние между ними, она смотрела в ночь.
– Все женщины, какие мне попадались кроме тебя, настроены платонически. Или у них болит спина, – с удовольствием поведал Адриан.
Снял свитер, завязал узлом на бедрах. Она прислонилась к ограде.
– Иди сюда, – сказала и, легко оттолкнувшись от ограды, повторила: – Иди сюда, – и шагнула к нему. Заплутала в его лице, губами попала не в щеку, а в угол рта. Вот недоразумение. Он держал ее крепко, грубовато, по-юношески. Но ей понравились и быстрый натиск, и страх ее потерять.
– Ты завтра уезжаешь?
– Да, завтра.
– Тогда я хочу… – говорил и говорил дальше, она не слушала.
Два тела, не успевших заранее сговориться, повело друг к другу. И тут в ночи на мостике показался человек. Шел прямо к ним. Адриан бросил смятую сигарету, достал новую.
– Дадите прикурить? – обратился он к прохожему по-польски. Лена тихонько повторила эти слова, чтобы заговорить на чужом языке. Прохожий произнес что-то вроде «увы, нет» – Лена повторила и это. Отвечая, пожал плечами и расправил их только тогда, когда шагов через двадцать стал сворачивать за угол.
– Что он сказал?
– Что не курит. Ладно, пошли назад.
– Пошли.
– Там уж прикурим у кого-нибудь.
Вернулись через мостик, возле «шкоды» обнаружили таксиста с серебряной зажигалкой. И вот она решила показать Адриану тот коридор. Раньше об этом и не думала, а тут рассудила: «Раз уж мне грустно, так все и будет хорошо». Он тянул ее по лестнице вверх до первого окошка, где в немецких многоквартирных домах обычно стоят цветы. Но в этом доме теперь ведь никто не жил. И только коридор мог бы поведать на одну историю больше.
– Я здесь один раз уже была.
– Неправда.
– Была, – настаивала она, слыша внизу шаги в мягких туфлях, шаги, стремившиеся через потайной коридор к той части пространства, которую Людвиг называет именем Лена.
– Была, – повторила она. – Я была здесь сегодня днем.
Наверное, Лена просто боялась вернуться сюда ночью. Всю жизнь она боялась коридоров и не могла найти объяснение этому страху. Не потому ли она взяла с собой Адриана? Главное, он здесь. На свой нехитрый лад и близко от нее. Вот так-то.
Адриан устроился на выступе стены под окном. И целовал ее пупок, чтобы расцеловать те мгновенья, когда остро хотел женщину. Ее пупок тут вовсе ни при чем. Она закрыла глаза, и свершилось то, что свершалось всегда, если прикосновение ее волновало. Возникали образы прошлого, и ничем не связанные с происходящим ныне. Покрепче зажмурила глаза, чтобы снова зацвели магнолии перед старой киношкой. «Красивый пейзаж», – подумалось ей.
– Повернись. И наклонись, – это сказал Адриан, не Людвиг.
– Тут? Не буду! – но позволила притиснуть себя к перилам. Ему двадцать четыре, Дальман жил здесь пятьдесят шесть лет назад, она живет на свете вот уже тридцать девять. У входа горел свет, бросая вверх слабый отблеск. Но пространство вокруг, казалось ей, черным-черно. Хотела сказать, мол, мы тут не одни. Да только Адриан в том состоянии, когда мужчина и на смерть пойдет очертя голову. Представила, как оно будет после. Вот бы, закрыв глаза, подумать про это в гостиничном номере, но не всерьез, вот бы лежать, встречая согласием последние картинки перед сном, все вообще встречая согласием под защитой шершавого и жесткого гостиничного белья, под защитой немытого окна на сторону вокзала и гардин цвета бычьей крови, с упорством вцепившихся в угол, чтоб только не закрываться, вот бы согласиться и с тем блондином за спиной, с его опрятным запахом севера или душ-геля, доселе ей не известного. Повернула в сторону голову, будто в гостиничной койке, на подушке с белой наволочкой – тонкой, но ветхой. Крепко держалась руками за перила и смотрела вниз. Развела руки шире.
Ведь перила-то деревянные.
Он положил на них сигарету, та и дымила почем зря. Лена потянулась вверх, встала на цыпочки. Движений ровно столько, чтобы казались ответом. И замерла. Как быстро все кончилось. И головы к нему не повернула, толкнувшись грудью о перила.
Свет внизу горел черным.
Здесь жил Дальман. А раз жил, то здесь его место. А раз она жила у него, то он и рассказывал. Создавал образ этого места. Потому она и пришла сюда вновь. Сначала это был образ, созданный Дальманом. Его воспоминания. Теперь они – ее воспоминания. Ее черно-белые откровения. Она вернулась, чтобы ночью все разглядеть. Но что увидишь в темноте? Абсурд! А ведь так и есть. Про новую фотопленку забыла, зато с ней сейчас Адриан.
Первый кадр. Мужчина и женщина.
Второй кадр. Мужчина, женщина и ребенок.
Грудью она лежала на перилах, и человек за ней – мужчина, и она – женщина, и только ребенка нет.
Третий кадр. Мужчина, женщина, ребенок. Давным-давно, еще в школе, видела она эту фотографию, а вчера увидела снова – в лагере, в музее. Теперь фотография у нее в голове. Теперь она смотрит на фотографию вновь. Мужчина, женщина, ребенок. А что тут понимать? Это факт. Так вот оно было. Так. Даже если и нечего понимать, смотри и смотри. И она смотрела. Фотографировала взглядом. Третий кадр стал четвертым. Процесс, происходящий в глубине души. Адриан все там же, позади.
Четвертый кадр. Мужчина, женщина, ребенок уложены в штабель. Затем, чтобы лучше горели?
Пятый кадр. Снег падает на штабель.
Шестой кадр. Снег падает на снег.
Как быстро все кончилось. Повернись она, так могла бы показать снимки Адриану, обсудить технические детали. С ним можно. Говорить быстро и по делу, одновременно успокаиваясь. Одно дело – думать, другое – вспоминать. Не спутай, от этого сходят с ума.
Не обернулась. Считала кадры дальше и вдруг поймала себя на том, что занята подсчетом его движений. Счет – разумный процесс. К чему-нибудь, да приведет. Досчитала до ста двадцати, не то до ста сорока, тут он и кончил. И мил ей в этот миг Адриан: еще тут, но уже вспоминается. Хорошо, что тут. Ведь страха она боится больше, чем разъяренного быка. Улыбнулась, а сама рада, что Адриан не заметил.
– Когда ты уезжаешь?
– Завтра.
– Значит, завтра я тебя видеть не хочу.
Пошла вниз по лестнице, а его, наверное, тянуло на выступ под окошком, как вначале. Левую руку подняла на прощание, не обернулась и выключила свет. Улица пуста. В гостинице встретила Дальмана.
– Вы плакали? – спросил он ее под фикусом.
Потом на гостиничной кровати уперлась двумя кулаками в стену, а за стеной, в соседнем номере, какой-то человек тоже не спал и печатал на машинке. Так она сидела, справляясь со своими мыслями. Вдруг перестук клавиш за стеной умолк. И ей вспомнились слова: «Писать – значит поддерживать связь с Богом». Так говорил Георг.
– Эй, вы там, пишите дальше, – тихо промолвила она.
Спускается из своего номера, а священник и Дальман уже за столом. Изучают дорожный атлас. Завтрак в «Секване» – много мяса, яиц, маринадов и выпечки – подают на красных салфетках. Официантка юная и нежная. Завитки над ушами кажутся легкими, а склеены намертво. Белый марципан.
– Волосы? Вот так? – Дальман указывает на красотку. – Вот так? Вам не пойдет, Лена. Вид у вас слишком усталый.
Дальман касается ее головы, словно примеряя красоткину прическу. Лена отмечает, как нравится ему трогать волосы руками. Пахнет от него хорошо, на вид выспался. Священник выглядит как всегда, опять смотрит с Дальманом атлас. Прямо у гостиницы она на рядах покупает кило яблок – мелких, страшненьких, сморщенных и червивых. С торговкой обменивается напряженной улыбкой, раз поговорить не может. Потом отъезд. На переднем сиденье Дальман, сзади священник. Лена за рулем.
Деревья по сторонам дороги обрамляют дальнюю даль.
Это – я
Когда же она начала сравнивать себя и Дальмана как проверяют, подойдя к окну, расцветку ткани при дневном свете? Когда впервые ей пришла мысль, что Дальман прячет свою судьбу в обличье простой биографии? Дальман прячет О. в С.
А что скрываю я?
– Лена?
Как и вчера, Дальман сидит рядом с ней на пассажирском сиденье. Виден ей сбоку. Похоже, утренняя свежесть его лица объяснялась всего лишь покраснением кожи. После душа, например. За час езды она ушла бесследно. Дальман бледен. И она бледна, но по-иному.
– Лена?
Вот уже несколько десятилетий Дальман прячет О. в С. Она же скрывает С. в своем актерском существовании. Скрывает, что ей почти нечего скрывать. Что остается, то играет на сцене.
– Как-то вы неважно выглядите сегодня с утра, – высказывается Дальман. – А еще я хотел спросить…
Вздыхает. Пальцами правой руки проводит по боковому стеклу, как по клавишам. Пальцы наигрывают музыкальную фразу. Так он иногда начинал рассказывать, но только при включенном телевизоре или радио. Всегда мимоходом, всегда между прочим. Считает, видно, что под шумы мира никто не станет вслушиваться в его истории. Лена включает авторадио. Вот так он начал свой рассказ в рождественский сочельник, когда на телеэкране в ярких декорациях шел праздничный круглый стол.
Он, Дальман, с весны 1942-го и до Рождества 1944-го жил напротив вокзала в О. Первое время вагоны прибывали чуть не под окна квартиры, позже их стали подгонять к новой платформе, метрах в трехстах. «Далли-далли», польское «давай-давай», – ему слышны были окрики охранников, когда люди не сразу выпрыгивали из дверей вагона и не сразу растворялись в массе других. «Далли-далли» – после войны это уже любимая передача Маргарет Дальман. Ганса Розенталя, ведущего, она ласково называла Гансиком, как обычно кличут птичек в клетке. Тот был еврей. Выдумал он передаче заголовок «Далли-далли», вывез ли его откуда – этим Маргарет Дальман не интересовалась. Юлиусу было одиннадцать лет, когда 23 декабря 1944 года с матерью и обеими сестрами, Хельмой и Зайкой, он бежал из Польши в Германию. Хотел еще елку с собой прихватить. Но елка осталась при отце, одном из последних надзирателей в лагере по ту сторону реки. На вокзале в Лейпциге, где мать, Хельма, Зайка и он рыдали весь сочельник, а всю ночь ютились под вонючими одеялами у какой-то стены, Дальман впервые увидел неоновый свет. А потом он еще рассказал про Янину, польскую фройляйн Янину, официантку из казино на первом этаже.
Как же получилось, что теперь они ездят друг за другом, отрицая всякие причины и на вопрос «почему» отвечая себе словами «почему нет»? Дальман говорит, он отправился на старую добрую родину, а сам едет следом за своей квартиранткой. Она, квартирантка, утверждает, что отправилась в путь из-за футбола, а возможно – из-за одного футболиста, причем вовсе и не Людвига. Несмотря на то – или именно потому! – что все это авантюра, а самой ей для жизнеутверждения непременно нужна жизнь тайная и хаотическая. Или она отправилась вслед за тем, что рассказывал о былом Дальман? Кто рассказывает, тот задает вопрос. Возможно ли, что отныне с ней все его вопросы? Багаж Дальмана задержался в О., и Лена намерена его принять. Хочет знать, что за ноша такая вверена Дальману. И найти объяснение: отчего же собственная ее жизнь так порой непомерно тяжела? Тяжела, оттого что пуста. А не собирается ли она позаимствовать кое-что из Дальманова груза и жить дальше, одолжив впечатления? Даже если они не впору. Нарядившись в чужое, познаешь то, чего бы сроду и не заподозрил. Уж это ей известно. В конце концов, она ведь актриса. А что священник? Говорит, просто едет вместе с Дальманом. Но Дальман-то в его жизни роли вовсе не играет.
И вот эта компания из трех изолгавшихся попутчиков движется в красном «вольво» навстречу Людвигову мотоциклу. Ах, Людвиг. Любит? А она сама? Любит только ее? Любит, или она заставила его влюбиться? Девочкой Лена говорила, будто умеет колдовать. Захочет стать красивой – и станет. Наколдует. Загадает желание – и станет желанной. Но для Людвига она готова быть и любой другой. Даже третьей в списке, чтобы он сказал: «Наконец-то мы вместе, без тех двоих».
– Ну как, вы дозвонились вчера ночью Людвигу? – вот что хочет спросить Дальман.
Девушка – ноги кривые, юбка лиловая – идет вдоль дороги по склону. Лена бросает взгляд в зеркало: не девушка, а потемневшая от загара женщина с ввалившимся ртом.
– Пожалуйста, возьмите правее, остановите на минутку, – просит Дальман. – Тут так трясет, что карту не разберешь. Мне уже дурно становится.
А как оно было, на том пути? Ей тоже не раз приходилось останавливаться. Под конец еще и в какой-то промышленной зоне. Под пальцем своим на карте разглядела, что вот-вот – и она там, в О. Только проехать по этой узкой дороге на юг. Так и сделала. И добралась. Вот она уже там, и все стало совершенно другим. Раньше она могла говорить об О. Теперь остались только три слова: это место есть, место это есть, есть это место.
– Где мы сейчас? – обращается к ней Дальман.
– Скоро Здуньска Воля.
Дальман там бывал, она знает. Сам рассказывал про усадьбу Липовских. И про прелестную свою кузину – дети совсем, а как близко склоняли головки над тонюсенькой солдатской Библией.
Так кем же был распят Господь?
Евреями, – толковала кузина, – евреями.
– Разрешите, я выйду на минутку? – вступает вдруг священник.
– А что такое?
– Прошу вас.
– Зачем?
– Я быстро, – уверяет. – Очень быстро, – и он почти на улице.
Лена находит для машины местечко у стройплощадки. Мотор не выключала, и вот он, священник, уже переходит Рыночную площадь.
– Ну, смех, – фыркает Дальман. – Как будто к дереву не мог подойти. Все равно его здесь никто не знает.
Однако черная сутана развевается у входа в костел. Идут следом.
– Вот оно что… – удивляется Дальман. – Вот он куда! Ну, если это не перейдет в цикл, то и ладно.
Входят из света и солнца в каменную прохладу, а тот уже на коленях возле исповедальни. Открытой. Ей видно, как здешний священник пошептал что-то в ухо заунывной дамочке в вызывающем платье, зевнул и погладил лысину, расправляя столу. И вдруг заметил коллегу – коленопреклоненную темную фигуру в луче солнца. Закрывает на миг лицо руками, а дамочка в это время встает с коленок, перекрестившись. Коленки красные, платье бирюзовое. Те, кто ждет, готовы пропустить священника без очереди. Тот поломался, поломался, но идет. Против света долговязый его силуэт смотрится и забавно, и элегантно. Один встает на колени, другой усаживается. На одной высоте оказываются у них головы, а над ними от руки написанная табличка: «Polski / English».
– Это что значит?
– Может и по-английски, если захочет, – разъясняет Дальман.
– Так он ведь свободно по-польски.
– Ну и что? Многие вещи легче выразить ломаным языком.
– Какие-такие вещи?
– Ну… – тянет Дальман.
– О, это не про него!
– Любой человек может вообразить что-нибудь прекрасное.
– Что, например?
– Например, красивый пейзаж.
Красивый пейзаж! Откинула назад голову, закрыла глаза. Прямехонько сидит на церковной скамье. Красным-красно под прикрытыми веками. Из красноты проступает пейзаж, одинокий уголок близко от границы. Вот куда она направится. Земля там даже не плоская, а гладкая, и дорогой туда, в чужую страну, служит линия во влажном воздухе. Цвет той линии – стальной, как рельсы, и серый, как река. Трава, по которой она ступает, подобна длинным волосам женщин, прислонившихся к ветру. И пейзаж этот не реальность, а душевное состояние. Обернулась – а в машине двое, лица плоские от изумления. Мигает внутренняя подсветка. Вновь заглядывается на пейзаж. Что такое? – это ей Дальман из бокового окошка. Что такое? – это ей священник. А вы-то что хотите? Либо Людвиг, либо никто. Вот ее слова. Оглядывается вокруг. За плоской землей – совсем плоская земля, там светлеет. «Так тут же природоохранная зона, заповедник! Ни за что не выйду из машины», – кипятится Дальман. А она: «Ах, так. Ну и ждите, пока к вам солнце в машину сядет. Только меня и след простыл! Увидите птицу большую, вон там, на ветке, размером с курицу, но совсем не ручная! Она-то не улетит, когда подойдете, а я – исчезну». Идет. Густой подлесок, хрусткий ковер крупной вязки. Захочет – вернется. И закурить захочет – вернется. Вовсе не тогда, когда за ней придут эти два старикана. Где-то лает собака. Священник опускает окошко, передразнивает. Дальман смотрит изумленно. И дальше тишина. Но вдруг приграничный ландшафт теряет реальность, становится чужим: этот мир, опутанный проводами, создан не ею, а теми, у кого длинные руки. В сфере чьих-то нейтральных интересов использование ее в качестве отдельной функции планируется для собственных исчислений. Людвига нет. А Лены нет и вовсе, она себе показалась. Как же выбраться отсюда? Бежит наискось через лес, и локти вперед, в стволах полыхает прожектор, образуя коридор света, и по нему – к машине. Двумя кулаками упирается в капот, потом с размаха – по металлу. Звук как выстрел. «Я Людвига там не видала! – воет, надрывается. – Его там нет, не явился!» Двое мужчин сидят по местам, глядя так, будто из-за нее простояли на коленях по два часа каждый в рассыпанной соли. Бьет опять по капоту, глаза запали, волосы мокрые птичьими лапками мотаются по плечам. Если он от меня уйдет, я пойду следом. Если он не явится, я его уничтожу!
– Поехали, – только и сказала она Дальману.
Тот немедля встает с церковной скамьи. Идет хотя и за ней, но задает шаг, и мимо двух молодых реставраторов в белых халатах, пока те ковыряют стену над чашей святой воды.
Садятся в машину и ждут. Не спросить ли у Дальмана, наблюдал тот или нет, как она выходит из дома напротив вокзала в О. И углядел ли при ней молодого человека. И что подумал, когда они встретились под фикусом у прохода. И заметил ли ее потом в гостиничном окне, ее и луну, повисшую в ту ночь так низко. Да видит ли он Людвига где-нибудь в ее жизни.
Кто-то плюхнулся на заднее сиденье. Оборачивается. У священника в руках три банки колы. И тут же он с вопросом:
– Беспокоитесь о своем Людвиге, не так ли?
Банка, открываясь, шипит. Как-то по-другому он выглядит, вот уж развеселился. Даже готов чокнуться банкой.
– На исповеди я сказал кое-что, и мне сразу стало лучше. Разрешите, я повторю это здесь?
– Если нам от этого тоже станет лучше, – отвечает Дальман, одновременно пытаясь перелить польскую водку из фляжки в банку.
– Вероятно, ваш Людвиг был священником оттого, что боялся стать обычным человеком и не знал, как с этим жить, – проговорил тот, глядя в окно. Там, где стоит их машина, не настоящая стройплощадка, а просто пыльный пустырь. На утрамбованной земле какие-то парни возводят трибуну. Плечи голые, татуировка – все она видит.
– Вероятно, ваш Людвиг хотел…
– А что вам, собственно, нужно? – обрывает его Лена.
Сидит, съежился, рядом пакет с плохонькими ченстоховскими яблочками.
– Вероятно, ваш Людвиг хотел… – и запинается, но договаривает: – Это просто та картина, которую я себе нарисовал.
– Картина, картина! – восклицает Дальман. – Все разговорчики!
И запальчиво трет глаженым носовым платком серебро своей фляжечки – полирует.
– Вероятно, вашему Людвигу не удалось прорваться к пределу своих возможностей, – продолжает священник, – туда, где открывается вторая реальность. А кто обладает таким даром? Кому это вообще удается?
– Так, про вторую реальность, пожалуйста, поточнее, – встревает Дальман. – А то Лена и слушать не станет.
– Вторая реальность – это как бы та вечность, где мы окажемся после смерти. Это мир, который мы собираем по крупицам всю жизнь и который останется в нас, когда нас не будет. Жизнь после смерти не прекратится, наверное, именно потому, что мы храним в себе эту сокровищницу, то есть мир невидимый. Ключ к нему – таланты, и за них мы ответим на Страшном Суде. Какие мы использовали, какие зарыли в землю.
– Но у Людвига нет никаких талантов, – тихо произносит Лена.
– У меня тоже нет, – громко объявляет Дальман. – А у тебя, Рихард?
«А у тебя, Лена?» – мысленно спрашивает она.
И ничего из этого не следует. Одна только тишина. Трое смотрят в окно, каждый в свое, но все на татуированных парней. Те продолжают возводить трибуну, но сейчас у них перекур, тянутся друг к другу с зажигалками. Их тени в полуденный час совсем короткие.
Минералку развозили два раза в неделю, и весь декабрь тоже. Смеркаться тогда начинало уже около четырех. Трижды закидывала она удочку, притом дважды посветлу, однажды затемно. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. В темноте говорится легче. Пересказывали друг другу жизнь в кабине грузовика. Музыку потише. «Нирвана» – его кассета, «Мэсив Атак» – ее. Жевали мармеладки. Рядом с Людвигом, да на всю жизнь, да на сиденье грузовика? Возможно. Между коленок зимой термос, летом бутылка колы. Солнце вечерами так низко, что руку надо над глазами козырьком, а то не разглядишь сигнал светофора. Вместе! Очень даже возможно. Земля и небо помчатся мимо, снизу и сверху. Мчаться! Людвигу дорога напомнит молитву, Лене будет вечно напоминать Людвига. Желтые фары разорвут ночь мелкими полосками, освещая частицы мира. Обратную его сторону. А на левых поворотах она будет приваливаться к Людвигу всегда, а не только от усталости. «Даешь влево» – вот что он скажет.
– Даешь влево! – и погромче, и привалилась к нему.
Что бы ни рассказывала, всегда думала – моя, дескать, жизнь только и есть что этот рассказ ему в один прекрасный день. Фары встречных автомобилей рассекали тьму над дорогой. И как вынырнет из тьмы домик с горящими окнами, так ей кажется – вот бы там и пожить. Тихой неспешной жизнью в конце дорог, в Зауэрланде.
– Это произошло не из-за женщины, – неожиданно высказался Людвиг.
Их обгонял белый «комби», срочная доставка лекарств. Рекламная надпись на капоте тоже, кажется, торопилась. Людвиг продолжал:
– Будь дело в женщине, проще было бы разобраться. Вопрос об обете безбрачия епископу известен досконально. Но того, что со мной происходило, я и сам не понимал.
Они ехали в поселок на берегу Мёнезе к последнему на сегодняшний день клиенту. Дом она помнила. Первая доставка была в сентябре. Точно, она еще ходила без чулок. «У тебя коленки, как у девчонки», – сказал тогда Людвиг, наклоняясь вместе с кабиной влево, так что ей пришлось схватиться за рычаг передачи. А правую руку он сунул тогда между ее ногой и сиденьем. «Вон тот красный дом», – показал Людвиг, когда они проехали табличку с названием поселка. А дом-то покрыт серой штукатуркой. Лена осталась в машине.
Сейчас Людвиг держал в свободной руке сигарету. Курить он в жизни не бросит.
– Хочешь узнать, как это произошло? – и сделал радио потише.
Лена прекратила покачивать головой в такт музыке. Оно и не по возрасту.
– Дело было утром. Я лежал и смотрел в потолок, целых полчаса.
– А что на потолке?
– Да ничего. Просто я проснулся и вдруг утратил веру. Как другие просыпаются – и с ними происходит совсем наоборот. Бывает, куст терновый загорится, или конь споткнется, упадет человек, встал – а сам другой. В тот день я заново родился, только в обратную сторону.
Сбавил скорость после той таблички, откинул в сторону ее шарфик и прижался губами к шее. У обочины дорожный знак. На белом фоне вихляет черный автомобиль.
В красном доме были три этажа и маленькие дурацкие окошки, как у людей бывают глупые глазки-пуговки. Строили в шестидесятые годы. Вместо садика парковка на четыре места. Одно занято. Над входом сбоку свет, красный, а у звонка надпись: «Пансион». Мощенная плитками короткая дорожка вела от входа к озеру. Серая вода. Дверь открылась, Людвиг показал на гриль у берега, перекошенный, с двумя ножками в воде:
– Этим летом вы не часто им пользовались.
– Да уж, господин капеллан, – ответила, выйдя, женщина. Черный парик, стиль «Александра, тоска, тайга»[11]11
«Sehnsucht, Lied der Taiga» (Тоска, песня тайги) – шлягер 1960-х годов в исполнении популярной тогда певицы Александры.
[Закрыть]. «Говорит с акцентом. Восток», – отметила про себя Лена.
От входа ковры цвета спелой вишни, а в конце коридора приоткрыта двустворчатая дверь. Видно стойку бара, видно окно на озеро. Женщина поправила парик, а Лене сказала: «Дальше, туда», – это пока Людвиг таскает в подвал ящики с минералкой и пивом.
– Мужская работа, – заметила она и поволокла Лену за собой. Кожа рук выше локтя выдавала ее возраст, не сказать что юный. – Вы его новая жена?
Лена покачала головой:
– Я актриса.
– Ну надо же, как интересно! – воскликнула та, приобняв Лену, хотя они только что познакомились. – Наверняка я видела вас по телевизору.
– Вряд ли, – как отрезала, и насчитала по пути восемь дверей, обитых дешевой фанерой.
В последней по коридору комнате женщина усадила Лену на высокий табурет у стойки. Поставила диск с рождественскими песнями. В окно с видом на озеро хлестал дождь, а на диске звенели «Джингл Беллз». Кончилась песенка, и Людвиг сел рядом с Леной, зажег свечку цвета спелой вишни, тут же и елочные ветки украшены.
– А она знает, что ты был священником?
– Да.
– А она знает, что ты уже не священник?
– Да.
– У тебя с ней что-то было?
– Да, но недолго.
– Поэтому ты и возишь сюда бутылки.
– Нет.
– Ты за это платил?
– Нет, а ты есть не хочешь?
– Вот-вот, не хотите ли поесть? – спросила женщина, наклонившись над стойкой.
Что-то в лице Людвига переменилось.
– В меню сосиски дня, – сказала и засмеялась, явно думая о чем-то другом.
Лена вдохнула запах незнакомых духов, взглянула на Людвига. Ароматическая композиция из солнца и тяжелого сладкого питья. Что за женщины ему нравятся.
– Не в женщине было дело, – заговорил он снова. – Ты должна знать, что с Богом у меня не покончено. Его голос я слышу и сегодня, – тут он запнулся.
– Где же, когда?
– Везде слышу. Хоть бы и тогда, когда ксерокс работает.
Откинула волосы, посмотрела в лицо. В церкви было полно народу, когда он служил. Представила Людвига у алтаря. «Примите и вкусите, примите и пейте». Никто и не замечал, если он не в форме. Порядок установлен раз и навсегда, тяжесть облачения обязывает. Выступал с проповедью. Так, как недавно ей перед сном. Все, говорил, что упрощает половые отношения и одновременно сводит их до минимума. Вот, говорил, например, противозачаточные таблетки. И не лежал он в ту минуту рядом с ней, а стоял за кафедрой, раскинув руки. Не для нее, а для всего прихода. Слышно ей было, что таблетки убивают эротическую любовь, и видно, как после мессы одинокие женщины парами под зонтиком расходятся по домам, и видно, как у них забрызганы сзади чулки под дождем, и слышно, как делятся они друг с дружкой: о, когда он воздевает руки, о да! О да.
Руку подвела под грудь, рукой и всей грудью легла на стойку. А другую руку Людвигу на затылок, но быстро, вон та женщина идет с двумя тарелками, одну ему, другую ей, и с разным выражением. Людвигу глядит в глаза, Лене на ключицы. И отходит.
– С самого начала, – рассуждал Людвиг, – я был отличный парень на пути к отличному диплому, да еще и английский знал. Ты совсем другая.
Лена смотрела той женщине вслед. Хороший был вчера день. Ее комната светлая, солнечная, но позади стекло оконное ледяным проемом, и холодом дышит ей в затылок. Волосы заколоты высоко на макушке. Людвиг сказал, чтобы раздевалась. Фотографии хочет сделать, а свитер ему не нравится. Бирюзовый да устаревший. Тихонько спросила, не одеться ли по-другому. Одеваться – нет, раздеваться – да, вот что он ответил. За окном на ветку груши пристроился было дрозд. Но ветка ушла резко вниз, и птичка слетела, и снег посыпался тонкими струйками. Дрозд такого не ожидал, но для них этот день оказался прекрасным.
– Тебе надо было в театре играть, стал бы культовым артистом, – заметила Лена.
Та женщина раскладывала диски по коробочкам, отведя в сторону мизинчик.
– Я пытался, – вздохнул Людвиг. – Только я – не ты. Я всегда чуть подавлен, чуть высокомерен и очень благоразумен. Не скрывается во мне великая личность. Разве только такой же Людвиг, но поскучнее, и не хотел бы я с ним встретиться спустя годы. Господу Богу я давным-давно передал решение этой проблемы. Твой мир, Господи, – так я сказал, – даруй мне, а мой мир отними, ведь он слишком мал, и большего мне не завоевать в одиночку.
– Он тебе ответил, да? – перебила Лена. – С шумом, на всю вселенную, как положено? А это просто ксерокс шумел. Принесите, пожалуйста, горчицу.
Людвиг ел сосиски руками, она взяла вилку и нож. Все-таки она не дома и не одна.
– Девушка, горчицу, пожалуйста! – потребовала снова.
– Вот, у меня осталось немножко, – предложил Людвиг.
– Пожалуйста, – сухо сказала женщина и сунула Лене под нос подставочку для яиц. По дну размазана капелька горчицы. Лена разозлилась.