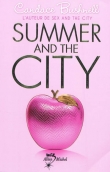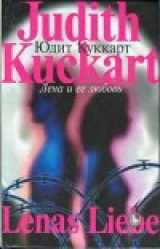
Текст книги "Лена и ее любовь"
Автор книги: Юдит Куккарт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– О чем размышляешь?
– Вот о чем: это стол или не стол? – и она нарочно толкнулась бедром о край.
Георг пощупал ее волосы, пересушенные новой краской.
– Да не мучайся ты, Лена.
– Вот этого-то я и не умею, – откликнулась она.
Он собирал с полу корсажи, трусики, наколенники и чулки, а снаружи, в коридоре, актерский смех уже переходил в крикливое кудахтанье кур, согнанных с насеста. Георг выскочил из гримерной, чтобы не пропустить какую-нибудь развлекуху. И только она осталась одна, как из стола начал расти человек, и начал отделяться от дерева, и стал окончательно плотью. Завершая воплощение, застегнул пиджак на нижнюю пуговицу и прислонился к краю стола. Прямо у его руки оказался поднос для шпилек. Цветом и формой точно такой, как подносики для пилюль в больнице.
– Вот и я.
– Что это значит?
– Ты меня звала, – объяснил Людвиг, выглядевший натурально. А почему бы и нет? Ведь являются же джины из бутылок, стоит только потереть горлышко. Может, они протискиваются и сквозь столы, если толкаться о край в полном отчаяньи?
– Что случилось?
– Ничего, Лена, спокойно, – вот что ответил Людвиг.
В одном и том же зеркале она видела и его спину, и собственное лицо. Волосы у него черные, лицо у нее белое. Взяла баночку с кремом, чтобы снять грим. От Людвига ее отделял один только стул. «Стул! – мелькнуло в голове. – Стул, стул!» Скользкими от крема пальцами провела по лицу. Из привычного движения родилась улыбка. Людвиг улыбнулся в ответ, и складка у него вокруг рта вовсе не свидетельствует об аскетическом образе жизни.
– Красивый у тебя халат.
– Черный, как ночь, – уточнила она. – А ты не изменился, милый.
– Зато ты теперь блондинка, – ответствовал Людвиг.
Оба замерли. Вот он – на столе, вот она – всем телом тут, оба неподвижны, оба застыли, наклонили шеи, напрягли все силы. Но еще не начеку и к нападению не готовы.
– Ах, это, – она провела рукой по неровно окрашенным волосам. – Ах, блондинка! Идея нашего нового художника. Дома у него жена, черная, как собачье дерьмо, и волосы, и десны, и соски – все черное, хотя она из Билефельда. Он, видишь ли, с ней не ладит, и оттого мы в «Натане»[8]8
«Натан» – имеется в виду пьеса Г.Э. Лессинга «Натан Мудрый» (1779).
[Закрыть] блондинки всем составом.
– А стоит прийти посмотреть «Натана»?
– Нет, лучше Колтеса[9]9
Бернар-Мари Колтес – современный французский драматург.
[Закрыть]. Пойдет позже в этом сезоне.
Размазывая средним пальцем крем, она почуяла возвращение забытого было порыва. Так налетает дождь или ветер. Вспомнила вкус слюны у него во рту. И возжелала его губ на шее, его рук на плечах, а стул между ними – прочь, и пока тот падает, Людвиг говорит:
– Повернись.
Когда он прижался к ней, махровая ткань халата стала тонкой. Свет горел в гримерной, но всюду, куда проникал его палец, было темно. Она знала, зачем его палец оказался там, во впадине пупка и в невысветленных волосах чуть ниже, она знала, зачем его палец между губ. Однажды она и в самом деле была с ним, а потом не раз повторяла это в одиночку. У них получалось все лучше и лучше, у обоих. Только Людвиг об этом ничего не знал.
– Ты что делаешь?
– Не шевелись.
– Ты что делаешь?
Над столом, в зеркале, когда он то отдаляется на несколько сантиметров, то приближается вновь, – серьезное лицо. Серьезное, будто в очках. А в своем лице она разглядела девочку, какой рада бы остаться. Та девочка на велосипеде всегда выпрямляет спину, невозмутимо и чуть высокомерно проезжая мимо мальчиков вроде него, тремя годами младше. Сосновые иголки вечно цепляются к шерстяным чулкам, и лес начинается почти от дома. Коленки у нее округлые, взрослые, хотя сама она совсем юная. Юная, но спокойная и сосредоточенная, с надежными руками и жесткими, непокорными волосами. Глаза на лице еще детские, взгляд отсутствующий и светлый.
Упершись руками в стол, она обернулась, ведь не лишне увериться, что он – не просто отражение с закушенной нижней губой. Да, тут.
– Стой тихо, – скомандовал Людвиг, правой рукой крепко сжав ей бедро, левой – не затылок, а шею. И как перехватило дыхание, так она и осознала: чем тише стоишь, тем громче вопль, но издавать вопли она тут, перед столом, который, возможно, вовсе и не стол, не вправе. Лицо Людвига по-прежнему спокойно и бесстрастно, какой была вначале его спина. Сплошные морщины. Тени у носа, как бывает в тяжелые дни. Людвиг не такой, как другие. Он не шелохнулся, когда пришел. Потому что пришел из воспоминаний, хотя для нее и был полон жизни, как никто другой. Сказал что-то ей в затылок.
– В жизни люди всегда встречаются дважды, – сказал он.
Потянулась было назад – но рука ухватилась за халат.
– Людвиг, что ты делаешь?
– Я люблю тебя.
И глухой удар. Об стенку? Об пол, всем телом? Может, ее телом? Георг бухнул оземь бельевую корзину.
– Ну что, опять со столом разговариваешь?
Он жевал лакричную пастилку. Догадалась по запаху.
Лена по-прежнему нависала над столом, пальцы растопырены на столешнице. От нажима кожа под ногтями налилась розовым, по краю побелела. Крем блестит на лице. Шпильки на турецком подносике намертво сцепились лапками. Лена отошла от стола.
– По желанию твоей матери, – прошептал отец.
Людвиг перед алтарем раскинул руки, и на лиловом его облачении открылся черный крест. С нею рядом кто-то старательно подпевал. Дальман. Отец лишь раскрывал рот, то и дело тайком поглядывая на часы. А Лене мигом захотелось в свою комнату, и встать у окна, и на что-то опереться, и дочитать до конца книгу, жуя хлеб, и снова случайно увидеть девушку в белом на черном мотоцикле, с руками за спиной, как вчера. Захотелось стать той девушкой. Потому что вот такой Людвиг у алтаря чересчур высокомерен.
«Во дни воззвал, и в ночи пред тобою…», – выводил Людвиг в микрофон вместе со старым священником. Повернув голову влево, она взглянула на Дальмана.
А этот как бы смотрелся в облачении там, впереди? Что всегда повторял Георг? Есть три пола: мужской, женский и церковный.
– Он вернулся, да? – тихо обратилась она к отцу.
– Ага, и развозит ящики с минералкой.
– Ящики? – она строго посмотрела на Людвига, пронзив его взглядом насквозь, через облачение. Людвиг, всегда в черном, всегда один. Ясно, такой он и нравится женщинам. Синева его глаз достигала на расстоянии. Взгляд касался шеи, скользил по плечам, гладил левую грудь, кругом обводил пупок, ниже, ниже, не выпуская из виду глаз. И пока они пристально смотрели друг на друга, Лена скользнула в его объятия, как в рукава, и согласилась на все, что он ей предлагал от алтаря с глазу на глаз.
– Кончай кокетничать! – ткнул ее в бок отец. – Твои тетки только и зыркают.
Приди в мои объятья
«На счастье, дождя не было две недели, ведь перила-то – деревянные», – расскажет Марлис своей дочери Лене про этот июльский день в сорок четвертом.
В тележке сидели куклы Марта и Мария с распущенными настоящими волосами. Хельма и Зайка тянули тележку, Юлиус и Марлис шагали рядом. Они направлялись к замку на воде. Марлис недавно обрезала косы.
– Лесной орех, – оценил Дальман, приехав с сестрами на каникулы из О., и тронул рукой темные кончики волос, торчавшие во все стороны. Растирая их между пальцев, будто взяв на пробу, окончательно подтвердил:
– Орех.
– He-а, вши, – возразила Марлис. – Держи себя в руках.
К замку вел маленький мостик, шагов на двенадцать. Под ним – узкоколейка. В двадцать минут четвертого тут проезжал единственный за день поезд. Его-то они и хотели перехватить.
– Зачем? – обратился Юлиус к девочкам.
– Держи себя в руках, – тихонько повторила Марлис. – Мы теперь одна банда. А банды только этим и занимаются.
Юлиус засмеялся, но тут же сжал губы и с гримасой на лице загляделся на замок. В глубоких оконных нишах развевалось белье, и даже издалека было видно, какое оно латаное-перелатанное. Во рву не осталось ни воды, ни лебедей, а все три замковых крыла с самого начала бомбардировок занимали беженцы из Айфеля, которые устраивали пикники на мельничных жерновах во внутреннем дворе, сажали салат на господском кладбище и посылали своих грязных детей в парк за розовыми бутонами. Трое мальчишек, дерзких и совсем уже не маленьких, попались им навстречу. Марлис взмахнула рукой:
– Стоп! Я что сказала?
– Мы – одна банда, – зашептали в ответ Хельма и Зайка.
– Да-а, – медленно и церемонно протянул Юлиус, – так оно и есть.
– Так точно, – отчеканила Марлис. – А эти вон вывешивают свои вонючие носки в нашем замке. Значит – война.
Мальчишки из Айфеля подошли ближе.
– Цыгане, цыгане, – шепотом подсказывала Зайка.
А Хельма, пока никто не видит, принялась кокетничать. На свой манер. Пялится на старшего из мальчиков. Тот встал совсем близко к ней и заулыбался. Двое других облокотились о перила и выпятили животы. Молча стояли они, четверо против троих, посередине одинокого мостика, а поезда не шли. Побуревшая трава внизу на насыпи торчком прорастала в последнее военное лето, и под юбками девочки носили черные тренировочные.
– Вишни, – объявила вдруг Зайка, чтобы напомнить всем, в том числе и врагу, о чем-нибудь хорошем. – Вишни консервированные, из банки.
Они были голодны, и желудок сообщил это всем и сразу, стоило им только нависнуть над перилами, высматривая составы, которые не шли. Поезд в двадцать минут четвертого тоже не появился.
– Его-то мы и хотели перехватить, – сообщила Зайка, почувствовав себя вольготно с чужими мальчиками, для нее-то почти взрослыми. И затараторила: – У поезда в двадцать минут четвертого вентиляция на крыше, так что целиться можно в дырки!
– Как это?
– Плеваться! – боевито разъяснила Зайка.
– И кто это сказал?
– Она! – Зайка указала на Марлис.
Семафор и в полчетвертого стоял на красном. Пока другие скучали, зависнув на перилах – Марлис в красном, Хельма в коричневом, Зайка в синем, а чужие мальчики в измызганных своих рубашках, – Юлиус вытащил кукол из тележки, присел, упершись в перила спиной, и стал расчесывать их натуральные волосы. За ним наблюдали мальчики с лицами грубыми, но не уродскими. За мальчиками наблюдали Зайка и Хельма. И только Марлис смотрела в сторону на крысу, которая перебиралась через пути с четырьмя детенышами.
– Есть!
В крысу-мамашу Марлис плюнула первой. Остальные – за ней, но этим не удовлетворились. И начали для пробы плеваться в лицо, и Юлиусу, и куклам тоже.
– Перестаньте, – сказал Юлиус и принялся вытирать кукол.
– Перестаньте! – сказала Марлис и принялась вытирать Юлиуса.
– Давайте лучше поиграем в дочки-матери! – воскликнула Зайка, увидев, как Марлис перебирает волосы на голове у Юлиуса, но трое мальчишек ее высмеяли. А один схватил Хельму за платье, сшитое из простыни и выкрашенное коричневой краской. Тут уж кокетничать ей расхотелось.
– Перестань, – укорила его Марлис.
– Доска стиральная! – взъярился мальчишка. – Ты хоть бантик прицепи, чтобы все знали, где у тебя перед!
Пошарил обеими руками по карманам и вытащил складной ножик. Открыл – закрыл, туда – сюда, и с каждым разом все опаснее. Белесый солнечный свет достигал деревянных перил через тонкий слой облаков. К вечеру пойдет дождь, или даже раньше. О синем небе последних четырнадцати дней напоминала теперь только синяя лента в зайкиных светлых волосах, та лента, которую иногда брал и Юлиус, потому что хотел быть светленьким. Зайкой он хотел быть. А Зайка, озабоченно сложив губы, забрала кукол с Юлиусовых колен и опять усадила в тележку. А Хельма сказала, мол, на сегодня хватит, и взялась за длинную ручку. Конец ее был плотно обмотан шерстяной ниткой. Марлис уныло пнула заднее колесо. Мальчишкам не хотелось, чтобы девочки ушли, ладно уж, что они девочки. Юлиус – его не считали – уперся одной ступней в другую, чтоб держаться потверже, коли он сюда затесался.
– Пойдем, Юлиус, – скомандовала Марлис.
Девочки пошли. Он робко двинулся следом.
И тут средний из мальчишек, промчавшись мимо, взобрался в конце мостика на перила и крикнул:
– Кто досюда добежит, тот и мужчина!
Девочки остановили тележку.
– Там еще откос под тобой, – бросила Марлис, задрав нос повыше. – Там совсем и не опасно, тупица!
Она носила тяжелую ярко-красную вязаную юбку, бывшую отцовой жакеткой до тех пор, пока ее не распустили и не перевязали на круглых спицах. Остаток шерсти пошел на обмотку тележкиной рукояти. В этой юбке Марлис выглядела взрослее. Шерстяные нитки, немало повидав на своем веку, кусали и взбадривали кожу, а девочке прибавляли веса.
– Кто досюда добежит, тот и мужчина! – снова заорал мальчишка, сделал два шажка и спрыгнул. Прямо под ноги Юлиусу. – Давай, Юлия, – дразнился он писклявым голосом, – покажи, что ты мужчина, пока мы сами не проверили.
Зайка ударилась в слезы. Это почти всегда помогало. «Не лезьте к маленькой, не надо маленькой плакать», – говорили обычно взрослые. Но здесь не помогло. Здесь взрослых не было. Тогда Зайка вытащила из тележки куклу Марту, как будто и та сейчас разрыдается. Марлис глянула на мальчишек утомленным взглядом, откинула назад густую прядь волос. И стала похожа на всклокоченную мокрую кисточку для бритья. Тринадцатилетняя Хельма, опустив руки, плевала на землю. Поначалу мальчишки изучающе на них смотрели. Но потом опять стали подзадоривать Юлиуса, ведь он единственный стоял просто так.
– Ну, что? Давай!
Задрав одну ногу на перила, Юлиус разревелся не хуже Зайки, хотя никогда и не думал, что Зайкина шкура окажется такой ничтожной. Перед глазами мелькнул замок на воде. Одна нога вверху, другая внизу – он застыл, как вкопанный.
– Что такое? – взревел мальчишка с ножиком. – Ты хочешь пи-пи?
А Юлиус следил за Марлис, как та резко развернулась и побежала на другой конец мостика. Теперь замок выглядел по-иному: на переднем плане красуется его Марлис и что-то выкрикивает. И расстояние до нее не больше двенадцати шагов.
– Эге! – возгласила она, высвобождая босые ноги из тяжелых черных солдатских ботинок. В мыски заталкивали газету, чтобы были не так велики.
– Смотрите сюда! – и Марлис верхом уселась на перила, руки скрылись за спиной. Подняла ногу, другую ногу и одним движением поднялась. С согнутыми коленями помедлила, свела на деревяшке грязные пятки, раскинула крыльями руки и поймала равновесие. На счастье, дождя не было две недели, ведь перила-то – деревянные.
– Тебе бы в цирке выступать, – заметил старший из мальчишек едва ли не ласково.
Легко подхватив красную юбку, Марлис исполнила книксен. И это Юлиус запомнил на всю оставшуюся жизнь. Какая легкость, какая легкость в нелегкий час! Ее лодыжки блестели, и Юлиус ничего не сказал, опустил обе свои ноги на землю и пригладил темные локоны. «Юбка красивая, – подумал он. – Мне бы она тоже очень пошла».
– Ну же, говори! – крикнула Марлис.
– А что говорить? – залепетал Юлиус.
– Что? Приди в мои объятья!
Юлиус передернул плечами.
– Скажи: приди в мои объятья – и тогда я приду! Я приду! – выкрикивала Марлис.
– Приди… – проблеял Юлиус, все быстрее подергивая плечами, будто сверху лилась ледяная струя.
– Нет, мне надо до конца! Давай, говори!
– Приди в мои объятья… – призвал он шепотом, и она пошла. В красной своей юбке пошла к нему, становясь все меньше и меньше. Оптический обман – из-за Юлиусова смятения. «Юбка слишком жаркая для такой погоды, – успел подумать он, – но держаться помогает. Ей только дойти, я ее сразу возьму на руки и посажу на плечи. Мы всегда будем вместе!»
– Ну, скажи еще раз! А то упаду!
– Приди в мои объятья! – выкрикнул он в волнении.
– Громче, – потребовала Марлис. – Громко и твердо! Давай, лови меня. Лови меня!
Он кричал, и она кричала. Семафор давно переключился на зеленый, и опоздавший поезд показался на повороте и, должно быть, по причине задержки скорее обычного приближался к мостику.
– Нет! – вскрикнула Хельма, прижав к себе Зайку, прижимавшую к себе кукол Марту и Марию. Мальчишки вытащили руки из карманов, как все делают в минуту опасности, а Юлиус что-то смахнул со щеки. Что-то мокрое. Это дождь начался. Но Марлис не остановилась. И когда опоздавший поезд шел прямо под нею, внутри у нее тоже нечто шевелилось, поднималось и опускалось, стучалось в паху, будто малый и мокрый, но жаркий зверек в упоении счастьем рвется разом внутрь и наружу. Она глянула в глаза Юлиусу. Это странное чувство – как же, как ему объяснить? Тут зрачки у нее закатились, и еще три шага Марлис сделала вслепую. Когда она посмотрела на него снова, уже вовсю лил дождь. Через две недели ей исполнялось двенадцать.
– Так, слушайте! – крикнула она под грохот колес. – Юлиус – мой муж! А значит, он мужчина. Все ясно?
А Зайка схватила куклу за натуральные волосы, раскрутила ее, швырнула и взвизгнула. Голова раскололась о последний вагон.
– Жалко, у нее волосы настоящие, – сказала Марлис, когда спрыгнула к ногам Юлиуса и долго стояла близко-близко. Две тяжелые складки красной юбки касались его штанин.
И выглянул кто-то,
давным-давно
Из С. Дальманы в конце лета отбыли в О. В том же году на Рождество они вернулись в С., в спешном порядке покинув дом в О., напротив вокзала. Там остались отец и рождественская елка. Солнце только всходило, когда мать с баулами, мешками, одеялами и тремя детьми вышла на улицу. Эсесовское казино в нижнем этаже еще закрыто. Пешеходный мостик отбрасывает на железнодорожные пути длинноногую тень. На привокзальной площади немцы приступают к рытью траншей. Много позже тут появятся стоянка такси и автобусная остановка.
– А елку мы не возьмем, что ли? – Юлиус вылез с этим вопросом, когда они собрались переходить дорогу.
– Дверь закрой, – ответила мать, взявшись за багаж.
Юлиус притворил входную дверь и потащился за сестрами. И вдруг разразились свист и стрельба, и после первых тактов вступили отдаленные разрывы и отчетливые залпы, сливаясь с близкой стрельбой и свистом в полнозвучный перезвон тех незримых колоколов, под чье сопровождение они покидали С. Счастливый исход. Так показалось Юлиусу. Такая картина возникла в его воображении. Он окинул взглядом развороченные рвы. Это ведь оркестровые ямы! Правда, с его места не видно музыкантов, заслуживших аплодисменты. И все-таки надо поднять руки.
– Руки-то опусти, – сказала мать. – Кончай дурить! Возьми лучше вещи у Зайки.
Он поволок деревянный Зайкин чемодан. Не все ли равно, что они бегут от Красной армии туда, на вокзал. Не все ли равно, что он потерял перчатку. Зато со своими страхами он тоже расстался. Музыка была такой красоты, что тогда, двенадцати лет, он впервые задумал жить по-другому, этой красоты ради.
– Не оборачиваться! – скомандовала мать. – Юлиус, и тебя касается! Оставь перчатку, пусть валяется.
Перчатка осталась лежать посреди улицы, но он все-таки обернулся – там горел их дом. Из окон оранжевыми занавесками вырывалось пламя, и Зайкино пианино – Юлиус точно видел – через потолок провалилось в казино, где от удара разлетелись столы и стулья. Лишь один стол преспокойненько остался стоять у окна, покрытый белой скатертью.
– Пианино горит, – услышал он голос Хельмы, когда та прибавила шаг.
– Пианино не сгорело, – говорила после мать.
– И дом не сгорел. Это Юлиус все придумал, – утверждала Хельма.
Отца они с тех пор никогда не видели. И об этом никогда не вспоминали.
Несколько дней спустя в вечерних сумерках они вышли на улицу Колленбушервег. Свет не горел ни в одном окне. Во время последней бомбежки в доме повылетели все стекла. Больше, правда, ничего не случилось.
На холодном чердаке Марлис и Юлиус доверили свою тайну листку, нарочно вырванному из альбома для стихов. «Мы теперь муж и жена, причем это по правде». Внизу оба поставили имя и дату рождения. В школу они ходили вместе. Когда шел дождь, то под одним зонтом. Он тащил ее сумку. «Вперед, марш, марш», – распевали они, четко вышагивая и всегда торопясь. Когда они перешли в выпускной класс, директор вызвал Марлис к себе в кабинет. Юлиус, увязавшись следом, остался ждать за дверью. В кабинете Марлис закатилась смехом, да так, что Юлиус решил: свели с ума. Защекотали до смерти. После она появилась, откинула назад новые свои косички.
– Ну, что?
– Потом расскажу.
Прошла мимо и отныне стала укрываться зонтом в одиночку.
«Марлис, ты дружишь с Дальманом? С ним встречаешься?» – спросил директор.
«С ним? С ним встречаюсь? – Она истерически расхохоталась. – Да нет, конечно. Он же чокнутый».
Стоя под дверью, Юлиус не разобрал предательских слов. Узнав о них позже, когда Марлис как-то вечером напилась и решила рассказать в компании что-нибудь веселое, он тоже расхохотался. И тоже до истерики. Перед всем честным народом.
Вскоре после войны в замок на воде переехали муниципальные учреждения, а деревянные перила мостика заменили железными. Зайка донашивала красную юбку Марлис, и однажды Юлиус тайком примерил ее в спальне перед зеркальной дверцей шкафа. Кивал и любовался своими стройными ногами. Жаль, никто его не видит.
Прошло два года.
Марлис встала за прилавок в магазине фарфора, а Юлиус с его способностями к счету поступил в городское управление финансов. Всю жизнь он представлял себе мир только в цифрах, и вообще-то благодаря математическому таланту должен был дойти до гимназии, но тогда времена были другие. Работая в управлении, он овладел искусством синхронного перевода цифр в факты для городского совета. Проходили годы, а он все сидел в ратуше во главе длинного стола, всегда по понедельникам, всегда рядом с самим бургомистром. Бургомистры сменялись, и справа от двери сменялись черно-белые фотопортреты: Аденауэр, Кизингер, Эрхард. Потом Брандт, Шмидт, Коль – цветные, но в старой рамке, чтобы не открылся след на стене. Этот светлый след, считал Дальман, напоминал бы о портрете предшественника. Дальман наизусть помнил все цифры бюджета и умел их наглядно представить в будущем реальном воплощении. Настаивал на том, что города, разрушенные без всяких войн, как и дома, снесенные по легкомыслию, восстановить невозможно. Что старые счета однажды становятся новыми и что из долгов неизбежно вырастает долг. И что долг – единственная сила, способная повернуть историю вспять. Это он где-то вычитал. С Марлис он не мог поделиться всем, что волновало. Однако по вечерам заходил за ней в магазин. Она снова пряталась под его зонтом, но только в дождь. Часто он наблюдал, как она, задом к улице и сняв туфли, на коленях ползает между сервизами и вазами за витринным стеклом. По пятницам Марлис меняла оформление. Она нигде этому не училась, но делала это очень здорово. И как раз в пятницу, когда Юлиус Дальман замер в ожидании, отделенный от нее одним только стеклом, Марлис влюбилась в другого.
Магазин скоро закрывался. Она в витрине. Дальман стоит рядом, тот третий, сидит. На низкой кирпичной стеночке. Между ней и витриной – улица. Тут он и Марлис, там – чужой. Бойскаут. Марлис, держа в руке сервизную чашку «Грация-2000», смотрит мимо Дальмана на другую сторону улицы. Там, на кирпичной стеночке – спортивный и светловолосый.
«Он, точно он», – подумала Марлис.
«“Он, точно он”, – вот что она думает», – прочитал Дальман на узком ее лбу.
Трамвай на миг закрыл обзор, и за этот миг она успела с чашкой в руке принять целый ряд твердых решений. Остричь волосы по моде, захомутать того парня напротив, на обручение получить в подарок «Грацию-2000» из двенадцати предметов, с этим приданым вступить в брак, завести двоих детей, снять четырехкомнатную квартиру с балконом и никогда больше не работать. «Именно, никогда больше не работать, иначе зачем вообще выходить замуж?» – частенько повторяла она потом, в том числе и Дальману. Дальман видел ее улыбочку над чашкой. А на него взглянула с лицом жестким, как кулак перед ударом. Парень напротив, на кирпичной стенке, – инструктор, и семеро младших скаутов внимают ему и не сводят с него глаз. Как Марлис из своей витрины. Велосипеды прислонились к стенке, все черные и все без фонарей. Один мальчишка время от времени берет аккорд на гитаре. Приди в мои объятья…
И блондин пришел. Через пять лет Дальман стал свидетелем на свадьбе. Сам с тех пор навсегда остался один. И каждое второе мая являлся на годовщину.
«Этот Дальман», – называл его муж Марлис.
Шли годы. Второе мая всегда отмечали. Потом вместе с ребенком, который играл на пианино.
– Кто умеет на пианино, тот имеет успех у женщин, – объясняла Марлис.
Ребенок оказался, увы, бесталанным и к тому же девочкой, названной ими Магдалена.
– Что за имя такое, – недоумевал Дальман, глядя как Марлис распаковывает подарок на десятую годовщину.
– Какая ваза! Очень современно, – ответил муж, давно уже не бойскаут.
Девочка Лена спустя несколько лет уехала из города. Марлис заперла пианино и потеряла ключ.
– Чем она занимается? – этот вопрос Дальмана гремел с тех пор над Вокзальной улицей, Храмовой улицей, Кельнской улицей и улицей Мольтке.
– Театральная школа!
– Нет!
– Да.
– А теперь она что делает?
– Бохумский театр.
– А сейчас? – он знал, что его крик с другой стороны улицы Марлис неприятен.
– Базель, играет в Базеле. Очень довольна! – и Марлис важно надула губки.
– Ну как, она все еще довольна? – поинтересовался Дальман в другой раз.
– Да, снимается в кино, во Франции.
– А на Рождество приедет?
– Мне пора идти, – отрезала Марлис.
– Ну, пока! – радостно выкрикнул Дальман.
– Пока, пока.
А потом Лена вернулась. Дальман отдал ей лучшую комнату с эркером, на втором этаже. Почему она пришла к нему? Был же у нее отец, к тому же с большой квартирой.
Дальманова жизнь до самых этих пор была хорошо отлажена. До тех пор, пока не явилась Лена. Его ритуалы! Вечером вернешься, левый ботинок стащишь правой ногой, потом наоборот, но, ради носков, аккуратно. Носки всегда белые, только не на похороны. Смоешь с лица тон-крем, маскирующий красные жилки, потом – к холодильнику: пиво, водка, пиво, а утром такой вкус во рту, с которым приходишь в себя без радости. Завтрак, глазные капли, душ, дезодорант, опять глазные капли, теперь одеваться, направо, налево. Дважды в неделю к парикмахеру на борьбу с возрастом, болезнью, смертью. Он коллекционировал шкатулки белого фарфора с розовой ручкой – фарфоровой колбаской, старинные лампы, кофейные мельницы и плакаты мальчиковых хоров. И тут явилась она. Что ж, она ведь дочь, вот и приехала. В тот день он увидел сверху, из спальни, как она стоит у него в саду и ищет сигареты. «Ладно, ладно, она ведь дочь», – говорил он себе, высыпая в унитаз забитую окурками пепельницу прежде, чем встречать гостью. Нет, неточно. Если точнее, он не только выбросил окурки, но еще и поводил расческой по волосам, причем основательно, оскалил зубы перед зеркалом – ага, все тут, все белые, ваткой стер пятнышко зубной пасты со своего отражения, и по-молодому рванул вниз по лестнице, чтобы распахнуть перед ней двери и улыбнуться. В спешке он забыл спустить воду в унитазе, что и обдумывал, делая вид, будто не сразу ее узнал. Она, естественно, сняла комнату и тут же заявила, что на месяц здесь не задержится. Или это она позже говорила? Во всяком случае, на мать она не очень-то похожа, не очень-то. Так, внешне чуть-чуть. Это пришло ему в голову, когда раз из окна кухни он наблюдал за нею и Людвигом на улице. Та же манера слушать и что-то зеленое – нет, не в глазах, а во взгляде. Заглянешь туда поглубже, и ноет занозой…
Она задержалась. И все осталось по-старому. Друг к другу они приспособились. Но однажды, через несколько месяцев в его доме, она заговорила про О. Собралась туда съездить.
– А вы? – поинтересовалась Лена. – Не хотите разок прокатиться?
– Не знаю, честное слово, не знаю, – растерялся он, пожалев о том, что в последнее время так много рассказывал ей про О. Но решение принял. И через три дня уже командовал парикмахеру:
– Так, на затылке покороче. Я опять уезжаю.
– Куда же на этот раз? – осведомился парикмахер.
Дальман глянул в зеркало и забеспокоился. Кто там? Старый осел, который прихорашивается, чтобы совершить глупость. Вот как оно выглядит.
– Куда? – переспросил парикмахер и переключил фен на слабый режим.
– На старую добрую родину, – сообщил-таки Дальман.
С этим парикмахеру было трудно разобраться, и он тут же задал другой вопрос:
– А куда в следующий раз?
– А в следующий раз опять на Майорку или, действительно, в Израиль.
Лене он о своих планах не сообщил. Он попросту увлекся. Не идеей, нет, но тем, что она дочь Марлис.
Малое окошко и третий этаж, и выглянул кто-то, давным-давно. Холодно было в тот день. Лежал снег. Марлис сидела с куклой у окошка, улица Колленбушервег, дом 6, третий этаж, два звонка. В вечерних сумерках шли они по улице – мать, обе сестры и он. Вернулись из Польши. Мать сказала: «Заходи скорей, Юлиус, чтоб нас не увидели». Но он встал у Марлис под окном, и тут она выглянула. Ждала ведь целый день. Кто любит, тот ждет, так? Давным-давно это было.
– Приди в мои объятья! – закричал он наверх, когда остальные вошли в дом. Закричал с таким выражением лица, будто не стоит, а лежит в заснеженном саду.
– Приди в мои объятья… – эхом отозвалась Марлис и, закрыв глаза, бросила вниз куклу Марту. Да, в тот самый день, когда они вернулись из Польши. К вечеру, в канун Нового года, и уже смеркалось. Она бросила куклу, он улыбнулся. Горько улыбнулся. Куклины волосы расправились и, казалось, задержали ее в полете. Она парила в воздухе, пока Юлиус не сделал шаг в сторону. Марта ударилась оземь. Снежный покров был тонок, и она разбилась.
Позже Юлиус говорил, что будь это сама Марлис, он бы не отступил.
Малое окошко и третий этаж, и выглянула Марлис, давным-давно.
– Ты чокнутый, что ли? – воскликнула Марлис.