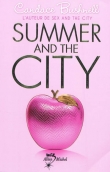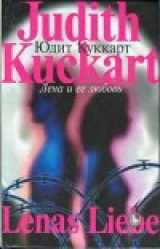
Текст книги "Лена и ее любовь"
Автор книги: Юдит Куккарт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
С той минуты, как в машину подсела Беата, лица у Дальмана и у священника такие, будто они кошка с собакой. Один не любит, другому не должно любить женщин. А Беата в это время заплетает, что если – паче чаянья – ей не удастся стать знаменитой, то она непременно займется изучением медицины. Но надо ей в кино, и вот она на пути к киноэкрану, в настоящий момент в красной машине «вольво». При этом она то и дело хохочет, как по молодости многие женщины, когда не подпускают к себе близко. В Берлин ее пригласили на кастинг, для какого-никакого сериала. Они как раз искали польку, которую брат заставляет зарабатывать на панели, а потом та собирается открыть частную балетную школу. И Беата опять заливается смехом, сохраняя томность взгляда, обещая готовность и горячность. Милая и непредсказуемая. Роль уж точно получит.
– Неправда, Лена, – поддерживает разговор Дальман. – На телевидении все ряженые-переряженые, а верность хранить не хотят и не умеют.
– Мне все равно, – вставляет Беата. – У меня нет постоянного друга.
– У меня тоже нету, – проговорился вдруг Дальман. И застыл с вытаращенными глазами, как чучело. Затем продолжил: – Вот Лена, наша Лена, пытается вывести разговор на другой уровень, а все потому, что у нас пассажир в машине.
А Лена вообще-то и рта не открывала. Сдвинула солнечные очки поближе к переносице. Венчиком впереди на столбе аистиное гнездо, пустое. День в самом разгаре.
С февраля по апрель Дальман и Людвиг сидели вдвоем перед телевизором и грызли земляные орешки. Иногда, так она себе представляла, на белом диванчике Дальмановой матери сиживала с ними и Мартина. Дальман, так она воображала, подкладывал гостям чистые салфеточки, чтобы не пострадала обивка. Точно как делала его мать.
«Все вместе, каждый за себя» показывали с понедельника по пятницу, и когда Лена появлялась на экране, Дальман и Людвиг точно знали, что грим на ее лице далеко не первой свежести. С семи утра она перед зеркалом заучивала выправленные тексты, под руками мастерицы из гримерной, которая стирала с ее лица заспанную козью морду, работала губочками и кистью, накладывала грунтовку и краски, согласовывала помаду с блузкой, а при этом заглядывала в текст у Лены на коленях, искала в зеркале ее взгляд и произносила вслух то, что Лена лишь мысленно повторяла, а именно: «Какая глупость!»
– Верно.
– А ты раньше чем занималась?
– Играла в театре.
– А ушла почему? Из-за денег?
Лена замолчала. А потом сказала такое, что сама не очень поняла, но зато очень хорошо прочувствовала:
– Кулисы нельзя выносить за рампу.
– Понимаю, – сказала мастерица из гримерной, и лак для волос легким облаком окутал голову Лены.
Дальман звонил по воскресеньям, как когда-то мать. Людвиг звонил ежедневно.
Она проживала в квартире из полутора комнат в Шенеберге, вход в глубине двора, печное отопление, балкон на север и без ванной. То есть ванна как таковая стояла в кухне на деревянном постаменте. Предыдущий жилец оставил всю обстановку, а именно – потрескавшийся коричнево-кожаный диванчик, кровать из толстого картона, гвоздь в прихожей вместо вешалки и голубку, несущуюся в уборной. Яйцо Лена выкинула во двор. Голубка взмыла в небо, уронила перышко, вернулась и с карниза на крыше нагадила на коврик перед дверью борделя. Часы работы: 14.00 – 1.00. Ближе к часу ночи отворялись окна в тесных комнатенках, а в баре женщина лет сорока ставила «Absolute Beginners»[14]14
«Absolute Beginners» – песня в исполнении Дэвида Боуи.
[Закрыть]. Последний танец! И так каждую ночь. Тихо только по воскресеньям. Женщина из бара жила на пятом этаже, и Лена слышала, как когти ее овчарки, когда ночью она сама себя выгуливает, скребут линолеум на лестничной площадке, в глубине двора. В холодные мартовские дни Лена включала обогреватель, положение три, или лежала на кровати. Отрываясь от книжки, видела иногда девушку в квартире напротив. Квартира такая же, только балкон на южную сторону. Из Хорватии, живет с мамой. Та вышивает розовыми с голубым нитками и занимается цветами в балконных ящиках, пока дочь в нижнем этаже дома выходит на смену. Через три недели Лена и мать начали здороваться. Ночью около половины второго дочь растирала себя под лампой на кухне. Не задергивала штор, не выключала света. Тихо-спокойно терла и терла, и Лена в последние секунды перед сном отмечала для себя уверенность ее движений.
Лена давала интервью. Кто снимается в сериалах, тот и звезда. Иногда она представляла себе, как Мартина в очереди у зубного врача открывает журнал и это интервью читает, но от Людвига его скрывает. Дизайнеры навязывали Лене одежду для фотосъемок. Вопросы, которые задавали ей журналистки с юными девичьими голосами, непременно касались жизни и смерти, но были облечены в бойкие и кокетливые формулировки. А когда юные девичьи голоса обретали письменную форму, Лена резко приобретала домик в Италии и намеревалась в мае выйти замуж – на том простом основании, что она выразила желание съездить в Италию, а бракосочетание с удовольствием представила бы себе в мае. Платья напрокат от «Диора» или «Версаче» после съемок немедленно увозила частная фирма доставки. И тогда Лена на миг облокачивалась о подоконник с видом на какой-нибудь внутренний дворик. Берлин оказался городом задворков. А однажды днем в воскресенье она сидела в метро напротив стайки подростков. Бальзам-ополаскиватель и жевательная резинка благоухали на весь вагон.
– Она, точно! He-а, не она. Да она!
Болтали, будто Лены не было рядом, будто ее и быть не может, если не в телевизоре. Лена, зажатая в угол, читала «Свет в августе» Фолкнера. В этой книжке одна героиня – тоже Лена, в застиранном синем хлопковом платье, беременная, без мужа, зато в огромных мужских ботинках. Тоже много глупостей наделала, но давно.
Людвиг смотрел на видео все, что пропускал из-за своих репетиций. Говорил, иногда пропускает серию, потому что сидит в буфете. За пивом.
– С кем же?
– С рабочими сцены.
Еще говорил, что иногда боится вечера, который после этого наступит.
– А на сегодня у тебя какие планы?
– Буду читать, – ответил он. Дождь стучался и в его окно тоже. Это отчасти объединяло.
С этой минуты она запретила себе звонить для проверки.
Представила, как он приезжает назавтра в гости, но только на денек. Приедет с цветами, и все женщины это увидят, у кого окна на задний двор. А он увидит диванчик возле помойки. Значит, тут ты и живешь? На миг берлинская жизнь показалась ей совсем убогой, будто вся проходила на помоечном диванчике. Потом мимо них прошествует овчарка с пятого этажа, поднимет голову, улыбнется собачьей своей улыбкой и уткнется мордой в Людвигов ботинок. На них с Людвигом вдруг нападет страшная серьезность. А овчарке тоже ужасно захочется, чтобы Людвиг остался. «То время, когда мы не вместе, навеки останется временем, когда мы не были вместе», – попытается она произнести второй раз в жизни.
– Береги себя, – пожелал ей Людвиг. Слышно, как по его комнате в С. разносится противная эзотерическая музыка.
– Что это у тебя играет?
– Подарили.
– Диск?
– Нет, кассета. Для меня переписали.
– А, – только и сказала она.
Закрыла глаза. За красными ставнями увидела женскую фигуру. В кожаной одежде. Сняла шлем, говорит: «Это я». Лена приближалась к этой мысли, как приближаются к месту аварии. Мысль обретала женское обличье. Женщина шла там, на улице, под дождем, лившим и у нее и у Людвига, и по мере ее отдаления любовь разгоралась пламенем. Косые струи дождя, по крышам и над асфальтом, весьма способствуют тому, чтобы спина этой женщины навеки осталась у Людвига в памяти. Но прежде, чем исчезнуть, она обернулась, подняла маленькую белую ручку, вроде бы для прощанья, и кое-что сказала – для такого расстояния на удивление громко. Кстати, сказала, я больше не работаю помощницей портнихи, я теперь пою на сцене, я субретка. В тяжелых походных ботинках являюсь на репетиции. Людвиг находит это забавным. С тех пор, как в «Женитьбе Фигаро» я пою Сюзанну, Людвиг тоже исполняет более значительные роли. Например, воздыхателя Марселины, с двумя тряпичными собачками в руках и со шнурками на шее, за которые он может незаметно дергать, сообщая движение своим мопсам. Людвиг находит это забавным, да и меня тоже. А если что-то считаешь забавным, отчего же не позабавиться? Мы вместе запишем кассету. Женщина улыбнулась. Со шлемом в руке сказала, мол, режиссер велел вчера Людвигу поскорее разобраться со своими шавками. Людвиг спросил – почему, ведь он уже кое-что понял на театре и требует мотивации. Тут все умолкли и уставились на Людвига, и, по-моему, это доставило ему удовольствие. Стоял с таким видом, будто отныне всерьез собирается выступать на сцене. Есть у тебя мотивация! – очень тихо и весьма раздраженно сказал режиссер. Мопсы, говорит, тебя с ног до головы проссали, вот теперь и вытирай им задницы. Уходя со сцены за кулисы, Людвиг взял, да и повернулся, и давай принюхиваться к тряпичным попкам, несомненно, провонявшим сигарами бутафора. А я бросила ему вслед катушку ниток. Наши глаза встретились. Она! – читалось в его взгляде. Он! – читалось в моем. А режиссер сказал, дескать, благодарю тебя, Сюзанна, за обеспечение мотивации. После репетиции мы поехали домой вместе, – говорила женщина, все больше напоминая Мартину и размахивая шлемом. У меня в прихожей очень долго прощались. Он притиснул меня к двери, за которой декор для витрины. Помнишь, мы там в детстве играли в плохую погоду? Мы приехали на его мотоцикле, довольно поздно. Улица спала глубоким сном, как по зиме деревня. Название нашего магазина виднелось только очертаниями букв, пустых, без подсветки. Ласковый воздух и странная тишина – вот что нас окружало, и ни следа человека, способного напомнить, что мы не одни в этом мире. Он долго прижимал меня к двери. От него пахло пивом, от меня эмскими сладко-солеными пастилками, – говорила Мартина, – а летом мы поедем вместе в Шотландию, с двумя велосипедами и палаткой. Днем я буду надевать застиранное синее хлопковое платье, а ночью мужскую майку в рубчик. Какие чистые краски, когда утром мы высовываем головы из палатки, чтобы узнать погоду! Шотландское лето похоже на осень. Спать я с ним буду, но как часто – пусть сам решает. Лягу рядом и стану для него всем на свете, чужой и все-таки прежней. Стану голосами из дому, звяканьем посуды, бульканьем кофейного аппарата, скрипом садовой калитки, звонком в дверь, улыбкой почтальонши и похлопываньем ее тяжелой кожаной сумки, стану отзвуком всех звуков, уверяющих: нам до тебя есть дело! А его родители меня не полюбят. Вернемся из Шотландии и еще три недели проведем вместе… Это Мартина говорила уже невнятно, но шлем не надела, хотя начала собираться. Три недели он заходит за мной вечерами после спектакля, – продолжала она, – если я занята, а он не занят. Появляется как раз к аплодисментам и здоровается с билетершами, ведь они его очень любят за красивое лицо, не сравнить с их собственными сыновьями. Три недели подряд он стоит в самом конце зала и свистит, когда я выхожу на аплодисменты. И думает, и я тоже думаю: наш посвист. Потом он курит, когда я ухожу со сцены и направляюсь к нему в ярком неоновом свете коридора, и выражает свою радость всегда одинаково. Вот она – ты! Не надо, не ходи свистеть, – скажу я ему однажды вечером, и однажды вечером он не придет. Ночевать у меня он один раз все-таки будет, но на балконе. А после этого можешь его забирать. Если увидишь, что он другой, знай: это – я.
Мартина таяла в дожде, но волосы у нее не намокли, даже когда она наконец-то исчезла. А эзотерическая музыка по-прежнему звучала в комнате Людвига.
– Лена?
– Да-да?
– Что с тобой?
– Людвиг, – заговорила она, – как чудесно шумит дождь и у меня тут, и у тебя вдалеке. Не хочешь поехать со мной летом в Шотландию?
– Хочу, – сказал Людвиг.
– Тогда выключи, наконец, эту музыку.
Это было вскоре после полуночи. Лена взяла велосипед, помчалась на велосипеде сквозь дождь. Под аркой городской железной дороги пел соловей. Поехала потише, хотя вымокла насквозь. Семафор стоял на красном. Затормозила, спрыгнула, посмотрела на рельсы. Долго смотрела. В какой-то миг дождь прекратился. И капало только с деревьев.
Давно уже едут молча. И вдруг из ниоткуда возникает Дальман, спрашивая, из-за чего они поссорились в среду после Троицы.
– Кто?
– Людвиг и вы, Лена, – уточняет Дальман. – В ту среду, когда вы вернулись с ярмарки, стояли в прихожей в грязных ботинках и кричали.
– Кричали… – отзывается она тихим эхом.
– А потом вы в грязных ботинках побежали наверх, а Людвиг в руках держал ваш новый телефон, – продолжает Дальман. – А по радио прекрасная музыка. Розалинда Карик играет вторую партиту до минор Баха, сочинение 826. Точно то же самое уже было второго мая, сорок четыре года тому назад. Даже в это самое время дня, в 1956-ом году. Теперь по заявке Августины такой-то из Ландау передавали архивную запись исполнения госпожи Карик, только ее давно уже не было на свете, поэтому я зажег свечку. Хоть какое-то утешение должно быть у человека, если у него в комнате не четыре темных угла, а больше? Углы, из которых они и приходят, – заканчивает Дальман, и даже в профиль выглядит уныло.
– Кто приходит?
– Покойники.
– Вы имеете в виду вашу маму?
– Нет.
– Тогда кого же?
– Маму, но вашу.
– Послушайте, будет неловко, если нас кто-нибудь услышит.
– Ну, Рихард многое знает о людях, из исповедей хотя бы. Бог, как мне подсказывает опыт, все равно не слушает, а девочка нас не понимает. Так что же?
– Да, так что же?
– Однажды ваша покойная мама появилась из угла за телевизором, села ко мне за стол и принялась черным гребнем водить по начесанным своим волосам. «Брось, Марлис», – сказал я ей, а она только посмотрела на меня дерзким взглядом и самоуверенно задрала свой маленький, круглый подбородок, свой маленький, круглый, дурацкий и такой простецкий подбородок – понимаете вы, Лена, что я имею в виду?
– Нет, не понимаю. Но мать, вы говорите, появилась прямо из угла? Живая – или как? Как видение, воспоминание, представление?
– Да какая разница, – вздыхает Дальман. – А вы знаете, что было сорок четыре года назад второго мая, когда солнце так припекало?
– Ремилитаризация, – неуверенно произносит Лена. А Дальман как стукнет кулаком по передней панели. Такого еще не бывало! Бедный его кулак.
– Второго мая 1956 года ваша мама в белом платье из тафты сидела за моим столом, то есть, собственно, за столом моей матери, и пила кофе, прикрыв колени салфеткой, чтобы не закапать свадебный наряд. Все время между регистрацией в ратуше и венчанием в церкви она провела у нас. Мы с матерью готовились к выходу, и по радио эта Карик играла на фортепьяно.
– Вот как?
– Да. Венчание в полдень. Я свидетель, а готовые кушанья разложены на Колленбушервег по кроватям, в больших черных кастрюлях под перинами. У соседей перины тоже одолжили. После угощенья мой друг Освальд играл на аккордеоне, тогда-то он и познакомился с моими сестрами. И выбрал не Зайку, хотя она красивее, а Хельму, старшую. Правда, ей и надо было первой замуж. Вот, и все время на меня глядя, она – невеста, я имею в виду – выпячивала подбородок, слишком маленький, чтоб его так выпячивать. Не казалась она мне в тот день ни красивой, ни таинственной, а казалась просто глупой. Одна у нее была тайна – что она глупа.
И Дальман вытирает глаза за стеклами очков.
– Пожалуйста, простите, – говорит ему Лена.
– За что?
– За то, что мы своими криками помешали вам, когда передавали в записи эту Карик.
Сдерживая в голосе крещендо, Дальман повторяет:
– Да, передача по радио заканчивалась. И ведущий объявил, что напоследок предлагает послушать вторую партиту до минор Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Розалинды Карик, запись лета 1956. Сказал «лета», не «года», а вы уже в комнату побежали, в грязных своих ботинках.
В субботу вечером, когда она вернулась из Берлина, Людвиг уехал на гастроли в Мадрид. Цвели каштаны. Троица. Еще светло. И снова она стояла на вокзале в С. Вот и автобус, у него конечная возле ярмарки, маленькой замусоренной площадки у подножья Красных гор. Девочкой она возлагала на эту ярмарку большие надежды. Не из-за тира и скрипучих горок, не из-за соленых огурцов и мороженого. Она жаждала сенсаций, великих чувств и самых толстых в мире женщин, когда они скачут, выкатив груди, на двухголовой овце или на пятиногом теленке. А как стемнело, тринадцатилетняя Лена за площадкой автодрома возлагала большие надежды на любовь или хотя бы на непременно связанное с таковой насилие. Юбочка короткая, на талии поясок-цепочка, и давно пора домой. Но она не уходит, чтобы наконец-то встретить мужчину, способного выразить свою любовь бурно и сделать ее женщиной двумя-тремя ловкими приемами.
Покуда из автобуса вываливались семейства, увеличившиеся в составе за счет огромных плюшевых зверей и горшков с юккой, Лена неловко и торопливо пыталась взобраться на площадку. Какой-то ребенок испачкал ей сахарной ватой всю замшевую куртку. Папаша протянул визитную карточку «по поводу химчистки» и записал номер мобильного на обороте. «Мой личный», – добавил. Она улыбнулась, заметив красивые зубы. Он моложе. Тогда, что ли, и началась эта дурацкая история?
Людвиг в Мадриде. Вернется только в среду после Троицыных выходных. Никто ее не встречает, вот и автобус без нее уехал. В руках чужая визитка, при этом чувство, что субботний вечер мог бы завершиться и повеселее.
– А мы ведь знакомы, – произнес в этот момент позади нее чей-то голос.
В среду все и произойдет, и нельзя будет помешать происходящему. Даже погода станет ветреной и хмурой. В среду, за спиной у Лены и Людвига, рабочие займутся разборкой карусели на праздничной ярмарке. А они с Людвигом станут ссориться под сердитый ветер в лицо, не пускающий к ним лето. Вороны начнут ворошить помойку между ярмарочными будками, с достоинством, словно между прочим, переворачивая одну за другой грязные бумажки в поисках корма. По непостижимым причинам Лена и Людвиг окажутся у фонтана на замусоренной ярмарочной площадке. Только чтобы немного, совсем немного пройтись. Безостановочно будут ходить и ругаться. Там, около автодрома, мужчины в ковбойских шляпах, проверяя новые колонки для следующего раза, заведут Марианну Розенберг. «И я как ты, а мы песок и море, и оттого я так тебя люблю», – против ветра запищит та детским голоском из четырех пар новых колонок. Даже вороны, и те нахохлятся в такую погоду, какая будет в среду. Лена наденет зеленую юбку, и парни с ярмарки станут при Людвиге пялиться на ее ноги. А они с Людвигом как пойдут орать друг на друга, но дело вовсе не в словах, которые они выкрикнут. Только эта площадка поймет, в чем было дело, разглядев подлинный смысл в видимой бессмыслице. Потому что эта площадка, какая бы она ни была маленькая и замусоренная, знает людей. Площадка у подножья Красных гор. Но не будь Красных гор на свете, так часто думала Лена, она и вовсе не разобралась бы с собственной жизнью.
– А мы ведь знакомы.
Автобус тронулся от светофора, она обернулась.
Лицо, действительно, знакомое. Посмотрела по случайности на него чуть дольше, чем намеревалась. Потом приняла задумчивый вид. Вот так оно начиналось.
– Точно, я вас знаю, – настаивал молодой человек.
– Я вас тоже.
– Вы учительница немецкого у моей младшей сестренки.
– А вы вратарь на второй день Рождества, – и она взялась за синий чемодан, поскольку тот повалился на бок. А он посмотрел на чемодан, потом на ее плечи. И глаза у него вдруг стали с поволокой. Эдакий весенний взгляд мужчины, прилипчивый и полный ожидания. – Помните? На второй день Рождества.
– Помню, конечно, – согласился он. – Нам в тот день пришлось прервать игру из-за погоды.
– К тому времени я уже ушла, – сказала Лена. А почему она говорит «я» вместо «мы»?
– Проводить вас до дому? – спросил он, указав на два чемодана и взявшись за ручки. «Make you sweet»[15]15
«Буду ласков с тобой» (англ.) – из песни «Gonna Make You Sweet (everybody Dance Now)» в исполнении «С&С Music Factory».
[Закрыть], – прогремело из открытой машины, когда та промчалась мимо. Рот у него капризный. Явно любимец женщин. Тащил оба чемодана, она за ним. Съемки сериала «Все вместе, каждый за себя» завершены. Устала, занервничала, лицо подурнело от ежедневного грима.
– Я ищу свою сестренку.
Лена была уверена, что к вокзалу он явился искать девочку в возрасте той, младшей, сестренки на сегодняшний вечер. Девочку на пути с ярмарки, куда в возрасте Лены уже не ходят. Разве только имея малолетнюю дочь с ресницами, удлиненными тушью как мушиные лапки, дочь, которая болтается возле автодрома и которую с наступлением темноты домой можно уволочь только за волосы. На ходу он повернулся:
– Думал, может, вы ее видели.
– Я вовсе не учительница.
Открыл дверь машины и, поймав его взгляд, прочитала: выглядишь неплохо, но все равно неудачница. В последующие недели она часто додумывала за него разные фразы. Использовала его немногословность для ведения внутренней беседы. Опустила козырек от солнца, глянула на себя в крошечное зеркальце. Кто сказал, что неудачливый человек теряет ценность?
– Что такое?
– А лет вам сколько? – спросила Лена.
Отец его владеет булочной у Цветочного фонтана.
Двадцать с лишним лет назад, когда Лена уезжала из города, он пошел в детский сад. По возвращении из Берлина С. показался ей пыльным пригорком на лунной поверхности. Этот город она не могла принять, как те, другие города, увиденные ею ночью с заднего сиденья такси на пути в гостиницу, в одноместный номер прямо рядом с лифтом, неутомимо скребущим стенку. Шум приглушен стенкой, оттого еще более неприятен. Во время таких ночных поездок ее часто охватывало неожиданное желание, и еще желание разделить это желание. Тогда она смотрела в боковое окошко в поисках какого-нибудь чужого тела, будто выискивает место для парковки. Потом, возжелав Людвига, она про то желание позабыла. Людвиг, должно быть, лет на десять и на целую мыслящую сущность старше человека с ней рядом.
Не пристегиваясь, держа руль одной рукой, он то и дело поглядывал на нее.
– Адриан, – произнес он. – Меня зовут Адриан.
Ничего больше не сказал, и она зарыла в свои волосы пятерню.
Швейцар на входе в «Блэк Бокс» приветствовал его, хлопнув по ладони. Лена стояла в темноте неподалеку. А внутри оказался мягкий свет. Выпили по два джина с тоником и вышли. Соломинку она прихватила с собой и мяла в руке всю дорогу до его квартиры. На коврике перед кроватью Адриана валялась спортивная сумка, а еще свитер – с капюшоном и с белой надписью. В кровати сидел мягкий пингвин, представленный ей не то Томом, не то Тилем и наблюдавший, как застряли ее трусики на пальцах ноги на все то время, что Адриан пытался ее любить. Причем очень грубо, и это ей особенно понравилось. На Людвига совсем не похоже. Адриан заснул, и она наклонилась с кровати, пошарила в темноте, уцепилась за край одежды, притянула к лицу.
– Здорово от тебя несет потом, – сказала она свитеру с капюшоном.
Ночь над булочной длилась недолго, часа три. Стоящими оказались минуты три, не больше, и не потому что незабываемы, а потому, что просто были. Внизу в доме запахло уже свежими булочками на воскресенье, но Адриан все еще прижимался своей щекой к ее щеке, рукой к ее волосам, губами к ее шее. Благодаря запаху булочек, впервые за долгие месяцы ей опять стало лучше.
Рано-рано, около половины пятого, она тихо встала и с туфлями в руках скользнула вниз по лестнице. Через витрину молочного стекла, между словами «Выпечные изделия», довольно далеко отстоявшими друг от друга, она разглядела силуэты приземистого мужчины и худой женщины, работавших сильными руками. На полставки в булочную! Вот что пронеслось в мыслях. Как часть ее представлений о несуетной и скромной жизни. А чемоданы лежали в багажнике у Адриана.
В воскресенье она смотрела по телевизору старые австрийские фильмы. Дальман переставил кровать в прежней ее комнате в Левенбурге. За окном отцветали каштаны и липы. Она ждала у открытого окошка. Ждала своих чемоданов. Время от времени какой-нибудь автомобиль медленно забирался в гору и останавливался у Дальмановой садовой калитки. Кто ждет очень долго, заметила она, из нормального человека превращается в идиота. В воскресенье, но ближе к вечеру, прибыли чемоданы. Адриан у нее не остался, но они договорились о следующей встрече. Дальман в это время как раз отлучился за тортом.
Понедельник.
Во вторник никто не заходил.
В среду приехал Людвиг.
Закинул пустые чемоданы на платяной шкаф. Потом пошли прогуляться и разругались. Усталые глаза Людвига действовали ей на нервы.
– Чем ты все-таки занимался в Мадриде?
Он покрутил пальцем у виска. К тому же начался дождь, и они здорово испачкали ботинки на ярмарочной площадке. Особенно Людвиг. На обратном пути купили телефонный аппарат для ее комнаты.
Дальман был дома, но не показывался. Слушал фортепьянную музыку. Пошли наверх, и тут она увидела ботинки Людвига на ковре в своей комнате. Тот стоял прямо перед ней, широко расставив ноги. Этой подчеркнуто мужской позы она за ним до сих пор не знала.
– Летом я пойду на курсы менеджмента, – сообщил он, неспешно распаковывая телефон, который хотел подключить. Потом закурил. Он всегда закуривает, если ему надо работать двумя руками. Наверное, сигарета в уголке рта была для него третьей рукой, способной сделать больше, чем обе другие. Наверное. Об этом она размышляла довольно часто. А теперь она вообще не знала, надо ли ей думать о Людвиге. С телефоном в руке он принялся искать подходящее место поближе к розетке. – В Коммерц-банке.
С этого и началась вторая часть большой ссоры.
– Консультации и работа с клиентами, в Коммерц-банке, – пояснил он. – Для этого у меня как у бывшего священника отличные предпосылки.
– Почему это?
– Я обладаю опытом, потому что многих исповедовал.
– Это кто сказал?
– Дальман, – ответил Людвиг.
Тот, бывший служащий городского управления финансов, присоветовал Людвигу не пропустить поезд, уходящий в новое тысячелетие. Лена посмотрела на его запачканные ботинки, потом на свои собственные. Ясно, что их следы остались на красивой Дальмановой дорожке в прихожей. Ясно, что тот слышал, как они ругались и продолжают ругаться. Стояли близко, чуяли дыхание друг друга. Раньше они в такие минуты начинали целоваться.
– Что же это за поезд такой?
– Когда не деньги выкладываешь за товары, а они сами становятся товаром, – излагал Людвиг. – Мировые биржи, как считает Дальман, определяют нравственное состояние общества.
Посмотрела ему в спину. В затылок, узковатый для взрослого человека. Чемоданы громоздились на шкафу.
– Вот что, значит, считает Дальман? Уж он-то знает! Дальман, который освоил в пыльном кабинете пыльной ратуши карманный калькулятор, но от компьютера отказался и собственноручно переставил его на стол другой сотрудницы. Дальман, который в руки-то ничего лишнего не возьмет, чтобы не испортить маникюра! И вот этот Дальман, оказывается, он самый умный, и точно знает, на что будет спрос в следующем тысячелетии. Людвиг, ты рехнулся! Когда это вы такое удумали?
– Когда ты была в Берлине, – признался Людвиг. – Можешь сходить вниз и проверить, работает телефон или нет?
– В жизни больше в Берлин не поеду.
– Первого августа я должен быть во Франкфурте.
– Зачем?
– В центральном офисе, на семинарах.
– О! Религиозная мысль на службе банковского дела! – расхохоталась театральным смехом. Таким, какой уже использовала против него на ярмарке, а он изумленно уронил коробку с телефоном. – Работа с клиентами на основании опыта исповеди?
– Да.
– Нет, – заявила Лена. – Это пустое. Тебе надо изучать философию. А годы, потраченные на теологию, будем считать неудачей.
– Чем-чем?
– Опрометчивым и чересчур конкретным использованием твоей мыслящей сущности. Будешь учиться, потом станешь писать. Писать – дело божеское. Чувствовать себя будешь отлично. Писать – это чудо и несчастье вместе. Ты ведь такое и любишь.
– У меня идея получше, – усмехнулся Людвиг. – Сходи-ка вниз и позвони сюда. И скажи что-нибудь внятно, я проверю, работает ли розетка.
Пошла вниз. Дальман высунул голову из столовой. По радио передавали фортепьянную музыку, старая запись, моно.
– Снимите, пожалуйста, обувь, и не надо так кричать, пожалуйста, – пробурчал он, потом тихонько добавил: – А Людвиг что-нибудь заметил?
– Что он должен был заметить?
– Ну, это, чемоданы, – и Дальман побежал к телефону, благо тот как раз зазвонил.
– Алло! – заорал он в трубку. – Алё-алё! Это кто?
– Это я, я, – послышался голос Людвига, когда Дальман сунул трубку ей к уху и одними губами произнес: «Люд-виг».
– Я на тебе женюсь, – заявил Людвиг. К сожалению, в этот момент он смеялся.
– Я за тебя не пойду, – отказалась она вполне серьезно. – Стара я уже для этого.
Не видя Людвига, она вдруг увидела синий его взгляд, неуверенный, умоляющий. Перед ней стоял Дальман, указывая на грязные ботинки.
– Боже мой, – вздохнула она.
– Что такое?
– Устала, переутомилась, все мышцы болят.
– Отчего? – спросил Людвигов голос, в трубке звучащий нежно.
– Отчего? – спросил Дальман еще тише.
– Не знаю. Наверно, от таскания чемоданов.
– Поднимайся сюда, – посоветовал Людвиг. – С телефоном все в порядке.
Дальман вернулся в столовую. Ведущий объявил последний номер концерта. Какая-то запись 1956 года. Лена пошла вверх по лестнице.
Вот так всегда. Людвиг радуется, что телефон работает. Он всегда радуется вещам, которые можно пощупать рукой, это и к ней относится. В трудные минуты жизни Людвиг начинает что-нибудь мастерить, работать руками, будто тем самым можно отремонтировать и все прочие неполадки. Выход у него всегда найдется, и всегда конкретный. Тот факт, что выход есть, он считает обычным делом. И почему он не открыл ни велосипедного магазина, ни мастерской по ремонту мотоциклов? Вот он тут стоит, а ведь полжизни провел не на той стройплощадке.
У себя в комнате она открыла окно с видом на долину. В комнату пахнуло липой. Черная «веспа» толстой цепью привязана к самому маленькому деревцу. Она задернула занавески.
– Раздевайся, – сказала, не повернувшись.
Звуки у нее за спиной выдавали возбуждение Людвига. Подумала о таких мужчинах, которые ее матери точно были бы несимпатичны, перебрала в уме детские площадки, автомобили, входные двери, палатки, гостиничные душевые, гардеробы, репетиционные залы, вспомнила церкви, кинотеатры, землю в лесу, барные табуреты, полки в ночных купе и все прочие чужие койки за последние два десятилетия. И растраченное там желание. Неужели суть человека в том, что им позабыто, но о чем он по-прежнему мечтает? Неужели он призывает любовь, только вспоминая? А всякая мечта зарождается в былой неудаче? Остерегайся своих желаний, – говорят китайцы. Сердце ее забилось часто-часто, словно пытаясь о чем-то сообщить. Повернулась. Людвиг на коленях в ее кровати. Что сейчас произойдет, то уже было, было. На секунду перина показалась ей мешком из пылесоса – лопнул, и серые внутренности лезут наружу.