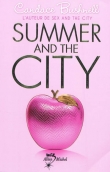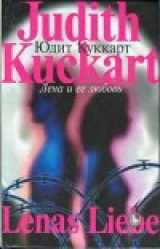
Текст книги "Лена и ее любовь"
Автор книги: Юдит Куккарт
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Так и сказал?
– Нет, конечно, но очень хотел.
И вдруг комнатный цветок обронил три листка вместе на больничный линолеум. Все три еще зелены. Лена смотрела на Людвига. Холодно. Остывшая печь не могла бы смотреть холодней. Лена ревновала к тем временам, когда совсем без нее шла Людвигова жизнь.
– Так что ты сказал епископу?
– Что я прошу свободы от целибата, – и он соскочил с перил, нагнулся, взялся за материнскую сумку.
– Как ее зовут?
– Это неважно.
– Ну, говори!
– Мария, – решился он.
И Лена засмеялась.
– Ну, тогда все свои, – и тут же пожалела, что оказалась не на высоте. Зачем попросила о поцелуе?
– И что же епископ?
– Предложил мне остаться на работе.
– А как быть с той женщиной?
– А так, как делают все мои коллеги.
– Изыди, Мария, изыди! – воскликнула она.
– Ничего подобного, она может вести у меня хозяйство, – успокоил ее Людвиг. И на секунду положил свою руку, теплую и тяжелую, Лене на голову. И невольно ей показалось, что он не просто ведет разговор, но хочет ее защитить. Когда они выходили из больницы, дежурная ела ложечкой йогурт.
Шли по главной улице С. и за церковью с двумя зелеными башнями повернули направо, к Левенбургу. Людвиг нес сумку, но не с той стороны, где шагала Лена. И расстояние между ними было не шире ладони. Он рассказал, как опоздал на елеосвящение: положил в сумку письмо к епископу, но опустить в ящик по пути не решился. Только на краю города, где конечная автобусная остановка «Дизельштрассе», все-таки его отправил.
– Значит, на похоронах ты был уже не настоящий священник, а переодетый?
– Точно.
– А это не грех?
– Таково было ее желание. И это самое главное, – объяснил Людвиг.
Шли по Аптечному переулку, и где-то возле отеля «Дойчер Кайзер» в воздух взмыл лист газеты, и все летал, и никак не мог успокоиться, даже попав в водосток.
– Пока она здесь жила, у тебя на земле всегда был дом, – прибавил он.
Они регулярно встречались на спортплощадке «Роте-Эрде». Лежали на широкой скамье, чье дерево от непогоды расщепилось и посерело. Лежали лицом к лицу, или ухом к уху, ногами в противоположные стороны. Мужчина и женщина, а видны только с небес, и редко-редко ветер делает синие прорехи в сером облачном покрывале. Фруктовые деревья теряли свои плоды. Благоухал сад, неумолимо и сладко, и она все чаще собирала в пучок волосы и прихватывала очки на свидание. Час-другой они проводили в кафе на окраине города. В открытые окна со стороны многоэтажек несся шум автобана. Им было покойно. Людвиг лишился прихода, она лишилась ангажемента. Вместе это дважды ничто. За столом в сторонке, у сигаретного автомата, они тихонько читали друг другу вслух. Чтение стало их способом вести разговор чужими словами.
– «Посреди того мира, где не хочется больше жить, людям вдвоем иногда удается, хотя и не часто, обрести уголок, полный тепла и солнца, капсулу в открытом пространстве. Так свершается изгнание в рай». Это сейчас все читают, – и Лена закрыла книгу.
– Наверно, я чего-то не понимаю.
– Очень может быть.
– Чего же?
– Вероятно, девяностых годов, – заключила она.
И в этот день они больше не читали.
Ночь в траве. Лена первой встала со скамьи, сбежала вниз, к лужайке у ручья, и улеглась в траву, высоко уходящую заостренными кончиками в теплый осенний вечер. Там, где ручей вливается в пруд, они на минутку присели. Пела птица, одиноко и отчаянно, будто в предчувствии дождя.
– Иди! – воскликнула она.
– Куда?
– В мои объятья, – рассмеялась и раскинула руки, и побежала с раскинутыми руками, но не к нему, а от него, вперед.
Когда они перестали целоваться и открыли глаза, уже стемнело. Лес начинал шуметь. Рассеянный свет луны лег на лицо Людвига свинцовой тенью.
– Прежнее теперь невозможно, Лена.
Под ним серый свитер, она сверху. И таким неиспорченным кажется ей Людвиг, когда лежит в траве с руками над головой, будто привязанный к стеблям. Щекой она тронула его щеку. Закрыла глаза, и ей вспомнился миг давным-давно испытанного счастья. «Лихтбург», старая киношка в С., открыт запасный выход во двор прачечной. Там гладят белье, и запах доходит до зала, где кончился фильм и она сидит с краю одна, заливаясь слезами. У мороженщицы волосы пахли морозом, и во время любовной сцены на экране Лена спустила гольфы до щиколотки. Выйдя из зала в вечер, она остановилась, полная ожиданий, и в воздухе по-прежнему держался запах свежевыглаженного белья.
– Лена?
Открыла глаза.
– Что ты сейчас видела?
– Красивый пейзаж.
Трава совсем влажная. Вместе они отправились в траву. Не в постель. Вот какой стала ее ночь. Пойди они вместе в постель, он бы точно бросил свой спальный мешок рядом с ее периной, чистил бы зубы не менее трех минут, а носки сунул в ботинки, закрыл бы сначала «молнию» несессера, потом «молнию» спального мешка. Повернулся бы спиной, недостижимый и утомленный. Одна рука вытянута вверх по стене, только чтоб не коснуться ее, и по бессознательным движениям пальцев она может судить о глубине его сна. Но отправились они не в постель, а в траву. Никогда еще в жизни не давалось ей с таким трудом претворение страха в радость. Близехонько журчал ручей, где они прежде ставили крохотные водяные мельницы. Лопасти из пластмассовых ложек нежных цветов, корпус – из бутылочной пробки. Семь порций мороженого, бутылка вина – и вот уже можно смастерить новую. Об этом она и думала, расстегивая пряжку на его ремне. Ботинки стащила по одному босыми своими ступнями и, увидев, как он возбужден, помянула американские трусы. Смочила пальцы во рту и дотронулась ими до Людвига, он изогнулся. Облизала его пальцы и – давай, сказала, потрогай самого себя, и он коротко выдохнул, когда это сделал. Между ними – то давнее прощание и третье лицо, он-то и наблюдает. Но должен же он… Другие мужчины забывали Лену, как забывают зонтик. Людвиг не забыл. Ей недоставало того, что тогда не произошло между ними. Это чувство и стало для нее реальностью. Накатами вступал шум леса, а потом все глуше и глуше, как дождь.
– Иду, – выдохнул Людвиг. Почувствовала на пальцах его зубы. Как трава, вставал и выпрямлялся под ними пустой дом.
Она держала его. И ничего больше. Оба замерли, когда он кончил. Его пятки ударили по траве, потом – в небо.
Шум возвратился в кроны деревьев и мало-помалу затих. Прежнее теперь невозможно, – такие вот слова. Время – начало третьего. Луна в молочном ореоле совсем круглая.
– Однако, однако… – проговорил Людвиг.
– Что у тебя завтра? – спросила Лена.
– Завтра я везу минералку.
– Куда?
– В Зауэрланд.
– Прекрасно. Я с тобой.
Они распрощались у здания Окружного центра. Лена смотрела ему вслед, Людвиг не оборачивался, и она думала, что если когда-нибудь он от нее уйдет, то она пойдет следом.
Людвиг жил в нижнем этаже родительского дома. Десять квадратных метров гостевой комнаты рядом с сауной, и обшивка такая же. Из окна видно оштукатуренную белую стену. Белую, как молоко. Или как детский гробик, – словами Людвига в дурном настроении. Между окном и стеной лесенка ведет наружу. Для него одного. Мать его по-прежнему хороша собой. Поняла, что он останется, и поставила в комнату телевизор. Теперь он не священник – приятного в этом мало, но все-таки мать его поняла. Мечтала о внуках и рада была бы видеть рядом с ним женщину помоложе.
– Лена? – удивилась она. – Разве Лена не старше тебя?
А потом привыкла и к ней, как привыкают к уличному шуму.
Та искала работу. Когда поняла, что останется, купила старый красный «вольво». Много и бесцельно каталась по округе, иногда ездила на машине в соседний городок. Там вела курс актерского мастерства и импровизации в Народном университете. Занятия, заполнявшие весь уик-энд, прозвала «Любовь приходит и уходит». Через три месяца оказалось, что одна из девушек беременна. Тут же, на курсе. От Клауса. Шли дни и складывались недели, и вот прошел год.
– Что с нами такое? – сказал ей Людвиг однажды вечером, в начале ноября, в кабине грузовика на шоссе близ Винтерберга, между Вердолем и каким-то городишком, утопающем в дожде. Пустые бутылки вели свой разговор у них за спиной. В кабине жарко, воздух от печки сухой, и губы у нее пересохли. А ночью ей снился сон. О Людвиге и о ней. Во сне они танцевали. Высокая у нее прическа, и пуста большая незнакомая квартира. Только на столе бочоночек с маслом, а больше ничего. Все остальные танцуют тоже. И тут ей надо выйти. В небе светит луна. Мгновение Лена стоит в нерешительности. А когда возвращается, то первым делом смотрит на фасад, вверх. Свет нигде не горит. И все же она видит, как в окне третьего этажа кто-то резко задергивает штору. Штора тоже темная, выравнивается, становится черной. Дверь в подъезд открыта, и в квартиру тоже. Она идет в конец коридора. Плащ ее, должно быть, так и лежит на широкой кровати в спальне. Вечеринка давным-давно закончилась. Но вместо плаща на широкой кровати в спальне лежат двое, и между ними угадываются следы какого-то беспокойства. Спинка кровати высокая. Внимательней смотрит – ничего не различает, скорей бы убежать – и стоит как вкопанная. Обеими руками крепко держится за спинку. Дерево темное, старинное. Один из этих двоих – Людвиг, и лежат они на спине, далеко друг от друга, носами в потолок, чтоб друг на друга не смотреть. Груди женщины тяжело разошлись в стороны. Мужчина, Людвиг, сам себя держит за руку: его руки над головой, одна в другой, будто в поисках утешения. Глаза женщины закрыты, его – нет. Смотрит на Лену. Нежно, как ей показалось.
Стоит ли мне возвращаться? – отвечает она долгому взгляду.
Но другая уже встала. Светлые тугие кудряшки, какие завивают щипцами. Покидает комнату, и ее ягодицы светятся белым в дверном проеме. Тут встает и Людвиг, одевается на краю постели. Белье светится белым, как ягодицы незнакомки.
Ты спал с ней.
Нет.
Спускаются, выходят на улицу.
Ты спал с ней.
Нет.
Лена обеими ладонями сжимает его голову.
Спал?
Его лицо в ее руках, и оно тоже белое.
Спал?
Нет. То есть да. Но коротко.
И он высвобождается. Пустота между ладонями сохраняет форму его головы. Лена озирается вокруг. По обеим сторонам улицы закрыты ставни всех магазинов. Улица темных ставней. Места этого она прежде не видела. И в других снах тоже.
– Людвиг!
Она не стала пересказывать сон. Даже тогда, когда в кабине повисла тишина и шуршала только шоколадная обертка, которую Людвиг пытался надорвать зубами.
– Что с нами такое? – повторила она за ним. – Мы потерпели крушение?
Рука у нее на плече.
– Это наше дополнительное время.
Она родилась в 1960-м, когда Элвис Пресли так и не выступил в Дрездене. Людвиг – в 1963-м, когда Джон Ф. Кеннеди скончался на сиденье своего лимузина, закрыв один глаз и открыв другой. За те месяцы, что она провела в С., Лене впервые удалось отделить важное от неважного и в самом этом различии навести изумительный порядок. Жизнь.
– А дополнительное время – это сколько, Людвиг?
– Пока один не забьет другому гол, – убрал руку и пошел на поворот. Бутылки звякнули громче. Дорога узкая, фахверковые дома, булыжные мостовые. В С. они вернулись поздно.
Вот погасла светящаяся вывеска над вокзальной закусочной, и на втором пути ждет последняя электричка. В кафе «Венеция» тоже темно. Белые пластмассовые стулья опрокинуты на столики у края тротуара. За одним из столиков сидит в темноте женщина. Они проехали мимо старых вилл старых зубных врачей, обосновавшихся когда-то, как и Дальманово семейство, в южной части города. Вместе вышли и осторожно прикрыли двери кабины.
В тот день, второго ноября, соседский ребенок распевал в домофон песенку про маленьких утят со всеми их страданиями. Явно сидел один дома, вот и запел на всю пустую улицу. Они уходили из дому, когда Дальман отправился на гимнастику и синей спортивной сумки не было на батарее отопления. Возвращается он не раньше полуночи. После спорта его всегда мучает жажда. Поднялись в комнату Лены. Ночная поездка была долгой, и Людвиг сразу уснул.
Утром проснулись в той же позе, в какой заснули вчера, когда она примостилась к нему поближе. Вошли в столовую, а Дальман неприветлив. И руки у него трясутся.
– Что делает у меня перед дверью грузовик, который развозит бутылки?
В наказание он не предложил к завтраку апельсинового сока, а выставил дешевый клубничный конфитюр в пластиковой упаковке и одно-единственное яйцо.
– Яйцо для нашего гостя! У нас в доме второго не нашлось.
И важно покинул столовую. Людвиг изучал подставку для яиц. Тучные куриные окорочка кривыми ножками вставлены в черные ботинки непомерной длины.
– Чарли Чаплин, – пошутила Лена.
– Тоска какая, – вздохнул Людвиг. – Я вот думаю, лучше отдельную комнату снять. – Сказал и на нее не взглянул.
– Я бы даже две или три комнаты снял.
И опять на нее не взглянул.
Лена закрыла клубничный конфитюр пластиковой крышечкой, прижала. Ее любовь, начавшись в пустом доме, должна закончиться в трехкомнатной квартире?
– Только если пустует дом у вокзала.
– Почему это?
– Я стану смотреть на поезда, но никуда не поеду.
Магнолии возле «Лихтбурга», старой киношки, в это время года стоят без единого листочка, а прачечной во дворе уже и вовсе нет. Из-за этого двойного отсутствия сердце Лены, когда она ходит мимо, обретает новую глубину.
Лена ведет машину. Стемнело. У садового забора женщина в платке сгребает в кучу сорняки, повылезшие из трещин на асфальте. В свете уличного фонаря Лена видит ее забинтованные ноги в домашних тапочках. И проезжает. В последний раз в отпуске, еще из театра, она ездила по Калифорнии на огромной машине с кондиционером, рассекавшей ландшафт подобно кораблю. Мотель, пул, пустыня, джоггинг, хау-ду-ю-ду, завтрак, улыбка, хау-а-ю, деревья с воздетыми руками пророков, и все диво дивное. Съездить, то есть подивиться и позабыть. Ехать через Польшу – другое. Это значит – вспоминать. Польша имеет продолжение в ней, Лене, в ее внутреннем, черно-белом, ландшафте. Америка растворилась в сверкающей желтизне и настырной зелени за синим горизонтом. А в Польше ей видится очень многое, но не только Польша. И сама она вырастает в ту меру, какая ей открывается.
Священник на заднем сиденье разговорился, благо приближаются Ченстохова и «Черная Мадонна». Сообщает, как шестьсот лет назад в церкви разгорелся пожар и как спасли икону, когда она чуть не обуглилась. Как в черноте лика этот образ обрел завершенность и как это чудо поныне притягивает паломников. Говорит с Дальманом, но – она замечает – рассказывает всю эту историю ей. В Ченстохове у них ночевка. Таково было его пожелание.
– Поближе к Мадонне, – заметил Дальман.
– А кстати, как человек становится священником? – она косит взглядом через плечо. – И как прекращает им быть?
– Вот уж точно, – поддакивает Дальман. – От вас лучшие бегут. И как тогда с налогами на социальные нужды?
Никакого ответа. Только нахмуренное лицо в зеркале заднего вида. Не лицо, а сплошные колючки.
– Лучшие? – спросил, наконец.
– Ну, например, вот у Лены – Людвиг, – поясняет Дальман. – Я тебе рассказывал, нет?
Священник перебивает:
– Сначала следует в письменном виде обратиться с прошением к епископу. Тот вызовет для разговора наедине и попытается отговорить, причем любого…
Пауза.
– Любого, именно потому…
Пауза.
– Потому, что нас не так много и…
– Минутку, сейчас! – обрывает его Лена, петлей объезжая трупик животного на асфальте.
– Гадость какая, дикий кабан, – ворчит Дальман, сморкаясь в платок.
Не дикий кабан, а ежик, но Дальман разглядел только жесткую щетину. И уже прикладывается к фляжечке. «Кто пьет, тому и муха – слон», – заключила для себя Лена.
– Ну вот, а потом надо заняться поисками жилья, – подводит итог священник.
Лена опускает стекло, закуривает. Похолодало. Надо прикрыть люк. «Тут каждый ведет диалоги сам с собой, – размышляет она. – Но ведь разговор с самим собой – это внутренний ропот безответной любви».
Паоло, позволив своему предприятию погрузиться в зимнюю спячку, в начале декабря отправился с женой на родину. Мебель сдвинута, на полу огромные картины в огромных рамах. Главным образом, это кони – вставшие на дыбы, и барышни – обомлевшие при виде тех коней. «Зимняя галерея Джитти» – красные буквы наклеены у Паоло на стекле витрины. Лена пошла дальше, в «Кауфхоф». Дверь на входе в универмаг ей придержал рождественский дедок с вишнево-красным ртом и белой бородой. Прежде он торговал в киоске на вокзале. Последняя суббота перед праздником, когда магазины закрываются позже. На продавщицах рождественские шапочки с помпонами. Лена направилась к эскалатору. Кто-то тычет ей серебряный поднос с печеньем по традиционному берлинскому рецепту, и на весь универмаг разносится женский голос из громкоговорителя:
– Коллега Пипенбринк, коллега Пипенбринк, просьба подойти к кассе номер два.
О, я ее знаю, – произносит другой женский голос, но не из динамиков, а у Лены в голове. – Знаю я ее, жила раньше через два дома от нас, та еще змеючка. Лена, помнишь?
Нет, мама.
Покупатели, схватив последние подарки, толкались в проходах. И детский крик отовсюду. На эскалаторе Лена попыталась встать слева, подальше от толкучки. Сошла на втором этаже, в отделе женского трикотажа.
Хорошо тут, – голос раздавался из воротника ее пальто, – только мне это ни к чему, правда? А ты что притихла, Лена? Из-за вчерашнего?
Со дня похорон разговоров между ними не было. Но вот вчера, когда Лена приоткрыла дверь дальмановой гостиной и тут же снова захлопнула, воздух близ нее вдруг засверкал, стремительно обретая контур мерцающего небытия.
«Мама, ты умерла. Не надо мне являться, – твердила она на пути в комнату с эркером. – Я тебя боюсь».
Плотно закрыла дверь. Но покойной матери это вовсе не помешало. Уселась для начала едва заметной дрожью на кровать рядом с Леной, затем глядела вместе с ней в зеркало при чистке зубов, затем – в книгу перед сном. Осталась на всю ночь под потолком, от которого Лене не отвести было глаз, а к утру целиком и полностью разместилась у нее внутри, чтобы талдычить одну и ту же фразу: «Я же говорила – с приветом, он чокнулся, пока был в Польше».
Через три прилавка от Лены покупательница с рыжими волосами небрежно бросила полиэтиленовый пакет на красный пуловер в стопке, рассеянно огляделась, взяла пакет и преспокойно пошла к эскалатору. Сверху оказался пуловер синего цвета.
Рыжим красное не идет, – заметила мать.
Может, она так не думает?
Может, она так и думает, но этому не верит, – парировала мать. – Как ты.
Лишь на секунду открыла вчера Лена дверь гостиной в доме Дальмана. Фрагмент картинки в дверной щели – трещина в восприятии мира. Увидела и тотчас решила: не видела! Чтобы в следующее мгновение понять: было, было… На секунду ее глазам предстал потаенный, но подлинный Дальман. Или тот, каким она втайне его и представляла? Дальман сидел на диване нога на ногу, с прямой спиной и в белой блузке с рюшами, распахнутой на груди. Поперек торса у него шел кожаный ремешок – похоже, от сумки. Старая грампластинка потрескивала, как летний костер. «Когда бы мог в моих мечтаньях». Но не ремешок нагнал на Лену страху. И не распахнутая блузка. В конце концов, это могла быть и рубашка под смокинг, которую Дальман примерял в преддверии праздников. Нет, не то. Но его лицо, лицо женщины, одинокой и стареющей, охваченной страшным возбуждением, и – нога на ногу в попытке овладеть собой. Не муж, не жена, а срамота, – пронеслось в голове. Она притворила дверь, и Дальман ее не заметил.
Надо было мне постучаться.
Надо было. И все равно он чокнутый, сама же видела. А знаешь, что он сделал в тот день, когда насовсем вернулся из Польши?
Знаю.
Лена заторопилась к эскалатору, к центральному выходу, через отдел косметики, быстро, быстро, пока те не пристали со своими средствами для ухода за кожей. И натолкнулась на стеклянную перегородку. Белый след ее губ, жирный след ее лба на стекле – теперь, одинокий и белый отпечаток дальмановой ладони на двери кладбищенского кафе – тогда, в августе. Ввиду чужого одиночества обретается ли опыт своего собственного? Она покраснела.
– Можно подретушировать, – произнес кто-то за ее спиной.
Ченстохова. Отель «Секвана» возле костела. Секвана – это Сена по-польски, и хозяин бойко изъясняется на плохом французском языке. На террасе под открытым небом усаживаются за столик и ближе к полуночи все-таки ждут горячей еды – Дальман, священник, Лена. Ведь она говорит по-французски. И хозяин очарован ею на свой бурный лад. Кто-то в вязаной шапочке уносит столы со стульями. Они сидят, а тот стоит рядом и изучает вмятины на искусственной траве, где только что были и столы, и стулья, и гости. Хочет, чтоб и от них остались такие вмятины, да поскорее. Хозяин «Секваны» гонит его, тот не внемлет и тупо выполняет задание, два шага назад и три вперед, и дальше убирать, и хватается за их столик, но тут официантка приносит тарелку супа. Суп – это ему понятно. Суп – значит, на сегодня все. Прислонившись к стене, выхлебывает всю тарелку и ставит на подоконник у кухни. В эту секунду синяя надпись «Секвана» гаснет. Официантка хороша, как куколка, но только постарше. Пришлось ей снова повязать передник и быстренько подкрасить губы. С уличной террасы контуром видна ее фигурка за стойкой. Грациозная, как вырезанный из бумаги дамский силуэт на рекламе школы танцев в пятидесятые годы. Спутники Лены не обратили на нее внимания, как перед тем и на барышню из рецепции.
– Рената, – представилась та и затараторила все подряд, что вынесла из интенсивного курса английского, правда, вполне уместно. Она и показала им номера, потом принесла мыло, открыла окно над кроватью. На покрывало цвета мяты полетела сажа. Другого окна не было.
– Ченстохова такая скучная, – она заметила сажу. – И что вам тут делать?
С этим вопросом на устах Рената уже закрывала дверь. Стены здесь тонкие. Дальману по соседству она сообщила:
– Тут у нас еще бельгийцы. Не хотите с ними поговорить?
А у священника только окно открыла палкой, не сказав ни слова.
Больше всего этот отель похож на гигантский контейнер. Идею владелец явно почерпнул во Франции. И объясняет:
– Секвана – так по-польски называется Сена, вы знаете, в Париже.
– А отели как ваш во Франции называются, вы знаете, «Формула-1», – усмехается Лена.
– Знаю, знаю.
Лена смущена. На широком его лице написано и то, и другое. Любовь к деньгам и любовь к любви. Месье Секвана выполнен из гладкого и твердого вещества, и голова его напоминает шар – деревянный, дочиста выскобленный и разрисованный кисточкой. Так выглядят те, у кого во всем полный порядок. Не то что Дальман. Тот имеет такой вид, будто мать нашла его под розовым кустом после мимолетной любви к заморскому принцу.
Несколько минут до полуночи. Официантка с лицом усталой куклы приносит еще три бокала с вином. В уличном освещении черты обоих мужчин заострились. Спешно допивают, намерены спать. А Лена делает шаг в сторону улицы.
Хозяин спрашивает, собирается ли она гулять в одиночестве.
Священник спрашивает, не опасно ли это.
Дальман спрашивает, не взять ли ей хотя бы куртку.
У синего базельского платья глубокий вырез на спине. Вот отчего три взгляда прикованы к ее коже. Один обеспокоенный, один порицающий, один жадный. Телефонная карточка уже у нее в руке.
– Спокойной ночи, – говорит Лена и уходит. Где-нибудь на линии тех пестрых домов, что в каменном благоговении отступают от храма, должна быть телефонная будка, а на другом конце провода должен быть Людвигов голос. Вот уж точно, в такой-то поздний час. Бульдозерами утрамбовано множество дорожек вокруг костела. Ветер холодной рукой гладит по спине. Вот он, телефон-автомат у какого-то подъезда. Лена набирает длинный номер.
Людвиг не берет трубку.
На обратном пути к костелу она боком сует телефонную карточку в туфлю.
Почти час ночи. На площадке у костела автомобили паломников. Лик Черной Мадонны торжественно откроют в шесть утра, а потом назавтра, и опять в шесть. Две женщины прикрыли глаза носовыми платками, уберегаясь от света фонаря. Та, что на водительском сиденье, держит четки в сложенных руках. Медленно проезжает полицейский патруль. Со стороны главного входа к Лене приближается пара. Здороваются, женщина недоверчиво. Будь с ней Людвиг, разинула бы рот, да заулыбалась, вроде бы ей, а по правде – ему.
Узкая дорожка идет позади костела. Ни машин, ни людей. Только собака лает. Злится, что ночь. Телефонная карточка в туфле мешает на каждом шагу. Свершись, чудо, и яви ей Людвига прямо из ограды храма. Тотчас, и пусть спокойно выступит с отговоркой. Или со стаканом воды.
Несу тебе стакан воды, потому что люблю тебя, – так он скажет.
Лена прислоняется к стене. Что там, между стеной и костелом, она и понятия не имеет. Кладбище? Зеленая лужайка, гравий и три скамейки? Зато перед ней скопище хлипких построек под гофрированными крышами. В одной теплится слабый свет, оттуда несет резким конским запахом. По линии горизонта движется поезд. Перед ним ночь, и за ним такая же ночь. Крапива жалит ей ноги. А она думает про О., про лагерь, про речку Солу и город. Город, лагерь, река. Думает, как не слушала Адриана, когда тот вчера водил ее по городу, и как в нескольких словах может описать все его движения. В тех движениях отражались ее мысли, а вовсе не его слова. В городе она думала о лагере, а в лагере думала об Адриане. А в том коридоре?
Нет, не о нем. О Людвиге.