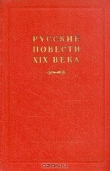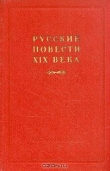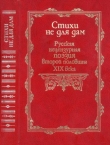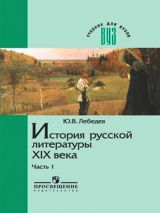
Текст книги "История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы"
Автор книги: Ю. Лебедев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 52 страниц)
Опыты реалистической поэмы.
Творческий путь Лермонтова наглядно показывает всю сложность русского историко-литературного процесса, никак не сводимого к традиционной для западноевропейской литературы схеме «от романтизма к реализму». До конца творческого пути Лермонтов совмещал романтическое восприятие мира с не менее удачными попытками реалистического его освоения. В 1837 году, например, он написал шутливую поэму «Тамбовская казначейша», в которой без труда просматривается влияние пушкинских «Домика в Коломне» и «Графа Нулина». Только в отличие от Пушкина Лермонтов усиливает в своей поэме обличительное начало, приближаясь к Гоголю в освещении пошлости и бездуховности жизни провинциального городка.
Рядом с «Тамбовской казначейшей» Лермонтов предпринимает опыт создания иного произведения, напоминающего роман в стихах «Евгений Онегин», – «Сказка для детей» (1839-1841). Открывающий «Сказку для детей» афоризм вошел в историю русской литературы как точная характеристика тех перемен, которые происходили в ней на рубеже 1830-1840-х годов:
Умчался век эпических поэм
И повести в стихах пришли в упадок…
В этом незавершенном романе-сказке Лермонтов прихотливо и игриво совмещает два плана повествования – бытовой, реалистический и возвышенный, романтический, постоянно снижая его. Это касается прежде всего образа Демона, которого Лермонтов спускает теперь с небес на землю и превращает в мелкого беса, аристократа, светского Мефистофеля. «Я прежде пел про Демона иного: / То был безумный, страстный, детский бред»:
…и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался – стихами!
В те же годы, с 1835 по 1939-й, Лермонтов работает над шутливоиронической поэмой «Сашка». В центре ее – история жизни современника, молодого дворянина, потом студента Московского университета. Лермонтов показывает здесь довольно фривольные сцены сперва из усадебно-дворянского, а потом из студенческого быта. И одновременно в поэму входит высокое содержание. Переходы от романтической патетики к реалистической шутке определяют структуру повествования этого незаконченного произведения.
Драматургия Лермонтова.
Еще в юношеском возрасте Лермонтов стал пробовать свои силы в драматургии, в центре которой – судьба благородного, романтически настроенного юноши, вступающего в резкий, непримиримый конфликт с бездушным обществом. «Испанцы» (1830), «Menschen und Leidenschaften» (1830) и «Странный человек» (1831) – эти три драмы еще несовершенны, они принадлежат перу начинающего автора. Герой драмы «Люди и страсти» («Menschen und Leidenschaften») Юрий Волин «с детским простосердечием и доверчивостью кидался в объятия всякого», его «занимала необычайная, но прекрасная мечта земного общего братства», у него «при одном названии свободы сердце вздрагивало, и щеки покрывались живым румянцем». Но тяжба между богатой бабушкой и бедным отцом, сопровождаемая картиной общей порчи крепостнических нравов, приводит героя к полному разочарованию и самоубийству. В пьесе «Странный человек» изображается студенческая среда. Молодые люди, окружающие главного героя драмы Владимира Арбенина, живут интересами студенческих кружков 1830-х годов, спорят о путях развития России, о ее славном историческом будущем.
Но лучшим образцом драматургии Лермонтова является его «Маскарад», в котором высокое романтическое начало сочетается с резкой критикой светского общества. Евгений Арбенин, «странный человек», как называет его жена Нина, – богато одаренная натура с острым умом и могучей волей. Однако в той среде, которая его окружает, герой испытывает одиночество и тоску. Богатые внутренние силы его не находят реализации, «кипят в действии пустом». Отсюда – разочарование, пессимизм, рефлексия, ставшие болезнью людей 1830-х годов. Арбенин – это светский вариант лермонтовского Демона. Разочаровавшись в людях, презирая свет, он ищет спасения в чистой любви к Нине:
…мир прекрасный
Моим глазам открылся не напрасно,
И я воскрес для жизни и добра.
Но общество не может простить Арбенину его высокомерия и презрения. Оно мстит ему, отравляя светлое чувство нарочно подстроенным ревнивым подозрением. Вслед за утратой веры в Нину рушится вера Арбенина в добро. Убийство жены и потом помешательство Арбенина – таков итог этой драмы.
Отношение Лермонтова к Арбенину далеко не однозначно. Презирающий светское общество, герой сам не свободен от его пороков, главными из которых являются эгоистический индивидуализм и безверие в высшие духовно-нравственные ценности. Арбенин к самому себе обращается с горьким, но точным и метким упреком:
Беги, красней, презренный человек!
Тебя, как и других, к земле прижал наш век…
Первые прозаические опыты Лермонтова. Романы «Вадим» и «Княгиня Лиговская».
К созданию романа «Вадим» Лермонтов приступил в 1832 году. Это произведение осталось незаконченным. Даже название ему дал издатель литературного наследства Лермонтова по имени центрального персонажа. Примечательно, что Лермонтов пересекается в своем замысле с Пушкиным, который в это время работает над «Дубровским», а потом и над «Капитанской дочкой».
В центре лермонтовского романа – крестьянское восстание под предводительством Пугачева. При этом Лермонтов опирается на реальные воспоминания современников о восстании крестьян Пензенской губернии. Вот как описывает он причины восстания: «Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь их могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею – и тогда горе побежденным!»
Наблюдая над бесчинствами помещиков и помещиц, Вадим думает: «Не мудрено, что завтра эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим». И далее Лермонтов рисует первую вспышку открытого народного недовольства, которая, как искра, раздувает пламя страшного народного мятежа. Восстание изображается Лермонтовым как грозная и неуправляемая стихия, все сметающая на своем пути.
В народном восстании участвует Вадим, сын дворянина, обиженного и разоренного богатым вельможей Палицыным. Но с восставшим народом у него взаимопонимания нет. Герой действует в пламени разбушевавшегося пожара как гордый и одинокий мститель за поруганную честь свою и своей фамилии. Перед нами гордая демоническая личность, возвышающаяся над толпой.
В романе есть удачные зарисовки отдельных героев, например жестокого, сластолюбивого и трусливого Палицына. Правдиво описаны картины крепостнического быта. Но в целом стиль романа остается субъективно-романтическим, перекликающимся с прозой А. А. Марлинского.
В незаконченном романе «Княгиня Лиговская» (1836-1837) Лермонтов меняет романтический регистр повествования на реалистический. По точному наблюдению А. Н. Соколова, в «Княгине Лиговской» Лермонтов «одним из первых подходит к задаче реализации в жанре прозаического романа художественных достижений пушкинского романа в стихах. Вместе с тем Лермонтов, опять-таки одним из первых, применяет творческие принципы, только что внесенные в литературу реалистическими повестями Гоголя».
«Высший свет» в эти годы, как мы имели возможность убедиться, стал модной литературной темой в «светской повести». Лермонтова отличает от ее создателей более критическое и резкое отношение к высшему обществу, которому противопоставлен Печорин своим острым, но охлажденным умом. Однако, подобно Арбенину, Печорин несет в своем характере язвы этого самого общества – индивидуализм и аристократическое высокомерие, что проявляется в его взаимоотношениях с бедным чиновником Красинским. Образ «маленького человека» нарисован Лермонтовым с нескрываемым сочувствием и бесспорно является удачей автора, идущего здесь в ногу с Гоголем, автором «Невского проспекта» и «Записок сумасшедшего». В то же время, опережая будущего автора «Шинели», Лермонтов показывает бунт «маленького человека» против своих обидчиков.
Исторические взгляды Лермонтова.
В петербургский период окончательно формируются общественные убеждения Лермонтова, его взгляды на исторические судьбы России. Они тяготеют к зарождавшемуся к концу 1830-х годов славянофильству. Лермонтов выносит из школы московских «любомудров» взгляд на человечество и нацию как на единую индивидуальность. Подобно отдельному человеку, каждая нация в своем историческом развитии проходит фазы детства, юности, зрелости и старости. Исторический процесс представляется ему сменой «избранных» народов, находящих в ходе развития и самопознания свою национальную идею, которой они обогащают мировую историю. «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое, – говорит Лермонтов своему новому петербургскому приятелю А. А. Краевскому. – Зачем нам тянуться за Европою, за французами?» В то же время Лермонтова нельзя причислять к правоверным славянофилам, потому что историческую судьбу России он более связывает с будущим, не обольщаясь слишком ее прошлым. Он видит в России, как впоследствии русские западники, молодую нацию, еще призванную сыграть свою роль во всемирной истории.
Лермонтову кажется, что западноевропейская культура вступает в полосу необратимого кризиса, что в мировой смене народов, играющих в определенные исторические периоды главенствующую роль, Западу приходит черед уступить место другому, более молодому народу. Об этом пишет Лермонтов в стихотворении «Умирающий гладиатор» (1836):
Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд – игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!
Россия, по Лермонтову, молодая, выходящая на мировую историческую сцену страна: «…она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжелого сна – и встал и пошел… и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия». В этот период Лермонтов работает над реалистической поэмой «Сашка», в которой он пишет о Москве как сердце России проникновенные слова:
Москва, Москва!… люблю тебя как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и – обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла… Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
В мировоззрении Лермонтова укрепляется историзм: прошлое России интересует его теперь как звено в цепи исторического развития национальной жизни.
Этот историзм особо отметил Белинский в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»: «Здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размет его чувства и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее… – и вынес из нее вымышленную быль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории».
Готовясь к поединку с нанесшим его семье бесчестье Кирибеевичем, купец Калашников просит любезных братьев, в случае его поражения, выйти на бой за «святую правду-матушку»:
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежей силою,
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось Господь вас помилует!
Православно-христианское сознание купца органически связывает между собою то, что с таким трудом удавалось сделать Лермонтову: земная сила зависит от чистоты и святости, «небесное» и «земное» не противоположны, а взаимосвязаны. Молодые братья Калашникова «свежей силою», потому что на них «меньше грехов накопилося»: чем безгрешнее человек, тем сильнее он в битве. Эти убеждения породили в эпоху Ивана Грозного обычай судебного поединка, называемого «полем». Когда правда не давалась в руки следствию, истец и ответчик шли на «поле», на поединок, в котором побеждал правый и терпел поражение виноватый.
Характерен и другой мотив в психологии православного человека: Калашников верит, что «святая правда-матушка» на его стороне, но не может самонадеянно предрекать свою победу: «А побьет он меня – выходите вы». Калашников знает, что Кирибеевич не живет по «закону Господнему», «позорит» чужих жен, «разбойничает» по ночам. Но, выходя на честный бой с «бусурманским сыном», он боится впасть в гордыню. Божий Промысл знать никому не дано, и русский праведник чувствует свою малость перед волей Божией.
С. В. Ломинадзе обратил внимание, что такой же духовный образ русского человека Лермонтов изображает в стихотворении «Бородино» и «Поле Бородина», ранней его редакции:
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!
Отдали Москву по Господней воле, но и дрались за нее с надеждой на Его милость. Подобно Калашникову, солдаты бьются насмерть за «святую правду-матушку» с полным смирением перед верховным Распорядителем этой правды. Не праведной победой они кичатся, не гордыню свою тешат, а мечтают о суровом долге, о смерти за русскую святыню:
«Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!» -
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
«Характер противостояния противников в „Бородине“ тот же, что и в „Песне…“, – отмечает Ломинадзе. – С одной стороны, бравада, игра, похвальба. С другой – подчеркнутая суровость, последняя серьезность намерений:
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!
В сущности, это то же, что сказано „бусурманам“ в „Бородине“: „Что тут хитрить, пожалуй к бою…“ Сами воинские станы накануне решающей битвы как бы вступают в полемический диалог между собой, аналогичный обмену репликами между Кирибеевичем и Калашниковым, да и всему их поведению перед боем:
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Так же ликует и Кирибеевич, когда на „просторе похаживает“ и „над плохими бойцами подсмеивает“. А вот русский лагерь иной:
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус».
Лермонтов ловит в поведении русского человека в героический момент его жизни духовную опору на православно-христианскую святыню. Д. С. Лихачев отмечает в древнерусских воинских повестях XIII-XVII веков общую закономерность. Вторгшийся в Россию враг, захватчик, «в силу одного только этого своего деяния, будет горд, самоуверен, надменен, будет произносить громкие и пустые фразы… Напротив, защитник отечества всегда будет скромен, будет молиться перед выступлением в поход, ибо ждет помощи свыше и уверен в своей правоте». Так и у Лермонтова в «Поле Бородина» солдаты перед смертным боем «штыки вострили да шептали молитву родины своей».
Л. Н. Толстой считал «Бородино» Лермонтова «зерном» своего романа-эпопеи «Война и мир». Там тоже будет молебен перед Бородинским сражением, и «серьезное выражение лиц в толпе солдат, однообразно жадно смотревших» на чудотворную икону Смоленской Божией Матери. «Скрытая теплота патриотизма» и согласие своего душевного настроя с высшей правдой и волей Божией, отказ солдат от «водки» в «такой день» и многозначительное, суровое их молчание – все это гармонирует у Толстого с атмосферой «Бородина» и восходит к духовной сущности «народной войны», открытой в новой русской литературе Лермонтовым.
В этот период даже в сугубо лирических стихах Лермонтов преодолевает конфликт между «небом» и «землей». Примирение с Богом в духе народного миросозерцания открывает Лермонтову благодатную гармонию в окружающем мире. В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» остро переживается радость и счастье земного бытия. Смиряется душевная тревога, «расходятся морщины на челе» поэта, природа открывает ему тайны своей умиротворенной, врачующей красоты. Примирение с небом ведет Лермонтова к созданию «Молитвы» (1837), в которой поэт с доверием и народной любовью обращается к Матери Божией – «теплой заступнице мира холодного» – с просьбой о спасении не своей «пустынной», страннической души, а души «чужой» – «невинной девы»:
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
В молитве за другого человека душа поэта умиротворяется и просветляется, находит желанное утешение. Укрепляется вера в благодатное участие небесных заступников в судьбах смертных людей на земле.
В том же 1837 году Лермонтов пишет стихотворение «Ветка Палестины», в котором отсутствует тревожное, болезненное сомнение. Неизбывная «рефлексия», иссушающий живые источники сердца самоанализ, тоска одиночества – все эти чувства гаснут в благодатном дыхании святости:
Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Всё полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.
«Смерть Поэта» и первая ссылка Лермонтова на Кавказ.
Литературную известность Лермонтову принесло стихотворение «Смерть Поэта», после которого повторилось то, что было и с Пушкиным, но только в еще более ускоренном ритме. Мотив Божьего суда звучит в эпилоге стихотворения «Смерть Поэта», приписанном к тексту после ссоры Лермонтова с Н. А. Столыпиным, который защищал Дантеса, выражая мнение придворных кругов. Возмущенный Лермонтов на одном дыхании написал 16 строк, исполненных праведного гнева. В стихах получил предельную конкретизацию и сам предмет этого гнева:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
В сущности, это круг придворной знати, пробившейся в верхи лестью, хитростью и обманом, той самой знати, которая так раздражала Пушкина и которой он послал вызов в «Моей родословной». «Род», обиженный «игрою счастия», – это род Пушкина и многих других столбовых дворян; хранителей отечественных святынь, вытесненных в послепетровский период ловкими пройдохами, неправдами нажившими богатство и «молчалинством» достигшими «известных степеней»:
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!…
И тут, в порыве праведного гнева, заимствуя «Божественный глагол» у самого Творца, Лермонтов обрушивает на голову губителей русского гения Его карающую десницу. Возникает иллюзия, что Страшный суд вершится прямо сейчас, на наших глазах, неотложно и неотвратимо:
Но есть и Божий Суд, наперсники разврата!
Есть грозный Суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
«Приятные стихи, нечего сказать, – написал император Николай I Бенкендорфу. – Я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он, а затем мы поступим с ним согласно закону».
Лермонтов был арестован 18 февраля 1837 года. Объявить его сумасшедшим сочли неудобным: только что, за три месяца до гибели Пушкина, в сумасшествии был обвинен Чаадаев за его «Философическое письмо». 25 февраля объявлено «высочайшее повеление»: корнета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, который вел военные действия на Кавказе.
На известном акварельном автопортрете Лермонтов изобразил себя в мохнатой бурке, накинутой на куртку с красным воротником и кавказскими газырями на груди. Через плечо перекинута черкесская шашка. В этой форме он изъездил всю линию укреплений кавказской армии по левому берегу Терека и по правому Кубани от Каспийского моря до Черного, побывал в азербайджанских городах Кубе и Шемахе, познакомился и подружился с азербайджанским поэтом Мирзой Фатали Ахундовым, брал у него уроки азербайджанского языка и с его слов записал сюжет сказки «Ашик-Кериб». В это время он тесно сошелся с сосланными на Кавказ декабристами. Сердечная дружба свела его с Александром Ивановичем Одоевским, поэтом, автором знаменитого ответа на пушкинское «Послание в Сибирь». После десяти лет каторги его перевели в 1837 году рядовым солдатом на Кавказ. Осенью 1839 года, узнав о смерти друга, Лермонтов написал стихотворение «Памяти А. И. Одоевского»:
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!