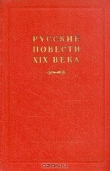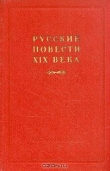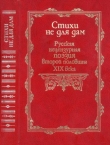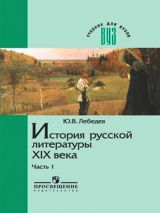
Текст книги "История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы"
Автор книги: Ю. Лебедев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 52 страниц)
После закрытия в 1834 году журнала Полевого на первый план литературной жизни 1830-х годов вышел журнал Николая Ивановича Надеждина (1804-1856) «Телескоп» и приложение к нему – газета «Молва». Надеждин родился в семье дьякона в Рязанской губернии, был зачислен на казенный кошт в Рязанскую духовную семинарию. В 1820 году в числе лучших воспитанников его направляют в Московскую духовную академию, где он с пристрастием отдается изучению немецкой классической философии – Канта, Фихте и Шеллинга. Большое влияние на него оказал профессор академии Ф. А. Голубинский. По окончании академии со степенью магистра он возвращается в Рязанскую семинарию профессором словесности и немецкого языка.
Но вскоре Надеждин подает прошение об увольнении от должности и о выходе из духовного звания для поступления в гражданскую службу. В Москве он определяется домашним учителем в семейство Самариных, где воспитывает будущего известного славянофила и общественного деятеля Ю. Ф. Самарина. Сблизившись с профессором М. Т. Каченовским, сторонником классицизма и издателем «Вестника Европы», он печатает в этом журнале цикл работ по истории, а также критические статьи от имени экс-студента Никодима Недоумки, которые и принесли Надеждину литературную известность.
Включившись в яростные споры классиков с романтиками, Надеждин выступил против романтических порывов, ведущих «в туманную бездну пустоты». Вскоре он защищает докторскую диссертацию «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» и с 1831 года в качестве доктора этико-филологического отделения Московского университета преподает теорию изящных искусств и археологию. Одновременно Надеждин начинает издавать «журнал современного просвещения» «Телескоп» и газету «Молва». В своей эстетической программе Надеждин выступает с русских православных позиций как решительный критик романтического индивидуализма. Первообразом для себя романтизм взял «внутреннюю природу человека, предоставленную одной себе». Беспредельную полноту этой свободы романтически настроенная личность выразила в «исступлении духа, необузданно роскошествующего своею внутреннею жизнью до забвения и пренебрежения законов осязаемой вещественности».
«В какую ужасную, бездонную пучину может низвергнуться даже великий гений, попустивший овладеть собою таковому лжеромантическому неистовству, – тому поистине изумительный пример представляет знаменитый Байрон, слава которого оглашает доныне, хотя и неблаговестительно, всю литературную вселенную. Этот дивный муж, с необычайной силою духа, кажется, поставлен в зловещее знамение миру, для указания: что значит сила слепая, не пригвожденная ни к какой тверди, не тяготеющая ни к какому солнцу. Запавши в беспредельную глубь собственного своего бытия и весь поглотившись самим собой, он представляет нам совершеннейший образец того всегубительного эгоизма, который, ярясь на все, грызет самого себя, пока наконец низвергается с шумом в мрачную бездну ничтожества. Ибо таково свойство и устроение нашего духа, что он, существуя сам через себя и действуя из самого себя, тем не менее должен прикрепляться к какому-нибудь неподвижному средоточию, если не хочет невозвратно потеряться в пустоте мрачной и беспредельной. Это неподвижное средоточие, это Верховное Светило… есть основание эстетической религии, без которой никакая поэзия неудобомыслима. Душу этой религии составляет благоговейная любовь к бесконечному, силою коей совершается блаженное сочетание между им и Творящим духом – благодатное начало всех истинно изящных и высоких произведений».
С другой стороны, и классицизм подвергается Надеждиным суровой критике. «…Невозможно утверждать, – говорит он, – что поэзия, от него проистекающая, есть верное изображение той оригинальной классической поэзии, которою гордился мир древний. Напротив, надо искренно согласиться, что настоящий дух поэзии древней очень мало или даже совсем не постигнут новым духом, усвояющим себе имя классического». Классицизм «преобразовал героев древности в придворных Версаля, убрал их в щегольской наряд по французской моде и действия приноровил к церемониям и обычаям светскости французской». Не было и попыток «воскресить самый дух классической древности в его оригинальной чистоте и целости». «Невозможно не согласиться, что дух, веющий в произведениях романтической поэзии, ближе, кажется, и сроднее с духом настоящих времен, чем тот, коим дышит классическая древность, отделенная от нас столь многими веками». «Если человек ныне не такая статуя, каковою представляет его классическая поэзия, то, конечно, не такой же летучий змей – игралище своего необузданного произвола, носимое по безмерным пустыням фантастического мира, – каковым его изображала поэзия романтическая».
«Человек классический был покорный раб влечению своей животной природы, человек романтический – свободный самовластитель движений своей духовной природы. И там и здесь упирался он в крайности: или как невольник вещественной необходимости, или как игралище призраков собственного своего воображения». Так Надеждин подходит к выводу, что будущее русской литературы и литературы мировой связано с тем синтезом классических и романтических начал, который выведет художественное сознание на новый, более высокий уровень понимания и изображения действительности: «Наш век как будто соединяет или, по крайней мере, стремится к соединению этих двух крайностей. ‹…› И, кажется, сама природа предлагает нам великую задачу – ввести полярную противоположность, выражаемую духом того и другого мира, к средоточенному единству не через механическое их сгромождение, но через динамическое соприкосновение, чтобы все мраки противоречий, чреватые пагубными заблуждениями, как бурями рассеялись и воцарился ясный день».
Не сформулированная прямо, но просматривающаяся косвенно реалистическая платформа эстетических взглядов Надеждина оказала решающее влияние на формирование эстетических взглядов молодого Белинского – последовательного защитника «поэзии действительности»: «Наше новейшее искусство, начатое Шекспиром и Сервантесом не есть ни классическое, потому что „мы не греки и не римляне“, и не романтическое, потому что мы не рыцари и не трубадуры средних веков. Как же его назвать? – спрашивает Белинский в статье о «Горе от ума» Грибоедова и отвечает: – Новейшим. В чем его характер? В примирении классического и романтического, в тождестве, а следственно, и в различии от того и другого, как двух крайностей. Происходя исторически непосредственно от второго, наследовав всю глубину и обширность его бесконечного содержания и обогатя его дальнейшим развитием христианской жизни и приобретением нового знания, оно примирило богатство своего романтического содержания с пластицизмом классической формы».
Исключенный из университета, В. Г. Белинский, опекаемый Надеждиным, стал печататься в его изданиях с 1834 года. Первая его статья «Литературные мечтания» была опубликована в «Молве», а вторая «О русской повести и повестях Гоголя» – в «Телескопе». Здесь же вышли статьи Белинского «О стихотворениях Баратынского», «Стихотворения Бенедиктова», «Стихотворения Кольцова», «Ничто ни о чем» и «О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя», в которой он подверг критике некоторые крайности статьи Шевырева против «торгового направления» в литературе и журналистике.
Надеждин собрал вокруг своего журнала целый ряд блестящих литературных имен. В нем участвовали Пушкин, Жуковский, М. Н. Загоскин, М. А. Максимович, М. Г. Павлов, А. С. Хомяков, Н. М. Языков, К. Ф. Калайдович, А. X. Востоков, В. М. Перевощиков, Ю. X. Венелин, Н. В. Станкевич, В. И. Красов, К. С. Аксаков.
Из оригинальных критических работ, опубликованных в журнале, кроме статей Белинского, наибольший интерес представляют статьи Пушкина, писавшего в «Телескоп» под псевдонимом Феофилакта Косичкина, а также самого редактора – Надеждина: «Отчет о русской литературе за 1831 год», «Европеизм и народность», «Здравый смысл и барон Брамбеус», о переводе «Всеобщего начертания теории искусств» и др.
Цикл статей по физике, проникнутых шеллингианской философией, опубликовал в журнале профессор М. Г. Павлов: «Свет и тяжесть», «Теория вещества», «Общий очерк природы» и др. Лекции Павлова в Московском университете пробудили у молодежи 1830-х годов живой интерес к немецкой классической философии, во многом оплодотворившей зарождающуюся тогда самобытную русскую мысль.
Роковым событием в судьбе «Телескопа» стала публикация первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева: журнал был закрыт, цензор Болдырев пропустивший статью, уволен с должности, а Надеждин сослан в Усть-Сысольск. По окончании ссылки он уехал в Одессу и ушел с поприща журналистики.
«Современник» (1836-1866).Этот журнал основал Пушкин. Он хотел противопоставить его набиравшей силу «торговой» журналистике и поддержать высокий художественный уровень литературы, достигнутый им и писателями его круга. К сотрудничеству в журнале он привлек В. А. Жуковского, В. Ф. Одоевского, П. А. Вяземского, Н. В. Гоголя, П. А. Плетнева. Первая книжка, открывавшаяся стихотворением «Пир Петра Первого», вышла 11 апреля 1836 года под заглавием «Современник. Литературный журнал, издаваемый А. С. Пушкиным». Белинский в «Телескопе» высоко оценил статью Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах», но в качестве недостатка журнала отметил его альманашную форму: «Современник» выходил очень редко – четыре номера в год. Белинский надеялся увидеть в журнале Пушкина боевой печатный орган, направленный против лакейской журналистики и отживших литературных мнений. Но следующая книжка журнала огорчила его своей «бесцветностью» и академической сухостью. Пушкин сам чувствовал слабость журнала и начал вести переговоры относительно приглашения в «Современник» Белинского. Но смерть поэта оборвала эти надежды.
Весомость «Современника» определялась публикациями в нем произведений самого Пушкина: при жизни поэта – «Пир Петра Первого», «Полководец», «Из А. Шенье», «Родословная моего героя», «Скупой рыцарь», «Путешествие в Арзрум», «Капитанская дочка»; а по смерти Пушкина – «Медный всадник» (с исправлениями Жуковского), «Русалка», «Галуб», «Вновь я посетил…» и др.
После гибели Пушкина журнал перешел в руки П. А. Плетнева и совершенно потерял связь с современной литературой. Вторая жизнь «Современника» начнется в 1847 году, когда его арендуют у Плетнева Н. А. Некрасов с И. И. Панаевым.
Поэзия второй половины 1820-1830-х годов.
В развитии русской поэзии этот период связан с попытками преодоления «школы гармонической точности» 1810-1820-х годов. Оппозиция к ней проявилась уже в статье В. К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической», где он писал о «мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных» произведениях этой школы. Статья была опубликована в альманахе «Мнемозина» в 1824 году. Но в это же время вокруг поэта и преподавателя русской словесности Московского университетского благородного пансиона Семена Егоровича Раича (1792-1855), Родного брата митрополита киевского Филарета, собирается группа студентов, увлеченная шеллингианской философией и пытающаяся сосать русскую философскую лирику.
После поражения восстания декабристов и расправы над ними Романтизм революционного типа приобретает характер индивидуалистического, «демонического» протеста (в лирике А. И. Полежаева и юного М. Ю. Лермонтова), а затем переходит в новое качество, связанное с утверждением идеологии утопического социализма (А. И. Герцен и раннее поэтическое творчество Н. П. Огарева). Литературная борьба 1830-х годов проходит под знаком создания поэзии мысли. Это требование объединяет всех: и поэтов-романтиков с декабристской ориентацией, и «любомудров» во главе с Раичем, а теперь еще и молодым поэтом Д. В. Веневитиновым, и поэтов кружка Н. В. Станкевича (В. И. Красов, И. П. Клюшников), и даже представителей низового вульгарного романтизма (В. Г. Бенедиктов). Отрицание элегической «школы безмыслия» становится повсеместным. В рецензии на «Опыты священной поэзии» Ф. Глинки шеллингианец В. П. Титов пишет: «Несколько лет уже русская муза расхаживает по комнатам и рассказывает о домашних мелочах, не поднимаясь от земли к небу, истинному своему жилищу». Его упрек похож на сетования Кюхельбекера, который ведь тоже требовал от поэзии «высоких предметов». Но Кюхельбекер видел их в гражданском, политическом содержании, а Титов говорит о содержании философском, об изображении «высокого назначения души, тленности и суеты настоящей жизни, упования на будущее, преимуществ наслаждений внутренних, духовных». Высокая поэзия понимается им как область Божественных откровений.
Поэты-«любомудры» Д. В. Веневитинов, С. П. Шевырев и А. С. Хомяков объединяются в 1827 году вокруг журнала «Московский вестник» и пытаются создать философско-романтическую поэзию нового типа. Они ставят перед собой задачу найти новый для русской поэзии философско-поэтический стиль. Шевырев и Хомяков ориентируются при этом на одическую традицию, а Веневитинов – на традицию медитативной (размышляющей) элегии, разработанную Жуковским, Батюшковым, Баратынским и Пушкиным до михайловского периода.
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805-1827)
Как отмечает Л. Я. Гинзбург, поэзия Дмитрия Владимировича Веневитинова интересна внутренней борьбой между новыми поэтическими замыслами и инерцией стиля, который могучие мастера русской лирики создали для других целей, для выражения иного строя мыслей и чувств. В статье «О состоянии просвещения в России» Веневитинов сформулировал цели и задачи того нового направления, которое он и его друзья хотели утвердить в русской поэзии: «Первое чувство никогда не творит и не может творить, потому что оно всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль, которая развивается в борьбе, и тогда уже, снова обратившись в чувство, является в произведении. И потому истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения».
Здесь сказывается у Веневитинова мысль Шеллинга об особом назначении поэта в мире. Поэтический гений, по Шеллингу, обладает особой интеллектуальной интуицией, позволяющей ему одухотворять жизнь, прозревая в ней идеальную душу мира, которая творит мироздание. Художник в акте творчества сливается с Творцом вселенной, является проводником Его воли, превращается в орган мирового духа:
К тебе, о чистый дух, источник вдохновенья,
На крылиях любви несется мысль моя:
Она затеряна в юдоли заточенья,
И все зовет в небесные края.
Поэзия мысли у Веневитинова все еще пользуется поэтическими формулами, идущими от старой медитативной элегии Жуковского и Батюшкова: «крылия любви», «юдоль заточенья», «небесные края». Поэтому восприятие философского смысла стихотворения как бы тормозится этими готовыми формулами, настраивающими читателя на традиционное восприятие.
В стихотворении «Жертвоприношение», обращаясь к жизни, Веневитинов говорит, что ей дано:
Ланиты бледностью облить
И осенить печалью младость,
Отнять покой, беспечность, радость,
Но не отымешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновений!
Нет! Их спасет мой добрый гений,
И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне Навек поэзии святой И с страшной клятвой и мольбой Кладу на жертвенник богине.
«Последние четыре стиха, – отмечает Л. Я. Гинзбург, – несомненно связаны были для Веневитинова с шеллингианским пониманием искусства как высшей духовной деятельности человека. Но жертвенник богине – словосочетание из мифологического словаря поэзии начала века – направляло ассоциации читателя отнюдь не по путям немецкой романтической философии. То же, разумеется, относится и к такой поэтической фразеологии, как беспечность, радость, печаль, младость, любовь, надежда, вдохновенье. Притом радость самым классическим образом рифмуется с младостью».
Поэтому стихи Веневитинова давали возможность «двойного чтения»: «…их можно было прочитать в элегическом ключе и в ключе шеллингианском, в зависимости от того, насколько читатель был в курсе занимавших поэта философских идей». Вот почему в посмертном сборнике 1828 года друзья поэта предпослали его стихам статью, в которой создали идеальный образ прекрасного и вдохновенного юноши-мыслителя. Статья эта, подобно камертону, настраивала читателя на правильное, шеллингианское понимание творческих откровений поэта.
Шевырев Степан Петрович (1806-1864)
По иному пути пошел Степан Петрович Шевырев. В письме к Веневитинову, имея в виду поэтов школы гармонической точности, он сказал: «Ох уж эти мне утюжники! Да, их эмблема – утюг, а не лира!» Поэтому он ломает элегическую традицию, смешивая слова из элегического словаря с одическими, а иногда и с вводимыми в стихи прозаизмами. Здесь Шевырев опирается на традиции Ф. Глинки, который в «Опытах священной поэзии» дал первые образцы поэзии мысли:
И в оный час, как ось земли
Подломится с гремящим треском
И понесется легкий шар,
Как вихрем лист в полях пустынных…
В. В. Кожинов отмечает сближающий Глинку с новой поэтической школой сложный и напряженный лиризм:
Смятен мой дух, мой ум скудеет,
Мне жизнь на утре вечереет…
Огнем болезненным горят
Мои желтеющие очи,
И смутные виденья ночи
Мой дух усталый тяготят.
Следуя за Глинкой, Шевырев успешно преодолевает гладкость и стертость медитативной элегии, превращая натурфилософские идеи Шеллинга в оригинальные поэтические образы-символы. «Двоичность» построения натурфилософии, в которой человек является и частью природы, и субъектом ее самопознания, в стихотворении Шевырева «Сон» (1827) обретает поэтическую реализацию, предвосхищающую лирику Тютчева:
Два солнца всходят лучезарных
В порфирах огненно-янтарных…
Два солнца отражают воды,
Два сердца бьют в груди природы -
И кровь ключом двойным течет
По жилам Божьего творенья,
И мир удвоенный живет
В едином миге два мгновенья.
И сердцем грудь полуразбитым
Дышала вдвое у меня, -
И двум очам полузакрытым
Тяжел был свет двойного дня.
Прибегая к архаическому стилю, Шевырев, по верному замечанию В. В. Кожинова, стремится не к «архаизации» как таковой, а к «расширению» и «усилению» языка, что означало, по сути дела, разрушение по-своему замкнутого стиля «гармонической точности». В стихах «К непригожей матери» (1829) рядом с торжественно-архаическими стихами:
Каких ты чад произвела!
Какое племя дщерей славных, -
стоят другие, близкие к просторечию:
Пусть говорят, что ты дурна,
Охрип от стужи звучный голос…
Третьим поэтом, разделявшим в эти годы шеллингианские увлечения, был Алексей Степанович Хомяков (1804-1860). В своей поэзии он, вслед за Шевыревым, ориентировался на одический стиль, на ораторскую интонацию, на метафоры, облекающие философскую мысль. Ключевой у Хомякова стала тема романтического поэта. «Раскрывая ее, поэт наиболее отчетливо выразил основы шеллингианской эстетики: искусство – воплощение бесконечного в конечном; вселенная – художественное произведение Бога; поэт – провидец, носитель высшего познания и откровения, гений, творящий новые миры» (Л. Я. Гинзбург). В стихотворении «Поэт» (1827) Хомяков показывает процесс рождения поэтического сознания в немом царстве природы в виде Божественного луча, проникающего в душу и сердце смертного человека:
Все звезды в новый путь стремились,
Рассеяв вековую мглу,
Все звезды жизнью веселились
И пели Божию хвалу.
Одна, печально измеряя
Никем не знанные лета,
Земля катилася немая,
Небес веселых сирота,
Она без песен путь свершала,
Без песен в путь текла опять,
И на устах ее лежала
Молчанья строгого печать.
Кто даст ей голос? – Луч небесный
На перси смертного упал,
И смертного покров телесный
Жильца бессмертного приял.
Он к небу взор возвел спокойный,
И Богу гимн в душе возник;
И дал земле он голос стройный,
Творенью мертвому язык.
Философский романтизм существенно обновил проблематику поэтического творчества, обогатил русскую лирику углубленными размышлениями, дал мысли художественный образ, по-новому раскрыл связи человека с природой, с высшими силами мироздания. Многое внес он в самопознание человека, в анализ душевных и духовных его состояний, в диалектику души. Из поколения поэтов-«любомудров» вырос классик русской и мировой философской лирики Федор Иванович Тютчев, к поэзии которого мы еще обратимся, изучая литературу второй трети XIX века.