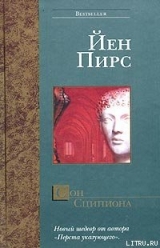
Текст книги "Сон Сципиона"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
В этом экземпляре были ошибки, скверные ошибки, однако хрупкая нить, которая возникла еще до Манлия и протянулась через столетия, не порвалась. Хотя и этот список в свою очередь был уничтожен протестантами во время религиозных войн, к тому времени Оливье де Нуайен успел увидеть его и переписать большую его часть, включая ошибки. Голос, который Жюльен Барнёв услышал, когда в библиотеке Ватикана взял в руки список Оливье, к этому времени совсем ослабел и дребезжал, но все же был чуть-чуть различим среди отголосков и треска слов и мнений других людей, и благодаря ему слова Софии, полупонятые или вовсе не понятые, проникли через столетия в его мозг.
Когда Оливье де Нуайен нашел рукопись в библиотеке монастыря под Монпелье, он предположил, что она может содержать нечто важное, но не сумел понять ее положений, пока не обрел взыскательного наставника в лице ребе Леви бен Гершона. Он даже не сообразил, что в руках у него не оригинал. О философии он понятия не имел, если не считать убогих толкований Аристотеля, которые успели стать такой неотъемлемой частью учений церкви, что многие даже не подозревали о его язычестве. Для Оливье Платон был всего лишь именем, таинственным полулегендарным некто, практически забытым. Оливье был клерикальным придворным и отчасти поэтом и сделал своей заветной целью очищение литературы от тлетворного воздействия его эпохи, и в этом он походил на Манлия куда больше, чем мог бы заподозрить. Однако, по меркам Жюльена, знания его были ограниченны, умение проникать в суть – невелико.
Любовь к литературе была болезнью, овладевшей им еще в отрочестве. Его отец, по-видимому, был тщеславным человеком, ожесточенным тем, что не сумел преуспеть, так как был нотариусом в маленьком нищем городишке, где фортуна никак не могла ему улыбнуться. Везон, как говорили люди, когда-то был великим городом, но так давно, что никто не знал, правда ли это или нет. Бесспорно, крестьяне, распахивая свои поля, часто выворачивали из земли большие каменные обломки статуй, резных карнизов и даже металла, но без малейшего интереса – только ругались на хлопоты, которые они им доставляли. Лишь изредка их забирали, чтобы использовать на постройке амбара или дома на высоком холме, куда местные жители около века назад перекочевали ради большей безопасности.
В этом тесном кроличьем садке убогих грязных улочек, выходящих на реку и поля, скрывших город Манлия, в 1322 году и родился Оливье де Нуайен к великому восторгу своего отца, который тут же перенес на него все свои честолюбивые помыслы. Оливье (верил он) были суждены великие свершения. Он станет настоящим юристом, отправится в Париж и займет видное положение при королевском дворе Франции, чужой варварской страны к северу, где людям открываются возможности обрести богатство и влияние. Эта мысль родилась у него почти в тот же момент, когда он зачал Оливье в торопливом бесстрастном соитии со своей женой, и одновременное возникновение идеи и ее воплотителя так его поразило (когда жена сообщила ему свою новость примерно пятнадцать недель спустя), что он узрел в этом знак, поданный ему святой на холме, славящейся мудростью своих советов.
Подобным указанием небес пренебречь было нельзя, и Оливье узнал про свое будущее так рано, что, вполне возможно, слово «юрист» было одно из первых произнесенных им. Его отдали в школу возле собора, он выучился грамоте, получал побои за ошибки, а по вечерам и даже по воскресеньям отец готовил его к блестящей карьере, сужденной ему после того, как он поучится в университете в Монпелье. Связей у его отца было мало, но те немногие, какие у него имелись, он усердно культивировал в поисках невесты и патрона для своего сына. Благодаря отдаленному родству он счел себя вправе вступить в переписку с Аннибалдусом ди Чеккани, епископом при папском дворе в Авиньоне с блестящим будущим, благодаря связям настолько же влиятельным, насколько никчемными они были у Нуайена-старшего. К этому времени отца сверх того начало тревожить поведение сына. Мальчик словно бы вознамерился ставить препоны желаниям своего родителя с помощью бесчисленных уловок. Он часто пропадал по нескольку дней, хотя и знал, какую порку получит по возвращении домой; он упрямо отказывался учиться; назойливо задавал вопросы, на которые отец – хороший, но необразованный человек – ответить не мог. Он крал птиц, грибы, плоды на землях, принадлежавших другим людям, так помногу, что на него жаловались. Следовали новые порки, столь же безрезультатные. Письмо монсеньору Чеккани, которому вскоре предстояло стать кардиналом, было, по сути, актом отчаяния, желанием передать мальчика в руки более весомого авторитета, который мог бы подавить, а при необходимости сломить дух, слишком упрямый, чтобы подчиняться ничем не подкрепленной отцовской воле.
Почему Чеккани в 1336 году согласился взять к себе четырнадцатилетнего Оливье, чтобы он трудился в окружении сложностей придворной жизни и богословской учености, остается неизвестным. Быть может, ему просто требовался лишний слуга, а может быть, увидев Оливье, он заметил в глазах мальчика искру, его заинтересовавшую; или же вмешалась фортуна, поскольку не согласись Чеккани выполнить эту просьбу, он, безусловно, одержал бы победу в своей борьбе с кардиналом де До и изменил бы путь христианского мира. Но какой бы ни была причина, вскоре Оливье упаковал сумку, попрощался со своей горячо любимой матерью, покинул Везон и отправился в Авиньон, где оставался до конца жизни – срок, на протяжении которого все надежды его отца рушились одна за другой.
Ибо Чеккани был человеком довольно образованным, и хотя не стал одним из тех завораживающих кардиналов, эрудитов и философов, которые в некоторой степени искупали во всех других отношениях коррумпированную церковь следующего века, круг его чтения был настолько широк, насколько позволяла его эпоха, – и он начал собирать библиотеку. Со временем Оливье получил доступ в это хранилище рукописей в числе ста пятидесяти или около того. Не то чтобы Чеккани интересовался мальчиком с самого начала. Педагогом по призванию он не был, и ему недоставало простой человеческой теплоты. Однако такое отсутствие интереса к нему устраивало Оливье больше всего. В небрежении он расцвел. И впервые познал любовь, ставшую самой прочной и всепоглощающей страстью его жизни: он начал читать. Вставал в четыре утра и читал, пока не подходило время для исполнения его обязанностей; торопливо проглатывал еду, чтобы успеть забежать в библиотеку и почитать еще хотя бы десять минут; читал по вечерам при украденных в кухне свечах, пока не засыпал.
Выбор был не особенно велик: немного Аристотеля в латинском переводе арабского переложения греческого оригинала, Боэций, которого он полюбил за его мудрость, Августин, который восхищал его своей человечностью. Но все изменил день, в который он открыл для себя Цицерона. Красота стиля, благородное изящество идей, высокое величие понятий были как глотки крепкого вина, и когда он обнаружил, а затем прочел единственный манускрипт, имевшийся у Чеккани, то целых двадцать минут плакал от радости перед тем, как тут же начать его перечитывать.
Полгода спустя он начал свою карьеру коллекционера, когда отправлялся в лавку за сластями. Это в его обязанности не входило, но он часто сам напрашивался, лишь бы покинуть темный угрюмый дворец, где он теперь обитал в каморке на чердаке, и бродить по улицам Авиньона, как ему заблагорассудится. И всякий раз он завороженно упивался людской суетой, шумом, запахами, радостным возбуждением. Ведь Авиньон за несколько лет преобразился из заштатного городка в одно из чудес света. Прибытие папского двора, вынужденного покинуть Рим из-за гражданских раздоров и как будто бы готового остаться тут навсегда, засосало в город купцов и банкиров, священнослужителей и художников, златокузнецов, просителей, юристов, поваров, портных, краснодеревщиков и каменщиков, резчиков по дереву и серебряных дел мастеров, грабителей, и шлюх, и шарлатанов, съезжавшихся со всех концов христианского мира, чтобы толкаться на улицах и соперничать в борьбе за милости, влияние и богатство.
Вместить их всех город не мог, и людям приходилось мириться с тем, что их теснят, эксплуатируют и грабят, однако лишь немногие убеждались, что не готовы платить такую цену. Пчелы над горшком с медом, мухи над навозом – таков был общий вердикт. И Оливье не придерживался никакого мнения о моральной стороне всего этого. С него было достаточно простых прогулок в утренние часы на рынок, днем, когда было время для торжественных религиозных процессий, или вечером, когда городом завладевали пьяницы и обжоры, поющие, танцующие. У него голова шла кругом от возбуждения, и все его чувства звенели от восторга.
А здания! Сотни домов, церквей, дворцов, воздвигнутых с наивозможной быстротой. Новые участки земли выравнивались, старые жилища сносились, чтобы уступить место новым побольше. Когда он в первый раз вошел в папский дворец, то не поверил своим глазам; ему почудилось, что он вступил в огромнейший грот внутри горы. Не мог же человек замыслить такое необъятное здание! И тем не менее даже этого оказалось мало. Клемент, новый папа, счел дворец слишком маленьким и начал воздвигать новый, вдвое больше прежнего, чтобы украсить его столь пышно и столь дорого, чтобы в мире ему не было ничего равного. Порой глубокой ночью, когда Оливье лежал в постели и дивился всему, что он видел и нюхал в этот день, он еле удерживался от смеха при мысли о своем крохотном, ютящемся на холме Везоне с несколькими сотнями обитателей. А каким величавым казался городок, пока он не увидел Авиньона!
Лавка, в которую он вошел, была его любимой. Полки ломились от всяческих лакомств. Одни, только что из печи, исходили паром. И еще всякие остывшие, хрустящие, начиненные пряностями, о каких он прежде и не слышал, а цены их казались ему невероятными. Он отобрал то, что ему поручили купить, а так как существовала опасность, что его пальцы оставят в них вмятины, лавочник взял несколько листов бумаги, чтобы получше их завернуть.
На листах было что-то написано. Оливье прочел и ахнул: раз истинно услышав этот ясный непринужденный голос, его уже невозможно было не узнать. В волнении и нетерпении поскорее развернуть листы он уронил все дорогостоящие лакомства на пол, где они рассыпались на кусочки. А он и внимания не обратил, хотя лавочник был возмущен.
– Тебя за это выдерут, – начал он.
Оливье только помахал у него под носом листом бумаги.
– Откуда он у тебя?
Его покрасневшее увлеченное лицо так горело от возбуждения, что лавочник забыл про свой гнев.
– Маленькая такая стопка. Я нашел ее в мусорной куче у церкви Святого Иоанна.
– Отдай их мне, я их куплю.
Лавочник покачал головой.
– Он последний, юноша. Остальные я уже употребил.
От этих слов Оливье чуть не поперхнулся, но у него достало самообладания узнать имена десятка покупателей, которых лавочник обслуживал последними. Остальной день он провел, обходя город, стуча в двери кухонь, терпя оплеухи и оскорбления, а иногда и щипок-другой за щеку. Когда он вернулся вечером домой, пробездельничав весь день, его, как и предсказал лавочник, беспощадно выдрали.
Но оно того стоило, потому что у него под туникой было спрятано почти целое письмо Цицерона, известное теперь как одно из писем к Аттику.
К тому времени, когда два месяца спустя его навестил отец, он перечел свою находку столько раз, что знал ее наизусть от слова и до слова. И по-прежнему самое прикосновение к ней – так как он ошибочно считал ее оригиналом, написанным рукой самого Цицерона, таково тогда было его невежество, – дарило ему высшее наслаждение. Он даже клал ее рядом с собой, когда засыпал ночью. И даже представить себе не мог, что кого-то она может не восхитить, а потому, когда предстал перед отцом, потребовавшим от него отчета за последние полгода, тотчас вытащил пожелтелые листы из-за пазухи и показал их.
По мере того как он говорил, лицо его отца темнело все больше.
– И ты тратил свое время на это вместо учения?
Оливье поспешил заверить его, что учился усердно и прилежно, умолчав, что терпеть не может этих занятий и продолжает их только из чувства долга.
– Но ты мог бы учиться еще усерднее, уделять больше времени занятиям, если бы не тратил силы на такие пустяки.
Оливье понурил голову.
– Но Цицерон был юристом, сударь… – начал он.
– Не старайся меня провести. Ты читаешь свои листки не поэтому. Дай их мне.
Он протянул руку, и Оливье после секундной нерешительности, которую его отец прекрасно уловил, вложил в его руку бесценные листы. Он уже чувствовал, как на глаза ему навертываются слезы. Его отец встал.
– Я спущу тебе эту непокорность, но должен преподать тебе урок. Научись побарывать свою глупость. Твоя обязанность – стать юристом и оправдать все надежды, которые я на тебя возлагаю. Ты меня понял?
Оливье немо кивнул.
– Отлично. А потому ты поймешь мудрость того, что я сделаю сейчас.
Его отец повернулся, бросил листы в огонь и немного отступил, глядя, как они вспыхнули ярким пламенем, а потом почернели, скручиваясь, и рассыпались.
Оливье так сильно дрожал, изо всех сил стараясь, чтобы слезы не поползли по его щекам, что просто не почувствовал, когда отец дружески похлопал его по плечу и прочел еще одну нотацию о его долге. Он даже сумел достойно попрощаться с ним и смиренно принял его благословение, прежде чем кинуться в дом, взлететь по ступенькам в чердачную каморку, которую делил с шестерыми сожителями, и заплакать во весь голос.
Он выучил преподанный ему урок, хотя и не так, как рассчитывал его отец. С этой минуты Оливье де Нуайен твердо решил, что никогда не станет адвокатом.
Трогательная история, которая в разных вариантах приписывалась многим людям. Однако Жюльен Барнёв понял, что ее протагонистом был Оливье, а потом ее перенесли на Петрарку, когда позднее репутация Оливье рухнула в позоре и поношениях. Затем этот анекдот обрел собственную жизнь и стал частью легенды о юности Баха. Либо юный гений поощряется старшими, удивленными и пораженными такой детской виртуозностью, как, говорят, было с Джотто и Моцартом, либо он внушает тревогу, и родители тщатся всеми силами перегородить стремительный поток. Возможно, среди этих историй нет ни одной правдивой, возможно, они лишь клише, знаменующие рождение величия, погони за единственной целью, погони, длящейся всю жизнь.
К самому Барнёву боги не прикоснулись, и он всего лишь изучал тех, кто был ими взыскан. Миру требуется только горстка гениев. Цивилизацию поддерживают и распространяют души поменьше, которые берут в тиски великих людей, связывают их толкованиями, и сносками, и аннотированными изданиями, объясняют, что именно они имели в виду, когда им самим это было неизвестно, показывают их истинное место в грозно-величавом движении человечества вперед и вперед.
Вот для этой задачи он подготовился в совершенстве на протяжении двадцати с лишним лет. Десятилетия труда, который он терпеливо со всем тщанием тратил на подбирание источников, необходимых для достижения цели, поставленной им перед собой. И труд его тоже был трудом страсти и любви, так как он не был педантом, ученым сухарем, отгородившимся от мира. Отнюдь! Он считал себя в малом масштабе крестоносцем, защищающим истинные ценности цивилизации, пылающим любовью к жизни и знанию в эпоху, не ценящую ни то, ни другое.
В юности он пописывал стихи, но был слишком суровым критиком других, чтобы поддаться самообману. Он был счастлив отказаться от подобных претензий и гордился своей зрелостью, которая помогла ему не тратить времени зря, когда столько доморощенных гениев его поколения транжирили свои часы на артистические грезы. Или же умирали, потому что Жюльену исполнилось пятнадцать, когда немецкие армии прокатились через Бельгию в северную Францию, и двадцать, когда завершилась бойня, унесшая без малого целое поколение. Не время для романтических стихов или психологических изощрений декаданса. Он редко говорил об этом периоде своей жизни, у него не было желания воскрешать в памяти события, настолько его потрясшие. Он ушел на войну добровольцем, как мог раньше, не дожидаясь призыва, ибо считал это своим долгом и обязанностью и верил, что не только участие в сражениях, а и самая готовность сражаться за родину и свободу, ею знаменуемую, может составить пусть малую, но разницу. Он был дважды ранен, дважды награжден и принимал участие в страшной битве под Верденом. Это упоминание уже показывает, что ему пришлось перенести. Его идеализм оказался среди потерь, понесенных в этой бойне.
Миллионы погибли, Барнёв остался жив. Демобилизовавшись в начале 1918 года – по причине своих ранений, – он вернулся в родной дом в Везоне, солидный особняк на улице – ныне Жана Жореса, вернулся к прежней своей жизни. Его отец никогда не расспрашивал его о перенесенном, и у Жюльена не было ни малейшего желания касаться этого. Другое дело, если бы была жива его мать. Догадаться о том, что он чувствовал, можно было разве в то утро, когда, вскоре после заключения перемирия, прохожие видели, как он у себя в саду медленно снимал полученные им ордена и медали и швырял их в костер. Их заслужил кто-то другой, теперь ему чужой, вернее, тот, кого он считал уже мертвым, прежде полный идеалов и надежд, для него теперь непостижимых. Теперь Жюльен смотрел на свой долг совсем по-иному. Ну а ордена и медали почти не пострадали от жара огня, но они закоптели, были засыпаны золой настолько, что позднее садовник, ничего не заметив, закопал их вместе с золой в землю, где они предположительно покоятся и теперь. Ну а его отец, docteur Барнёв, с головой ушел в организацию подписки на сооружение огромного памятника погибшим, который решено было врезать в холм, поддерживавший старый город. Это было единственным намеком сыну на облегчение, которое он испытывал от того, что имя его сына не значится в списке на пьедестале, что он – не умирающий солдат, столь живо изваянный из белого мрамора.
Ровно через три месяца после своего возвращения домой – время, которое он провел главным образом в Роэ в нескольких километрах к западу от Везона, сидя в саду своей бабушки по матери, поскольку очень скоро жизнь в родном доме начала его раздражать, – Жюльен вставал в пять утра, снимал с полки книги, которые читал в тот день, когда ушел в армию, и вновь открывал страницы с закладкой, которой пометил их три года назад. Он работал молча, компетентно и напряженно, доказывая свое умение сосредоточиваться, всегда ему свойственное. Выпив кофе с куском вчерашнего хлеба, предварительно в кофе обмакнутого, он сидел и аннотировал до двенадцати часов, а тогда надевал шляпу и шел в деревню и съедал тарелку супа в кафе. Потом работал до шести часов, ел и снова работал до полуночи. Так продолжалось из года в год, пока он не убедился, что готов: сел и с легкостью сдал aggregation11
Экзамен на право занять должность преподавателя лицея или высшего учебного заведения (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть] по истории и географии – интеллектуальный марафон, который до изменений в 1941 году был, пожалуй, самой дьявольски взыскательной проверкой человеческого интеллекта, когда-либо придуманной.
Тот факт, что Барнёв закончил курс одним из лучших, достаточно свидетельствует о силе его характера и уме. В определенном смысле его карьера была обеспечена, и ему осталось только пожинать плоды своих трудов. Отбыв положенный срок в провинциальном лицее в Ренне, куда его направила французская государственная машина, чтобы научить смирению, он имел все основания полагать, что остальную свою деятельную жизнь проведет в Париже. Образцовая академическая карьера уже развертывалась перед ним – аккуратные свершения, непрерывная капель признания и наград и ровное уважение коллег и учеников. К этому времени он уже работал над темой своей диссертации и всеобъемлющим трудом о позднем неоплатонизме на Западе, завершение которого потребовало еще двадцати лет его жизни.
Оказалось это не столь уж гладким или легким. Он слишком молодым ступил на дорожку безмятежной самодовольности. Простая жизнь предсказуемых безопасных достижений оказалась не тем, чего он по-настоящему искал. И вот в 1924 году он победил в конкурсе на весьма престижную стипендию на два года в Ecole de Rome22
Римская школа (фр.).
[Закрыть], после чего отправился в круиз по Средиземному морю, оплаченный его отцом в ознаменование этого успеха. И во время этого круиза он возобновил знакомство с Оливье де Нуайеном, а тот в свою очередь со временем познакомил его с Манлием Гиппоманом.
Впрочем, в некоторых отношениях Манлий уже коснулся его и до круиза по Средиземноморью. Пусть название и изменилось, но Жюльен был уроженцем того же города и еще в детстве проникся не по возрасту интеллектуальным интересом к родной области, родной стране; вот эта-то любознательность и привлекла к нему внимание каноника Жозефа Сотеля.
Реге33
Отец (фр.).
[Закрыть] Сотель играет в этой истории случайную роль; в определенном смысле он важен не более, чем возбудитель чумы, истребивший значительную часть поколения Оливье де Нуайена, – фактор, действующий вслепую по собственной причине и не подозревающий о последствиях. Но влияние, которое он оказал на мальчика Жюльена, было столь велико, что он заслуживает рассмотрения, иначе краткое пересечение их путей будет неверно истолковано как ничего не значащее или случайное. Собственно говоря, за их встречей стояла неизбежность. Возможность этой встречи возникла, едва родители Жюльена поженились в 1892 году и жена принесла в приданое мирный домик в Роэ, который так любила, что уезжала туда каждое лето, ища спасения от городской жары и духоты. Она стала вероятной, когда еще молодой Сотель воспылал страстью к археологии и добился дозволения своего епископа на занятия ею. И она стала неотвратимой, когда Жюльен, спасаясь от любящих забот своей матери, начал совершать долгие прогулки в дневные часы, которые больше было нечем занять на протяжении летних месяцев, когда он оставался с ней один на один.
В то лето 1910 года ему исполнилось десять – наиболее впечатлительный возраст, – а Сотель был впечатляющим человеком. Они встретились под вечер, когда мальчик устал и страшно хотел пить. Он проделал очень длинный путь по проселкам и тропинкам, перешел почти пересохший Увэз, а потом направился к лесу Дарбо на том берегу в сторону холмов, которые громоздились над речной долиной, такие темные и угрожающие на фоне слепяще голубого неба.
Тут он заблудился и пошел назад напрямик через луга, экономя время, думая о тревоге своей матери – она велела ему вернуться не позже, чем через полчаса, – чтобы придать форму своей нарастающей панике.
Первыми его внимание привлекли кучи недавно вырытой земли, частично темные, частично песчаные и все пятнистые там, где солнце успело их подсушить. Они внушили ему надежду, что там, на лугу, трудятся рабочие, возможно, строящие сарай. Он перебрался через канаву, царапая ноги о ежевику, пока карабкался вверх, а потом прошел за земляные кучи посмотреть, что прячется за ними. Там не было никого. По крайней мере он никого не увидел. Но повсюду вокруг виднелись признаки недавней работы – тачки, мотыги, лопаты, черные круги золы, где были срублены и сожжены деревья. Но ни одного человека, только ласточки кружили в воздухе. Жюльен постоял в неуверенности, потом направился к чему-то, что казалось развалинами дома, в надежде найти кого-то там.
И вошел в мир магии. Стены высотой всего в пару-другую футов из нетесаных камней, и гальки, и крошащейся известки не стоили лишнего взгляда, но, миновав одну, потом другую, он увидел такое, от чего у него дух перехватило. Перед ним распростерлась на полу гигантская прекрасная птица, набранная из крохотных камешков, синих, золотых, красных, сверкающих в свирепых солнечных лучах, отражаемых водой, которой отмыли птицу. Она казалась почти живой. Нет, даже лучше, чем у живой — никакая настоящая птица не могла бы настолько приковать к себе взгляд или так чудесно угнездиться среди каменной листвы.
Ошеломленный этим чудом, не смея вздохнуть – вдруг она услышит и улетит, – он шагнул поближе, потом нагнулся и провел рукой по неровной, почти режущей поверхности.
– Убирайся! – Сердитый голос разрушил безмятежность и чары. Птица не шелохнулась. Жюльен резко выпрямился и посмотрел по сторонам.
– Я сказал: убирайся, паршивец! Сейчас же! Делай что тебе говорят!
Жюльен попятился, зацепился ногой за камень и неуклюже распростерся на полу.
– Боже великий! Лежи! Не шевелись!
Тут из-за одной из стен появился тот, кому принадлежал раздраженный голос. Крупный мужчина, еще не достигший тридцати лет, но показавшийся Жюльену куда старше, с густой бородой, одетый в белую рубашку и широкие мешковатые брюки. В руке он держал блокнот, который бережно положил на верх стены, прежде чем осторожно перешагнуть через мозаику и помочь Жюльену подняться на ноги.
– С тобой все в порядке? Ты не ушибся?
Жюльен ответил, что не ушибся. От мужчины пахло потом. Приятный, успокаивающий запах, подумал Жюльен.
– Разве ты не умеешь читать? Не видел предупреждение на дороге? Надпись «Частное владение. Проход запрещен». Ну, наверное, тебя она только раздразнила.
– Извините, мсье, – робко сказал Жюльен. – Я пришел не с дороги. Я шел через луга. Я заблудился, и мама, наверное, волнуется. Я подумал, что тут есть кто-нибудь, кто мне поможет.
Мужчина внимательно вгляделся в его лицо, не заметил никаких намеков на наглость или ложь и пробурчал:
– Ну хорошо. Я отведу тебя на дорогу и покажу, куда идти.
– Нет! – отчаянно выкрикнул Жюльен, сам не зная, чего он испугался.
Мужчина поднял бровь.
– Простите, – продолжал Жюльен. – Но, пожалуйста, скажите мне, что это за место? Мне надо узнать. И почему здесь птица?
– Она тебе нравится?
– Она такая красивая, – благоговейно сказал Жюльен. – Ничего красивей я еще невидел.
Мужчина улыбнулся.
– Да, – сказал он ласково. – Тут я с тобой совершенно согласен.
И он объяснил Жюльену, что это мозаика, много сотен лет остававшаяся скрытой под землей, пока он ее не откопал. Потом, потому что мальчик с несомненной жадностью слушал каждое его слово, он повел его по комнатам виллы Манлия, объясняя, что он обнаружил в каждой из них и о чем догадывался, показывая обломки разбитых статуй, найденные его рабочими, несколько черепиц с кровли, которые упали на пол, когда рухнули стропила, колоннаду величественного портика, щербато зияющую пустотами там, откуда четыре колонны были забраны целиком.
Жюльен слушал, разинув рот, совсем покоренный, потому что Сотель был хорошим рассказчиком и педагогом от природы. Он рассказал Жюльену легенду про Феникса, про его смерть и возрождение. Жюльен почти ничего не понял, но слушал зачарованно. Воображение рисовало ему людей в этих комнатах, панно на исчезнувших стенах, таких таинственных в свете свечей; он словно слышал плеск каскадов в саду, увлажнявших воздух в точно такой же жаркий день. Он почти слышал разговоры и думал о том, каким чудесным все это было. Лучше любой сказки – вот как эта птица была лучше любой живой птицы.
– Перед тобой, – продолжал Сотель, – пример того, как работают археологи. Вот эта мозаика, которая тебе так нравится. Погляди на клюв. Что ты видишь рядом с ним?
– Пятно, похожее на заплатку, – сразу же ответил Жюльен.
– Совершенно верно. Но ведь это была вилла богатого человека. Очень богатого, я бы сказал. Мозаика итальянской работы третьего века. Разные камни, привезенные из разных уголков империи. Вилла была внезапно разрушена, я бы сказал, в пятом веке. А в центре мозаики, украшающей пол вестибюля, – безобразная заплатка. Там, где выщербившийся кусок был заполнен цементом. Какие выводы ты из этого сделаешь?
Жюльен уставился на мозаику, вдруг рассердись на такое сухое обсуждение птицы, на то, что у него отнимают ее совершенство, деловито указывая на ее изъяны. Он помотал головой.
– У владельца не хватало денег, чтобы выписать новые камни для настоящей реставрации, чтобы нанять мастеров, если еще было, кого нанимать, – продолжал Сотель. – Тут все приходило в запустение. Поля зарастали, потому что их некому было обрабатывать. Торговля сошла на нет, города гибли. Эта маленькая заплатка позволяет тебе увидеть крушение целой цивилизации, величайшей из всех, какие пока видел этот мир. Я заметил, что ты рассердился, когда я указал тебе на эту выбоину. И я тоже зол на нее.
– А почему, мсье?
– Потому что существование цивилизации зависит от постоянных усилий, не допускающих и шагу назад. Ее должны пестовать люди доброй воли, защищать ее от мрака. А они сдались. Они перестали ее пестовать. И потому этот край погрузился во мрак варварства, который длился сотни лет.
Он покачал головой и посмотрел на Жюльена, напоминая себе, что так горячо он разговаривает с десятилетним мальчуганом.
– Ну хорошо, – сказал он. – Ты заблудился. А я собирался показать тебе дорогу домой. Если ты дашь мне время собрать сумку, я провожу тебя до дороги.
До нее оказалось совсем недалеко. Его новый друг шел в том же направлении, и Жюльен рысил рядом с ним, делая по два шага на его один, и старался придумывать способы, как побудить его говорить еще и еще. Сотеля не требовалось подталкивать – на любой вопрос он давал вдумчивый, взвешенный, серьезный ответ. Он разговаривал с Жюльеном, как с ровесником, и выслушивал его рассуждения с благожелательностью, в которой ему отказывал его резкий, недоступный отец.
Когда они пришли к нему домой, Сотель объяснил его матери, что Жюльен задержался по его вине, и спросил, нельзя ли мальчику еще раз посетить раскопки.
– Но вы же говорите несерьезно, отче, – сказала Антуанетта Барнёв. – Он будет вам только мешать.
– Напротив. Он очень умный мальчуган, и я самого высокого мнения о его взглядах. А кроме того, у него есть пара сильных рук, а я нуждаюсь в помощниках. У меня почти нет денег платить рабочим, и если он готов поработать бесплатно, я буду счастлив воспользоваться его согласием.
– Право, не знаю…
– Пожалуйста, maman, – сказал Жюльен в отчаянии, не веря, что она способна отвергнуть такое предложение.
– Я подумаю, – сказала она. – Там увидим.
Сотель знал, что победа осталась за ним, и поворачиваясь, чтобы уйти, он подмигнул мальчику. По секрету. Будто другу – друг.
Жюльен смотрел, как дюжий священник, насвистывая, удаляется по дороге, пока тот не скрылся за поворотом. Весь вечер Жюльен не мог думать ни о чем другом, а ночью он ему приснился.
То, что Сотель был священником, Жюльена совершенно не заботило. Он был в том возрасте, когда людей еще судят по их поступкам. Как не заботило и его мать, чья вера была крепка, хотя и укрыта от посторонних глаз. Однако его отца это привело в ярость: едва он узнал о летнем занятии Жюльена, как в письме из Везона категорически потребовал, чтобы всякие отношения со священником были прекращены немедленно. Ведь он – врач и свободомыслящий – гордился и своим избавлением от суеверий, и безоговорочной преданностью современности и прогрессу. Он не терпел духовенства с его интригами и замашками, и одной из причин его отчуждения от жены было презрение к этой ее слабости. Собственно говоря, семейную жизнь Барнёвов определяло это расхождение между мужем и женой, так как – хотя об этом никогда вслух не упоминалось – между ними шла война за душу Жюльена.








