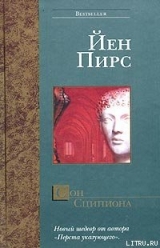
Текст книги "Сон Сципиона"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Бернар, как всегда, был хорошо информирован – человек, который как будто мог понять необъяснимое. На сортировочной станции на юге Парижа формируется поезд, чтобы увезти младших членов правительства и старших чиновников в Тур, сказал он. Поговаривают о новой линии обороны на Луаре. А еще – о перемирии.
– Почему они уезжают?
Странно! Здание выглядело опустевшим. В разгар величайшего кризиса, который когда-либо поражал страну, газета словно бы закрылась. Жюльен один раз зашел сюда к Бернару незадолго до начала войны. Тогда деловая суматоха и шум работы были предельными и бодрящими. Теперь тут царила тишина, словно события были слишком ошеломляющими для того, чтобы какая-то газетка могла освещать их и объяснять.
– Если они останутся, то будут схвачены в ближайшие же дни. Здесь все кончено. Есть только одна альтернатива: отступить и начать сначала. Немцы не готовы к массированному наступлению. Их коммуникационные линии слишком растянутся. Им необходимо остановиться и перегруппироваться, а тогда мы сможем контратаковать.
Он умолк и посмотрел на Жюльена с непонятной полуулыбкой на губах.
– Но мы этого не сделаем, – сказал он негромко. – Генералы и политики уже сдались. Еще до того, как война началась. И уезжают туда, где смогут капитулировать. И назовут это перемирием. Снова мир с сохранением чести. Сколько же чести у этих людей? По-видимому, неистощимые запасы.
– А что будешь делать ты?
Бернар покачал головой.
– Не знаю. Подумывал уехать в Бретань. По слухам, англичане намерены ее удерживать, хотя не думаю, что они продержатся долго. С другой стороны, правительство направляется на юг. Пожалуй, я последую за ним.
Он засмеялся.
– Поразительно, не правда ли? Четыре дня назад мы были убеждены, что сумеем противостоять всему, что могут бросить против нас немцы. Говорили только об атаке, о наступлении. А теперь? Мы даже не знаем, кто возглавляет правительство и что оно намерено предпринять. И значит, мы должны следовать своим инстинктам и что-то совершить, пусть это будет просто жест, – продолжал он, размышляя вслух и совсем забыв о присутствии Жюльена. – Все-таки я поеду в Бретань. Конечно, я нахожусь в немецком списке нежелательных лиц, а потому остаться здесь не могу.
Как всегда, тщеславие внесло свою лепту в его понимание мира. Он обернулся к Жюльену.
– Поедешь со мной? – спросил он. – Тебя, подозреваю, никто за это не поблагодарит, ни правительство, ни англичане. Но это будет приключение. Ты и я против всего мира, совсем как когда мы разбили окно в церкви.
Жюльен покачал головой.
– На что может кому-нибудь пригодиться сорокалетний классицист? – спросил он.
– А тридцативосьмилетний пустозвон-журналист? – последовал ответ. На самом деле Бернар был ровесником Жюльена, и оба это знали. Жюльен покачал головой.
– Ты слишком уж любишь жесты, – сказал он. – К тому же я свою войну отвоевал. И повторить не могу. В прошлый раз это ничего не дало и теперь тоже не даст.
Бернар кивнул.
– Хорошо бы побольше немцев придерживались такого же мнения. И поменьше французских генералов. Но я тебя не упрекаю. В конце-то концов, ты прав. Отправляйся домой. Там тебя, во всяком случае, никто не потревожит. Если ты туда доберешься.
Он повернулся и потряс руку Жюльена.
– Зайди сегодня днем в Министерство внутренних дел. Я поговорю кое с кем и позабочусь о какой-нибудь подходящей бумаженции, чтобы тебя посадили на поезд. Но дальше тебе придется действовать самому.
Жюльен кивнул и стоял, глядя, как его друг решительным шагом направляется в отдел новостей с внезапной целеустремленностью, тогда как он остался без единой цели, кроме потребности вернуться домой. В походке его друга появилось что-то новое, почти упругость, которая выдавала, что на самом деле Бернар упивается происходящим, что перед ним открывается какая-то счастливая возможность. И это встревожило Жюльена больше всего остального, что произошло в этот день.
Исход этой случайной встречи был заложен на тридцать лет раньше в сценке, когда компания мальчишек играла летом 1911 года на площади Везона высоко в средневековом городе на вершине холма, куда перебрались горожане задолго до дней Оливье и где они оставались, пока за полвека до рождения Жюльена не начали вновь перебираться на равнину, где некогда кипел жизнью античный город.
Бернар, младший на несколько месяцев, наиболее предприимчивый, бесшабашно прыгает с оград, громко хохочет. Иногда в окне какого-нибудь дома появляется голова, и голос – старый или молодой, мужской или женский, сердитый или посмеивающийся – требует, чтобы они не шумели. И несколько минут они не вопят, пока Бернар не отыскивает еще какую-нибудь причину для смеха.
Марсель, на год старше, не уверен, что ему следует проводить время с малышами, и стоит в стороне, но потом его втягивают в игру. Они бросают камешки в брызжущий водой фонтан под окном церкви. Их лица говорят об их характерах. Бернар швыряет камешки упоенно, азартно проверяя, удастся ли ему попасть в каменную чашу, но не огорчаясь, когда промахивается. Он наслаждается движением своей руки, дугой, которую описывает камешек. Он примеривается к разным броскам: быстрым, параллельным земле, медленно и грациозно описывающим крутую параболу. Стоя спиной к мишени, швыряя через плечо, вопя с одинаковым восторгом и когда попадает, и когда мажет. Его камешки часто разбрызгивают воду – он прирожденный спортсмен.
Жюльен – и не такой озорной, и куда менее меткий. Он усердно сосредоточивается, стараясь взять верх над своей природой. Он промахивается снова и снова, но упорно продолжает, и камешки падают все ближе и ближе к цели, пока не попадают в чашу.
Он смеется от радости, а Бернар откликается веселым «ура!» и прыгает вокруг него и хлопает в ладоши.
Марселю не нравится такое внимание к нему. Он бросает свой камешек со всей силы и неосторожно. Камешек разбивает церковное окно, осыпая маленькую площадь осколками стекла и звоном. Он убегает, оставив Бернара и Жюльена стоять там. Когда из своего дома выходит священник, Бернар берет вину на себя, зная, что отец Марселя – человек жестокий и грубый, – услышав о случившемся, свирепо его изобьет.
Марсель его не поблагодарил, хотя он и не был неблагодарным.
Вот о каком случае упомянул Бернар – одном из тех моментов детства, которое проецирует всю взрослую жизнь. Жюльен, нервный, не виноватый, но твердо оставшийся на месте. Беззаботный Бернар, делающий великолепный жест во имя дружбы и самовозвеличения, его действия экстравагантные, но благородные. И Марсель, трусоватый, испуганный, боящийся власть имеющих, не желающий брать на себя ответственность за свои поступки, довольный, когда за него наказывают других. Готовый к сопротивлению, коллаборационист и колеблющийся интеллектуал. Миниатюрная сценка будущих событий, истории целых жизней, втиснутые в маленькую площадь провинциального городка.
Впрочем, Жюльен помнил ее такой потому, что Бернар много лет спустя как-то упомянул ее в подробностях и напомнил ему о ней. Благодаря дару рассказчика он наложил свою версию на то, что успело стать смутным, слабеньким воспоминанием. Жюльен не усомнился в его рассказе и даже вспомнил панику на лице Марселя и кривоватую улыбку бравады на губах Бернара, когда он шагнул вперед.
Но изредка он был почти уверен, что ему-то помнилось совсем другое: бросил камень и убежал Бернар, а избит был Марсель.
Несмотря на множество мелких обязанностей, которые должен был выполнять Оливье, чтобы сохранить свое положение в доме кардинала Чеккани и место в папской администрации, гарантировавшее ему его жалованье, у него оставалось достаточно свободного времени для удовлетворения своей страсти к розыскам древних знаний. Безмолвный уговор с его патроном касательно этого был совершенно ясен. Когда обнаруживалось нечто особенно важное, Оливье, если возможно, должен был приобрести находку для коллекции кардинала, а если это оказывалось невозможным, то сделать копию для его библиотеки. На протяжении лет Оливье приобрел около сорока подлинных манускриптов. Большинство он купил либо за деньги, либо за обещания милости или заступничества. Четыре украл, потому что они были в небрежении, в опасности, а он к тому же невзлюбил их номинального хранителя. Насколько он мог судить, ему ничего не стоило бы прихватить и гораздо больше. Во всяком случае, кражи никто не заметил бы.
«Сон Сципиона», философское завещание Манлия, он с усердием переписал сам, не поддавшись искушению опустить его в свою сумку потому лишь, что старый монах, позволивший ему взять его в руки, был таким добрым и питал такое странное уважение к манускриптам, которые сам не удосуживался прочесть. Щуплый коротышка – старый, но жилистый и крепкий, – он, видимо, получил под надзор библиотеку, потому что в монастыре к нему относились с пренебрежением. Оливье не понимал почему. Конечно, он был немного невнятен, слегка мечтатель, рассеянный, иногда ворчливый и раздражительный, но легко отходивший и отзывчивый на любое проявление интереса. Сначала, когда Оливье только появился сопровождении аббата, прочитавшего рекомендательное письмо Чеккани, – он был равнодушен, даже враждебен и чинил ему всяческие помехи. На второй день, после того как Оливье не поскупился на время для разговоров, он сам принес ему манускрипты посмотреть. А на третий – вручил массивный ключ и велел самому брать, что ему приглянется.
И хотя многие – если не почти все – старинные документы никем прочитаны не были, он тем не менее относился к своим владениям с немалой гордостью. Полки все были чистыми, пыль стерта, рукописи в хорошем состоянии и расположены в определенном порядке. Но содержание их оставалось неизвестным – опознаны были только тексты, которыми пользовались. Проглядывая их, Оливье предложил составить список, чтобы в будущем все могли знать, что они содержат, но его предложение было отклонено. Слуга кардинала Чеккани мог осматривать и читать все, что ни пожелает. Однако монах не предполагал, что найдется другой такой же дурак, ну а он не испытывал ни малейшего желания узнать, что именно он так усердно охраняет и оберегает. У него была своя обязанность, и он ее усердно исполнял, а какой в ней был смысл, его совершенно не заботило.
Оливье было подумал, что манускрипт – еще одна копия труда Цицерона, носящего то же название. А поскольку это было одно из известнейших классических произведений, дошедших до его дней, находка еще одного списка особого значения не имела. Ну, пожалуй, она могла помочь ему исправить некоторые ошибки – Оливье примерно сознавал, что систематическое сравнение разных источников может привести к очищению текста от ошибок, которые вкрадывались в него в процессе переписывания. Но по этому пути он особенно не продвинулся. Переписка манускрипта была исполнением долга, а не трудом любви. И только когда он прочел несколько первых страниц, ему стало ясно, что это нечто совсем иное.
Тем не менее в особый восторг он не пришел, так как больше всего его интересовал золотой век Рима, век Катулла, Вергилия, Горация, Овидия и – самое главное – Цицерона. Даже этот период был известен лишь смутно, однако все знали, что он – самый ценный. Песни умирания Римского мира занимали подсобное место, будучи интересными лишь в той степени, в какой они отбрасывали свет еще дальше в прошлое на славные дни Августа и Афин. Вот почему Оливье переписал манускрипт и почему на следующий день, неловко сидя в седле, он поймал себя на том, что его мысли все время возвращаются к тому, о чем в нем говорилось. Античная философия была ему практически не знакома, и он толком не понимал слов, которые читал, списывая их. «Человек, достойный Бога, сам будет неким богом и может обрести это состояние только через смерть; человек умирает, когда его душа покидает тело, однако и душа умирает своего рода смертью, когда она покидает свой источник и падает на землю. Стремление человека к добродетели есть желание души вернуться туда, откуда она явилась. До тех пор, пока душа не обретет добродетели, она должна пребывать под луной. Чистая любовь – это воспоминание о прекраснейшем и стремление вернуться к нему. Лишь через свершение этого душа обретет свободу».
Слова, пожалуй, достаточно ясные, но слишком многое в них смущало Оливье. Человек, сам становящийся неким богом; души, умирающие, когда они рождаются; любовь как воспоминание – все это было измышлениями ума, которые сбивали его с толку, казались полным вздором. Быть может, они и правда были бредом безумца, но слагались они в такую лиричную и четкую прозу, что он не решился совсем отвергнуть манускрипт. Что и сказал кардиналу, вручая ему список вместе с семью другими рукописями. Наконец-то они оплатят его туфли!
– И кто написал это? – осведомился кардинал.
Они сидели в летнем кабинете Чеккани на среднем этаже величественной башни, в комнате темной и сырой в зимние месяцы, но бодряще прохладной в слепяще-жгучем июне, блаженном убежище от сокрушающей дневной жары. На письменном столе Чеккани стоял кувшин со свежей водой, которая хранила прохладу, потому что ее привозили зимой с гор к его дворцу в повозке как куски льда, и хранили глубоко под землей много ниже погребов, пока в ней не появлялась нужда. Этот восхитительный бесценный напиток он наливал сам: он любил беседовать с Оливье и не хотел, чтобы их отвлекали. Всякий раз, когда его непоседливый протеже возвращался из своих путешествий, Чеккани выкраивал по меньшей мере два часа от своих неотложных дел и с нетерпением школяра предвкушал рассказ молодого человека о его странствиях и находках. Вообще трудно сказать, кто кого заразил страстью к рукописям или даже кто из этой странной пары больше завидовал кому: если Оливье видел власть и славу кардинала, то Чеккани видел только свободу Оливье, его кипящую юность.
– Она начинается так: «Манлий Гиппоман, слуга философии, шлет привет Госпоже Мудрости». Кроме того, есть упоминание о деяниях в дни правления Майориана, одного из последних императоров, если не ошибаюсь.
– Но это не христианский документ?
– В нем нет ни единого упоминания о христианстве. С другой стороны, святой Манлий все еще чтим, а жил он примерно тогда же. Он святой того города, где я родился. Имя редкое, так что, наверное, это один и тот же человек, а если так, то Госпожа Мудрость, госпожа София, как он ее называет, вполне возможно, имеет какое-то отношение к святой Софии, хорошо тебе известной. Конечно, это только догадка. И все становится даже еще более непонятным.
– Почему?
Оливье задумался, ища, как объяснить то, что он не столько понимал, сколько ощущал.
– Рукопись нейдет у меня из ума, не знаю почему, – сказал он наконец. – Я уверен, что некоторые ее утверждения я уже знал раньше. Другие, мне кажется, я понимаю, но потом, подумав, открываю, что совершенно их не понимаю. И не знаю, каким способом установить, есть ли в ней смысл или это только вздор.
– Но о чем она?
– Отчасти это комментарий к Цицерону, откуда и название. Отчасти – рассуждения о любви и дружбе, а также о связи между ними и жизнью души, а также служением добродетели. Это доступно моему пониманию. Но больше почти ничего. Затем последний раздел, в котором наставница возносит этого Манлия на небеса и показывает ему всю вечность. Самая непостижимая часть. Я знаю только, что всякий, кто стал бы писать подобное теперь, навлек бы на себя большие беды. И потому я не знаю, с кем я могу поговорить об этом.
– Тебе придется пойти и спросить еврея кардинала де До, – сказал Чеккани. – Возможно, он знает. И вряд ли он на тебя донесет. Я попрошу брата де До дать тебе письмо к нему. Он, полагаю, не откажет мне в этой услуге, хотя мы сердечно друг друга терпеть не можем. Знания – нейтральная земля в нашей войне.
Оливье и взволновала, и удивила такая возможность. Он, разумеется, слышал о еврее кардинала, но никогда его не видел. Как и почти никто другой. Каким образом он забрался под крыло Бертрана де До, было неизвестно, хотя люди знали, что порой даже папа посылал за ним, чтобы о чем-то посоветоваться. Когда он приезжал в Авиньон, то ни с кем не разговаривал, а те любопытные, кто старался завести с ним разговор, наталкивались на насмешливое презрение, вежливое, но глубочайшее пренебрежение, которое указывало, что их доброе мнение ему абсолютно не требуется. Неудивительно, что многие находили это оскорбительным, считая, что таким, как он, должно льстить, если они оказывают ему честь, снисходя до беседы с ним, да только их мнение для него как будто ничего не значило.
Оливье всегда полагал, что указанный Герсонид был если не менялой, так врачевателем. Ведь это были наиболее обычные занятия для евреев, а закон, воспрещавший христианам иметь с ними хоть какое-то дело, повсеместно оставался в небрежении. Бесспорно, курия нуждалась в первых, но не для того, чтобы занимать деньги, поскольку ее доходы были колоссальными, а для того, чтобы направлять этот огромный поток золота по Европе таким образом, чтобы он достигал нужных людей без лишнего промедления. Евреи с их связями идеально подходили для таких целей и в обмен на покровительство исполняли подобные услуги честно и дешево. Однако, казалось бы, для истолкования темных рукописей времен заката Рима подобные люди подходили меньше всего.
– О нет, деньгами он не занимается, – сказал Чеккани со смешком. – Он беден, почти нищий и лишен нужных для этого способностей. Я сам иногда советовался с ним, но уже давно перестал платить ему золотом: он успевает раздать его направо и налево, не пройдя и ста шагов от дворца. Аскетизм и бедность – благородны и священны, но, признаюсь, в клиентах они меня раздражают.
– Вот так? Но что он такое?
– Он ученый человек, мой милый Оливье, и его сородичи так это ценят, что платят ему деньги, лишь бы он набирался учености все больше и больше. Ты, без сомнения, одобришь этот их обычай. Он то, что они называют ребе, а мы назвали бы философом, так как, по-видимому, никаких обязанностей священнослужителя на него не возложено. Он живет в Карпетрасе и редко покидает свой дом. Даже папе приходится чуть ли не умолять, чтобы он отвечал на его письма. И то, что его святейшество терпит это, подсказывает тебе, чего он стоит. Я дам тебе рекомендательное письмо. Отправляйся и повидай его. Он поговорит с тобой, если де До настоит. Но не жди, что он тебе понравится: он прилагает много усилий, чтобы быть крайне неприятным, и обычно это ему прекрасно удается.
Трудно поверить, что об одном из величайших философов средневековья известно так мало, что никто не знает, когда именно он умер в пределах тридцати лет, и тем не менее именно так было с Леви бен Гершоном, известным также как Герсонид, а тем, кого влекут криптограммы, как Ралбак, по названиям ивритских букв в его имени. Официально он умер в 1344 году, поскольку именно в этом году его имя последний раз фигурирует в архивах, а в 1351 году он упоминается как умерший. Однако некоторые отметают это и указывают на данные, свидетельствующие, что он был еще жив в 1370 году.
Впрочем, никто не потратил времени на разгадку этой тайны, поскольку жизнь его была настолько чистым листом, что установление даты его смерти особого значения не имеет. Кроме того факта, что он прожил всю жизнь в Провансе и был известен авиньонской курии, о его днях и заботах не осталось никаких сведений.
Зато есть его труд, одно из самых замечательных озарений его века и всех других. Герсонид был энциклопедистом, который на разных этапах обращался к астрономии, химии, Талмуду, античной философии, медицине и ботанике. Только политики, искусства властвовать, он сторонился. Мудрое решение, если учесть его ситуацию. Мало кто был бы благодарен ему за его мысли. Вместо этого он преобразил особенности своего положения – свою полную изоляцию от окружающего общества, отсутствие хотя бы малого влияния при полной уязвимости и зависимости от капризов этого общества – в один из аспектов философской позиции, которую старательно творил столько лет. По контрасту со своим великим предшественником Маймонидом он выдвинул постулат превосходства созерцательной жизни над деятельной, отвергнув идею гармоничного равновесия между действиями в этой жизни и приготовлением к той, которая ее сменит. Ибо один из главных его трудов был посвящен существованию души – положение, которое занимало и Софию, но которое христианская мысль была склонна принимать как аксиому, как нечто, не нуждающееся в доказательствах.
Один раз – с большой неохотой – он изложил свою систему аргументов Чеккани, пытавшемуся постигнуть понятия, которые евреи вкладывали в эту проблему, и из-за этой-то беседы кардинал несколько лет спустя отправил к нему Оливье. Не следует думать, будто Чеккани в том или ином смысле пригрел его. Оба были слишком полны достоинства для подобных отношений, да и в любом случае Герсонид принадлежал кардиналу де До. Чеккани так же мало склонен был нарушить закон, преломив хлеб с Герсонидом, как Герсонид – согласиться на это. И Чеккани отнюдь не собирался допустить, чтобы кто-нибудь проведал о его обращениях к Герсониду, хотя и советовался с ним по вопросам медицины и астрологических предсказаний – еще одна область, в которой еврей превосходил познаниями всех, кроме, может быть, одного парижского профессора, состоявшего на жалованье у короля Франции, а потому несколько ненадежного.
И он не слишком нравился Чеккани, хотя его интриговала манера этого человека держаться, проникнутая сознанием своей значимости, надменным и непоколебимым. Другие евреи, которых он встречал – не то чтобы их было много, да и с этими встречи были сугубо деловые, – держались с безупречной учтивостью, даже чрезмерной. Чеккани прекрасно понимал, что она ничего не значила, эта навязчивая учтивость – маска, прячущая их нервную робость при переговорах с таким могущественным человеком, однако он не делал ничего, чтобы умерить ее или придать разговору большую непринужденность. Но с этим ребе никакой двусмысленности не возникало.
«Право же, – сказал он себе после одной из их ранних встреч, – этот человек меня жалеет! Он говорит со мной словно с учеником-тупицей!»
И то, что кардинала эта мысль слегка позабавила, а не возмутила, подтверждает незаурядность его характера, которую ощущал и Герсонид.
Ну а сам Герсонид находил осаждавших его прелатов досадной помехой, а беседы с ними – если не раздражающей докукой, то, во всяком случае, честью, без которой он вполне мог бы обойтись. Он не хотел, чтобы с ним советовались князья Церкви, не извлекал никакого удовольствия из их внимания. Это были услуги, которые могли когда-нибудь принести пользу. Но он не желал отказывать никому, кто искренне искал знания, а оба кардинала – де До и Чеккани – хотя вовсе не философы и слишком причастные власти, чтобы стремиться к нему беззаветно, – все-таки, быть может, таили в себе какую-то искру.
И потому каждый раз, когда его призывали, он устало вздыхал и отправлялся в Авиньон – монумент алчности и излишеств, которых он не терпел. И там давал советы и высказывал мнения со всей добросовестностью. Наградой ему в 1347 году, когда он, как нас заверяли, уже три года покоился в могиле, а на самом деле наслаждался железным здоровьем, был стук в дверь, возвестивший об Оливье де Нуайене. Это была судьбоносная встреча по причинам даже еще более важным, чем экспликация темного текста в духе позднего неоплатонизма. В Оливье Герсонид ощутил ярко пылающее пламя, такое же, какое София почувствовала в Манлии, когда он вот так же вошел в ее дверь. И как она, он не сумел противостоять. В отличие от нее он, однако, проклял свое злосчастье.
Фраза Манлия, которая привела Оливье к двери ребе, была, во всяком случае, взвешенной и несла в себе величайшую важность. Собственно говоря, она суммировала почти восемьсот лет размышлений о взаимосвязи, которая должна существовать между физическим миром и метафизическим. Душа умирает, когда падает на землю. Это утверждение содержало больше христианских ересей, чем что-либо еще во всем трактате. Оно противоречило идее, что душа создается ex nihilo1515
из ничего (лат.).
[Закрыть] при рождении, первом движении плода или при зачатии – вопрос, который так и не был решен. Оно противоречило идее, что человек рождается и умирает только один раз; оно противоречило идее, что спасение дается только через Бога; более того, оно наводило на мысль, что человек сам ответственен за свое спасение, но через знание, а не через поступки или веру. Идея, что рождение – это смерть, а смерть – жизнь вновь, никак не уживалась с тогдашней христианской доктриной, зато была слишком уж созвучна ереси катаров.
И что еще важнее, она никак не согласовывалась с идеями, которые Оливье к этому времени почерпнул у Цицерона и Аристотеля, но содержала в себе мистический, магический элемент, полностью у них отсутствовавший.
Собственно говоря, эти идеи, когда Манлий запечатлел их на пергаменте, для Запада были уже почти мертвы, хотя в более слабой форме еще теплились на Востоке, пока император Юстиниан не закрыл Афинскую академию и не покончил с почти тысячелетним преподаванием знания, начатым еще Сократом. И в Галлии уже очень давно не учили ничему подобному, а Манлий и его кружок приобщились к этим идеям только когда познакомились с Софией, интеллектуальной наследницей Александрии.
Долг, а не любовь, заставлял ее учить, ведь она не могла не отдавать себе отчета в том, что каждый, кто в первый раз стучался к ней в дверь, пусть и полный любопытства, знал меньше своего предшественника. Умение вести диспут шло на убыль, постижение основных понятий слабело, и знание, даримое занятиями, постоянно уменьшалось. Христианство, окутывавшее умы людей, как одеяло, ставило веру выше разума, и те, кто рос под его влиянием, все больше отвергали знание и мысль. Даже те, в кого боги вложили искру священного огня, хотели получать готовые объяснения, вместо того чтобы думать. Внушить им, что цель – сама мысль, а не вывод, завершающий мысль, было поистине тяжким трудом. Они приходили к ней за ответами, а находили у нее лишь вопросы.
Но она продолжала, потому порой – и этого было достаточно – в ее дверь стучал кто-нибудь вроде Манлия, и она вкушала радость вести кого-то, чье любопытство было безгранично, чье желание приблизиться к истине – неистощимо. Когда Манлий простился с юностью, он начал прятать их под презрительно-насмешливой личиной аристократической бездеятельности, однако они были только укрыты, а не угасли. Она же испытывала настойчивую потребность, которая медленно преображала их отношения наставницы и ученика в нечто более сложное и опасное. Ведь через какое-то время дело уже не исчерпывалось его желанием почерпать у нее знания, она сама начала испытывать отчаянную нужду учить его, передать ему нечто, чтобы оно сохранилось хотя бы еще немного дольше. В первый и единственный раз за всю свою жизнь она отбросила сомнения и упрямо отказывалась увидеть его в целом. Она знала, что у Манлия есть свои слабости, знала, что режим созерцания, который предлагала она, мог только смирить его гордость, но не уничтожить, как и его желание славы. Она подозревала, что Манлий, который удалился на свою виллу, и Манлий, который вернулся, чтобы наложить руку на всю провинцию, противостояли друг другу, а не были двумя гранями гармоничной души. Но она игнорировала такие мысли, потому что ей это было необходимо.
От некоторых иллюзий ей пришлось отказаться: она ясно видела, что почерпнутое им у нее не будет философией в чистой форме. И все же благодаря ему что-то могло уцелеть, и София хотела этого со страстностью отчаяния.
Она провела жизнь в размышлениях и утверждала, что мысль является самоцелью, и все же она принадлежала этому миру настолько, что не могла не желать, чтобы что-то пережило ее. Она презирала плоть, отвергла брак и уже не могла иметь детей. Идеи и понятия, которые она запечатлела в уме Манлия, будут единственным оставленным ею наследством, ее единственным памятником. Не замечая этого, она теперь зависела от него больше, чем ей представлялось возможным, и эта потребность, вырывавшаяся из глубин ее души, часто воплощалась в придирчивость, назидания, суровую критику, которые, в сущности, были всего лишь отзвуками этого ее желания. Она любила его, потому что, кроме него, у нее ничего не было, и тревожилась за него по той же причине.
«Душа умирает, когда падает на землю». Это не было буквальным утверждением – ничто, чему она учила, не следовало понимать буквально. Это был один из сложнейших постулатов, осознавать которые приходились ее бедным ученикам, ибо христианство заимствовало у Греции идею логоса, слова, упростило ее, лишило смысла, а затем идентифицировало с Богом, которому они поклонялись. София учила, что божественное пребывает не только вне слов, но и вне смысла, и лишь процесс мышления может дать приблизительное о нем представление. Эта фраза была метафорой, иллюстрирующей притчей, чтобы показать огромность пути мысли, который должен пройти индивид, чтобы уловить суть божественного и приблизиться к Богу в своем сознании. После многих месяцев изучения, усердного чтения текстов из библиотеки Софии Манлий начал что-то постигать, и тогда христианство представилось ему еще более нелепым.
У Оливье, однако, таких преимуществ не было: контекст утратился, ассоциативные тексты были соскоблены или сожжены в монастырях, разбросанных по всему Средиземноморью. В его распоряжении был только этот, единственный текст и никаких средств к его истолкованию.
И вот с большим трепетом он постучал в дверь ребе Леви бен Гершона. Дверь открыла служанка, Ребекка, с которой Пизано возжаждал писать святую Софию и которую Оливье за два года до этого увидел, когда она в коричневом плаще торопливо шла по улице, а христианин стоял на ступенях церкви и раздумывал о любви.
В этот первый раз он не произвел хорошего впечатления: только краткие рекомендации кардиналов де До и Чеккани понудили Герсонида позволить молодому человеку вновь его посетить. Неожиданная встреча на пороге так потрясла Оливье, что он почти лишился дара речи. Да и общество ученого еврея сильно его смущало. Никогда еще он ни с кем из таких не беседовал, только иногда видел их на улицах, да и Герсонид держался с ним очень сурово: был ворчлив и резок, груб и крайне ядовит в своих суждениях, но все равно не мог полностью скрыть человечность, дававшую знать о себе вспышками блистательных прозрений. Оливье, которого он и восхищал, и отталкивал, не знал, как отвечать и как вести себя. Он знал только, что после этой встречи помнил каждое слово, сказанное стариком, и у него возникли десятки вопросов, которые нуждались в ответах. И еще он знал, что никто, кроме Герсонида, не способен помочь ему в поисках этих ответов.








