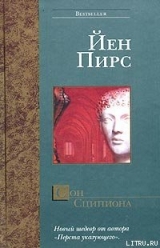
Текст книги "Сон Сципиона"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Марсель пристально на него посмотрел.
– Знаешь, я мог бы тебя арестовать только за одни эти слова.
– Знаю. Но это было бы бесполезно. Я не участвую в Сопротивлении, Марсель. Ты достаточно хорошо меня знаешь. Мое мнение об этих людях не слишком отличается от твоего. Но мне поручили передать тебе это безо всякой моей инициативы, и я обещал. Теперь я это сделал. А если захочешь ответить, дай мне знать, и я выполню и это обещание. Во имя дружбы.
– Во имя дружбы… – задумчиво повторил Марсель. – Понимаю. Но чей ты друг, Жюльен?
Жюльен пожал плечами.
– Это все, что я сделаю. Я своей помощи не предлагал, но можешь мне доверять.
– Понятно.
Марсель заговорил о другом, и больше они к этому не возвращались. Во всяком случае, в таких выражениях.
Во многом задача Манлия была проста, единственная сложность заключалась в цене. Он хотел, чтобы Гундобад вошел в Прованс. Гупдобада это более чем устраивало, но на определенных условиях. Цена оказалась высокой, даже выше, чем мог вообразить Манлий: он полагал, что король потребует себе всех прав, титулов и доходов римского прокуратора. Это хотя бы формально сохранило бы главенство Рима и обеспечило бы Манлию достаточно пространства для маневра, чтобы склонить к согласию крупных землевладельцев. В конце-то концов они получат твердую руку, способную прекратить постоянный отток населения, способную – с любой требуемой жестокостью – предотвращать вторжения безземельных.
Разумеется, аннексию требовалось замаскировать, представить чем-то совсем иным и бургундскому двору, и свите Манлия. Остается только пожалеть, что парадные речи обеих сторон, произнесенные в базилике по окончании приватных переговоров, не сохранились более или менее целиком. Дошло только слабое эхо, фрагменты в бургундском кодексе, у Фортуната и Григория.
– Достойнейший сын Рима, мы здесь, чтобы потребовать от тебя: исполни свой долг, как и подобает его верному другу. Тебе известно, как враги Рима подтачивают его изнутри и теснят извне; тебе известно, как его войска посылаются сражаться с врагами за морем, и тебе известно, как злонамеренные хитрецы стараются использовать его беды себе во благо. Сервы разбегаются; поля и улицы зарастают травой; разбойники рыщут по дорогам. Все потому, что они думают, будто провинция, откуда я приехал, слаба и беззащитна. И еще потому, обязан я сказать, что ты не вполне понимаешь свой долг и свои обязательства. Зачем Рим пригрел тебя у своей груди, столько лет помогал обретать знания, осыпал почестями и званиями? Разве для того, чтобы ты прожил жизнь только среди своего народа, лишь вспоминая о виденном тобой величии? Или была своя цель в его щедрости? Или он уже тогда провидел, что этот шестилетний мальчик однажды обретет великую силу и власть, примет на себя Богом предначертанную ему роль высокого сановника империи?
Настало время, о достойнейший, принять на себя обязанности, к которым тебя так усердно готовили. Настало время занять место правителя и военачальника Галлии. Уже сейчас люди на улицах усомнились и смеются, видя твое бездействие. Они спрашивают себя: может, его сердце не болит за Рим, может, глупые советники отговаривают его от исполнения долга? Ты должен развеять эти сомнения, принять посты, какие принадлежат тебе по праву, возложить на себя бремя долга и тем заслужить благодарность народа.
Разумеется, это было не все: потоком лились цветистые фразы и витиеватые комплименты, тщательно замаскированные под угрозы и предостережения. Иносказания в иносказаниях, измыслить и понять которые возможно лишь после многих лет практики. В своей речи Манлий обращался к королю как к равному себе гражданину: предлагаемую аннексию пока еще следовало облекать в римские одежды. И король следовал его примеру:
– Добрый епископ, слезы раскаяния выступили у меня на глазах от твоих справедливых упреков. Моей праздности нет извинений, и загладить ее может только решимость отныне посвятить себя исполнению долга. Ты устыдил меня, заставив узреть мое небрежение, и с Божьей помощью я приму на себя бремя должностей, которые, как ты мне указал, мои по праву. Я желал, чтобы другой, более достойный, взял на себя это тяготы, но теперь понял: иного выхода у меня нет. Я займу гражданский и военный посты, которые сегодня пустуют. Я водворю порядок в провинции и за ее пределами, верну ей процветание и уважение к закону, который много поколений в ней правил. Я буду защищать Церковь и блюсти ее права. Ты был прав, что пришел ко мне, и я благодарю тебя за жестокие слова. Тебя можно упрекнуть лишь в том, что ты столь долго медлил.
Королевский двор рукоплескал, и (что важнее) свита Манлия уловила главные условия, сокрытые за пышностью фраз. Сохранение римского права, а не навязывание варварских обычаев; восстановление старых должностей; оборона провинции от куда более сурового Эйриха; уважение прав Церкви и – самое главное – защита собственности и решительные меры против беглых сервов. Если он сдержит свои обещания (таково было общее мнение), все улажено. Манлий нашел мастерский ход.
Настоящий разговор состоялся в тот же вечер, и король с епископом вели его с глазу на глаз. И вот тогда-то Манлий и оказался перед выбором, которого надеялся избежать, – он был достаточно прозорлив, чтобы предвидеть его возможность. Понадобились все его мастерство и вся его мудрость: он прощупывал короля, узнавал его силу и слабости, выяснял, в какой мере на него можно давить, а в чем следует отступиться.
Гундобад не желал править именем Рима. Не желал и дальше притворяться, будто служит призраку былого, существующего только в воспоминаниях. Его гордость и сознание собственной значимости помогли ему понять, насколько Манлий в нем нуждается. Он тщательно все рассчитал: он утратит поддержку некоторых землевладельцев, зато поднимется в глазах собственного народа, и его слава возрастет многократно. Он будет править как король бургундов, никому ничем не обязанный и никого над собой не признающий.
Манлию пришлось выбирать: порядок и свобода жить мирно, но без Рима, или же недолгий срок (возможно, всего несколько месяцев) оставаться римлянином.
Он принял требование Гундобада, давно к нему приготовился. Пожертвовать именем – малость. Лучшей сделки не мог бы добиться никто, а многим ничего подобного и в голову не пришло бы. Гундобад умен и наделен гражданскими добродетелями более многих императоров. А еще он понимал, что цветистому красноречию вопреки выбора у Манлия нет, и восхищался, как виртуозно епископ извлек лучшее из того малого, что имел, видел, что Манлий станет надежным и полезным союзником. И еще на него произвело впечатление, как тот с открытыми глазами пошел на сделку, от которой большинство его современников отшатнулись бы с проклятием. И все же король не намеревался выходить за рамки здравого смысла.
А еще, как бы мимоходом, сказал Гундобад, он не намерен продвигаться на юг дальше Везона. Остальной части провинции придется самой о себе заботиться. И он не двинет войска, чтобы снять осаду с Клермона.
К тому времени оба отказались от притворства, с пустословием и комплиментами было покончено. Сейчас два государственных мужа мерялись волей, и оба желали одержать верх.
– Клермон крайне важен, его необходимо отстоять, – ледяным тоном ответил Манлий. – Сними с него осаду, останови Эйриха, и вся провинция примет тебя как спасителя.
Король кивнул:
– Я понимаю это, владыка епископ. Но я прекрасно знаю, что бросать вызов Эйриху неразумно. Я мог бы, как ты говоришь, снять осаду с Клермона. В настоящее время это не составит труда. Он держит там лишь малую часть своего войска. Но что потом? У него людей и земель много больше, чем у меня. Мне придется послать туда всех моих воинов до единого. А это откроет ему дорогу в мои земли. Позволь мне говорить прямо: я могу либо спасти Клермон ненадолго, либо твои земли навсегда. Либо-либо.
– Я был послан к тебе как к хранителю всего Прованса. А теперь должен вернуться и сказать, что спас собственную часть, а остальное оставил на волю Эйриха?
– Боюсь, выбора у тебя нет.
На этом они расстались: Манлию нужно было подумать. Впервые он пожалел, что не может молиться. Позднее, ворочаясь на постели в отведенном ему покое, он выбранил себя за слабость. Молиться! Даже его как будто заразила слабость христиан. В таком деле решать не Богу, решать ему. Вот ради чего он живет: принимать решения, делать выбор.
Трудно описать его состояние в те долгие часы. Хотя и не молитва, это была особая форма созерцания, причем неистово активного. Он не упивался своей властью изменять участь стольких людей, тем, что держит в руках их судьбы, тем, что его решение значит так много. Не заботило его и то, что подумают о нем другие, сочтут ли предателем, если он поступит так-то, или слабым, если поступит иначе. Он искал наилучший выход и слишком ясно видел: выбор прост. Спасти часть Прованса, передав ее королю, пусть варвару, но выросшему в Риме, терпимому к его вере, который будет уважать его законы и следить за их исполнением. Или ничего этого не случится.
Так он поставил вопрос и упростил свою дилемму, не взвешивая другие варианты. Можно поспешить назад, примкнуть к Феликсу и рискнуть всем. Военные таланты его друга велики. Если опустошить поместья и отдать ему всех людей до последнего, быть может, он сумеет одержать победу, которая эхом отзовется во всем мире.
Но это означало предать на разграбление собственные земли. Это означало, что уже никто не помешает работникам разбежаться кто куда. Это означало признать ошибочность собственной стратегии и подорвать собственную власть, отчаянно необходимую для поддержания порядка. И все – ради «может быть». Может быть, Феликсу удастся одержать победу, которая более полувека не давалась императорам. Но куда вероятнее, что он проиграет и ничего не добьется, а только навлечет на всю провинцию гнев короля Эйриха. Когда-то он сказал, что, если все остальное не поможет, он встанет плечом к плечу с другом. И умрет вместе с ним. И говорил это искренне. Выбор не так категоричен.
На следующее утро он принял условия Гундобада.
– Ты можешь пообещать, что мои войска не встретят сопротивления? Я не намерен ослаблять себя усмирениями и расправами.
– Не могу. Но если ты будешь действовать быстро, сопротивление будет малым. Явись с достаточными силами не позже, чем через месяц, иначе недовольные объединятся.
– И кто мог бы их возглавить?
Манлий на мгновение задумался, глядя на пустую, мертвую жаровню.
– Некто по имени Феликс, – наконец сказал он. – Он ярый сторонник римского решения и, конечно, воспротивится нашему договору. Он любим в народе и имеет большие владения. Он может собрать небольшое войско, если ты дашь ему время.
– Тогда нам лучше этого не делать, – сказал король с улыбкой. – И было бы не худо обеспечить, чтобы он и после не чинил помех.
– Если найти к нему подход, он может стать ценным союзником и хорошим советником. У тебя достаточно достоинств, чтобы со временем завоевать его поддержку.
Гундобад хмыкнул.
– Об этом предоставь судить мне, – сказал он. – И я не пойду на риск ради тебя. Эйрих возьмет Клермон и, как ты говоришь, двинется на восток. К тому времени я должен быть неуязвим. Я не могу позволить себе отвлекаться на внутреннее сопротивление. Все должно быть улажено до моего выступления, иначе помощи от меня не жди.
Манлий не сказал более ничего. Он покинул королевский покой и ушел, чтобы поразмыслить снова. На следующее утро он уехал.
По мелкой иронии судьбы, на протяжении многих месяцев единственным реальным следствием встречи в соборе было то, что Юлия снова начала продавать свои работы. Нелепый поворот, но Бернару были нужны самые разные картины, чтобы поддерживать видимость, будто он действительно торговец картинами, а ей, лишенной права быть самой собой, хотелось хоть как-то существовать в мире, где во всем остальном она была фактически невидима. Кроме того, денег не хватало, и искушение заработать хоть что-то, продавая свои работы, было неотразимо. Время от времени Жюльен встречался в Авиньоне со связным и вручал ему пачку листов – этюды, акварели и офорты – хроника ее жизни и встреч со святой Софией. Она даже подписывала их собственным именем, но вот датировала 1938 годом, чтобы создать видимость, будто они взяты из какого-то давнего запасника. Внутри пакета между листами лежали свежеизготовленные, недавно состаренные удостоверения личности разных категорий.
Жюльену очень не нравилось, что он превратился в курьера Сопротивления, и все его возражения оставались в силе. Однако, не отвози он документы, либо Юлия сама стала бы это делать, либо возможность вывезти ее из страны была бы потеряна. Всякий раз, отдавая пакет, он передавал свои вопросы: когда она выедет из страны? Все уже готово? И всякий раз получал один и тот же ответ: скоро. И список с новыми именами на новые поддельные документы. И всякий раз он подавлял ощущение, что ничего так и не будет сделано. Бернар был его другом.
Картины и эстампы служили Бернару пропуском, какой он носил с собой, чтобы показывать солдатам, милиции и полицейским, которые могли бы остановить его, заинтересовавшись, что он делает в данном месте в данное время. Смотрите, говорил он тогда, я везу показать их возможному покупателю. Времена, конечно, тяжелые, но кое-кто еще интересуется искусствам. Чем он занимался в своих разъездах, никому точно известно не было. Его биограф, опубликовавший о нем книгу в 1958 году, практически ничего не узнал об этой его деятельности. Книга намекала на важные события, но почти не сообщала ничего конкретного, тем самым поддерживая атмосферу таинственности, совершенно в стиле самого Бернара. Его роль оставалась неясной, но он использовал ауру Лондона, чтобы воздействовать на разобщенные группы, которые с такой радостью убивали как друг друга, так и немцев. Склонять их к сотрудничеству и единой политике, не давая ни слишком много, ни слишком мало какой-либо из то и дело возникающих фракций. Помешать любой стать слишком сильной или влиятельной – что зачастую требовало сеять раздор и взаимное недоверие. Его не любили, но, невзирая на тот факт, что за ним не стояло ничего, кроме собственной личности и обрывочных сведений о том, где и когда сбросят темной ночью с самолета оружие и деньги, его в этой среде боялись и уважали. Он был в своей стихии.
Он обосновался в Ниме, где никто его не знал, и снял небольшой магазинчик, который открыл как картинную галерею. К делу он отнесся серьезно и даже увлекся. Собрав достаточно картин, чтобы устраивать скромные выставки, он приглашал на частные просмотры немецких офицеров. Он произносил спичи, угощая их вином, указывая на способность искусства преодолевать политические разногласия. С его языка слетали клише о контрасте между искусствами мира и войны. Это было дерзко с его стороны: картины на его стенах были меньше всего в военном вкусе, но приобретенная репутация оказалась более чем полезной. В городе его в лучшем случае считали ловким дельцом, в худшем – презирали как без пяти минут коллаборациониста, лебезящего перед оккупантами. Зазор между этими мнениями давал ему свободу действий.
Впрочем, иногда он даже что-то продавал. Однажды под вечер к нему в галерею зашел капитан отдела разведки в Ниме, лингвист из Гамбурга, за десять дней до того узнавший, что его жена и двое детей, его отец и мать погибли во время бомбежки. Он не мог сосредоточиться на работе – анализе сигналов, улавливаемых в постоянной радиоболтовне на юге: из таких незашифрованных сжатых фраз временами удавалось извлечь крупицы информации. Но все это утратило для него смысл – он знал: война проиграна, и впервые заподозрил, что ему все равно.
Капитан бродил по улочкам уже более часа, когда оказался на рю де ла Републик и зашел в галерею Бернара, так как хотел отвлечься от одних и тех же навязчивых мыслей и воспоминаний.
Он почти час провел, рассматривая офорты, основательно встревожив Бернара, который сам ни
у одной картины дольше минуты не задерживался. Сначала он решил, что к нему вот-вот нагрянет гестапо, но ничего сделать не мог: он был не настолько глуп, чтобы держать под рукой оружие. Потом он заметил, что по щекам капитана катятся слезы, и отблески света в каплях, сбегающих по щетине на бледном лице, его несколько ободрили.
– Чьи они? – наконец спросил капитан. – Кто он?
– Она, – поправил Бернар. – Художницу зовут Юлия Бронсен.
– Они великолепны.
Бернар перевел взгляд на офорты. Правду сказать, прежде он никогда к ним не присматривался, но и сейчас ничего особенного не увидел. Однако свое дело он знал.
– Э… да. Они действительно особенные.
– Я покупаю все. Сколько?
Бернар назвал невозможную цену. Лицо капитана вытянулось, поэтому он немного сбавил. Тот купил все восемь.
– Мне бы хотелось с ней встретиться, – сказал он, когда Бернар заворачивал офорты в газету. Ничего другого у него не было.
– Это невозможно, – ответил Бернар. – Она живет далеко отсюда. А кроме того…
– Она не захочет со мной встречаться?
– Она еврейка.
Капитан кивнул.
– Тогда, пожалуйста, хотя бы передайте ей мое глубочайшее восхищение тем, что ей удалось здесь достичь.
Он попрощался легким наклоном головы и вышел из галереи. Юлия была до смешного довольна, когда услышала про случившееся.
Обвинение против Герсонида и его служанки было выдвинуто прямо перед тем, как заболел и умер первый из телохранителей папы. До того все в папском дворце, новые, но неотделанные стены которого поспешно укрепили, а доступы в них закрыли, смели надеяться, что, не впуская людей, не впускают внутрь и саму смерть. В конце концов, во что еще им было верить? И предпринять они могли лишь немногое: только уповать и обходить дозором стены. Надежда была неверна по сути, хотя новизна здания – еще не вполне достроенного и отделанного – как будто отчасти защищала. Во всяком случае, к тому времени, когда умер стражник, в самом Авиньоне погибло уже несколько тысяч человек.
Разумеется, выступил с обвинением не сам Чеккани: такой ход был бы слишком очевидным. Он только дал понять в подходящий момент, что сразу же поверил донесению, едва его услышал, и все восхваляли его за неусыпную бдительность. Нет, один из его клевретов, священник благородного происхождения, явился в чаянии награды к дворцовому сенешалю и обвинил их. Опять-таки этот документ сохранился в архиве и был прочитан Жюльеном в Риме.
– Вчера вечером я видел, как еврейка вылила что-то из фиала в колодец, – сказал он. – Из этого колодца достают воду для его святейшества.
Надо отдать должное сенешалю: хотя при этих словах по спине у него пробежал холодок ужаса, он сохранил спокойствие и попытался придерживаться обычной процедуры. Даже в такие времена, Даже с еврейкой. Не то чтобы он был таким уж хорошим человеком, но вот хорошим солдатом он был и верил в соблюдение установленного порядка. Счастливое обстоятельство, а для кардинала де До так и спасительное. Отдай сенешаль приказы тут же на месте, солдаты ринулись бы в покой Герсонида и через минуту он и Ребекка были бы убиты.
Арест явился тем шансом, о котором Чеккани так долго молился. Что ни день он слышал все больше о том, как рушатся нравственные устои, пока люди отшатывались от происходящего вокруг. Распущенность и похоть оплели своими щупальцами весь мир, народ отворачивался от священников и Церкви и проклинал Бога. Если не дать ему надежду, то сама власть Церкви рухнет. Он попросил аудиенции у Клемента, чтобы попытаться снова заставить его осознать размах обрушившегося на мир бедствия. Не число мертвых, а воздействие, какое оно оказывает на живых.
– Каждый день я получаю все новые донесения. Я слышу, что мужчины и женщины, незнакомые между собой, совокупляются посреди улиц на глазах у прохожих. Жены покидают мужей, а мужья жен и даже продают их другим. Я слышу о детях, выброшенных на улицы умирать с голоду. Об убийствах безо всякой причины, о священниках, оскорбляемых, оплеванных, об оскверненных церквях. Сама власть, сам закон рушатся, святейший, а Церковь, вместо того чтобы вернуть людей назад к Богу, заставить их узреть их грехи и покаяться, только еще более их отталкивает. Следует сейчас же восстановить порядок и дать людям цель. Они взывают о руководстве. И ты должен дать им эту цель, должен выступить немедля и подчинить происходящее своей власти.
Папа отер струящийся по лбу пот. Чеккани подумал, что он похудел на треть за эти недели, поджаривая себя в своей башне и потея. Клемент настороженно глядел на своего кардинала. Он не любил Чеккани, подозревал его в постоянных интригах, но также признавал его ум и усердие. Кардинал Чеккани жаждал власти и, без сомнения, даже желал стать его преемником. Но верно было и другое: мало кто так заслуживал этого сана или так самозабвенно пекся о его защите.
– И что мне делать, Чеккани? Предложить исцеление? Воскресить мертвецов? Воздеть руки и приказать чуме сгинуть? Молитвы бесплодны, мое ходатайство ничего не принесло.
– Ты должен дать надежду и объяснение. И превыше всего действовать спешно, чтобы противостоять тем, кто использует бедствие, дабы повредить Церкви. Их много: нищенствующие монахи, нищие, смутьяны, называющие себя флагеллянтами. Они призывают к покаянию и самобичеванию, и народ стекается к ним, оставляя Церковь. А еще они предлагают объяснение, единственное объяснение: Бог наслал чуму в наказание за грехи человеческие и его Церкви, уведший людей с пути истинного.
– Вот как? Мы этим займемся!
– Нет, святейший. Тебе их не одолеть. Пойдя против них, ты навлечешь на себя еще большую ненависть. Ведь они ухаживают за больными и дают надежду, Церковь же сейчас не делает ни того, ни другого. Ты не должен обрушиваться на них, ты должен их возглавить.
Клемент смотрел на него бесстрастно.
– Продолжай. Расскажи мне, что ты задумал.
И Чеккани объяснил, каким образом Церковь может натравить их на евреев и уничтожить последних, как истребила еретиков-катаров и отбросила магометан от стен Иерусалима. Дать людям цель, возможность уничтожить своих врагов, тех, кто навлек на них беду. В глазах Клемента он увидел танцующее искушение славой, отражающее пляску пламени в очаге, и понял, что уже на полпути к своей цели.








