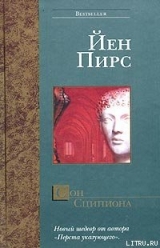
Текст книги "Сон Сципиона"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
За поворотом, заслоненном деревьями, он вдруг увидел перевернутую повозку, осла, пытающегося подняться на ноги, и пожилого мужчину, старающегося освободить его от сбруи. Он негромко ругался, а повсюду вокруг валялись принадлежности ремесленника, отправившегося из деревни на ярмарку, – как оказалось, его собственный товар: три пары прекрасно сшитых башмаков, несколько кусков недавно выдубленной кожи и корзины, сплетенные его семейными. Съестные припасы, плод труда его соседей, избыток сверх их собственных нужд, и несколько свертков рядна, серого и клочковатого, на случай, если кто-то захочет купить такую пестрядину.
Оливье остановил коня, оглядел эту картину, спрыгнул с седла и поспешил на помощь. А она была очень нужна, потому что осел бился в оглоблях, рискуя сломать ногу или повредить повозку. А хозяин всего этого добра даже не кивнул ему, весь сосредоточившись на усилиях спасти средства своего существования и испустив громкий вздох облегчения, когда наконец высвобожденный осел перекатился в сторону, поднялся и принялся беззаботно щипать траву поблизости. Он был примерно вдвое старше Оливье, сильным, но не дюжим. Движения его отличались точностью искусного ремесленника, а такого взгляда у человека его сословия Оливье ни разу не видел. Откровенный, любопытствующий, он сразу оценил Оливье, однако тот все-таки уловил какую-то скрытность и настороженность.
Он подождал, чтобы его спаситель заговорил первым.
– Ну-ка давай поднимем повозку. Она как будто цела, и вдвоем мы поставим ее на колеса без особого труда. Некоторые твои товары, боюсь, запачканы, но остальные как будто целы и невредимы.
Торговец кивнул и обошел повозку, прикидывая, как лучше взяться за дело. Затем Оливье, следуя его командам и остерегаясь запачкать свою одежду, вместе с ним приподнимал, толкал и тянул, пока повозка опасно не закачалась на одном колесе, но затем ударилась о землю другим и встала как надо. Хозяин внимательно ее осмотрел, потом довольно засопел.
– Благодарствую, – сказал он Оливье. – Премного благодарен.
И словно искупая свою лаконичность, не желая показаться грубияном, он сунул руку в большую холщовую сумку, свалившуюся на дорогу, извлек фляжку, откупорил ее и протянул Оливье.
К счастью, в ней оказалась вода – для вина час был еще слишком ранний, и Оливье охотно напился. Не то чтобы ему это требовалось – у него было вполне достаточно своей, но это был знак благодарности. Сделав последний глоток, он утер рот рукавом и вернул фляжку.
– Вода души, – сказал он с улыбкой, без всякой задней мысли, даже не вспомнив, откуда эта фраза. Просто она первой пришла ему в голову, а ему хотелось заполнить тишину, возникшую из-за молчаливости торговца. А может быть, им двигало желание показать, кто он такой: человек с положением, ученый, с которым не следует обходиться фамильярно, пусть даже они только что вместе поставили на колеса старую повозку. Одно дело помочь путнику в беде – истинно христианский поступок, к тому же некоторое развлечение, развеивающее дорожную скуку. Но это вовсе не значило, что он потерпит панибратство. Оливье был еще достаточно молод и тщеславен, и ему хотелось, чтобы окружающие знали, что он человек значительный.
Если такова была его цель, то результат оказался прямо противоположным тому, который он предвкушал. Хозяин повозки уставился на него с удивлением и подозрительностью, поколебался, а потом сказал:
– …струится в океан божественности.
Теперь настала очередь Оливье ошеломленно уставиться на него: едва были произнесены эти слова, как он вспомнил их источник. Хорошо, что поблизости никого не было, сторонний наблюдатель, уж конечно, поразился бы при виде них. Два человека несомненно разных сословий стоят совсем рядом и опасливо смотрят друг на друга. Слева от них – безмятежно пасущийся осел, а вокруг валяется всякая ярмарочная поклажа. И все это – посреди пустынной местности в нескольких милях от ближайшего селения. Загадочная картина, которую Юлия, например, сочла бы почти сюрреалистичной, со скрытым смыслом, нуждающимся в объяснении, подсказать которое может только особый ракурс. Не то чтобы ее когда-нибудь соблазняли подобные произведения; ее целью была ясность, а не игры, назначение которых – затемнять.
– Почему ты их сказал? – спрашивал Оливье. – Откуда ты их знаешь?
Лицо у того стало испуганным, словно он допустил ошибку и вдруг понял это. Буркнув что-то нечленораздельное, он отвернулся, быстро побросал в повозку остальную поклажу, прикрикнул на осла, прервал его трапезу, потащил к повозке и начал запрягать. Оливье ухватил его за плечо.
– Сейчас же скажи мне, – сказал он, – где ты слышал эти слова. Я тебе ничего дурного не сделаю.
Но никакие настояния не помогли.
– Ладно, ладно, не важно, – пробормотал он, взобрался на козлы и, дергая вожжи, тронулся с места. Оливье побежал рядом с ним.
– Остановись! – крикнул он. – Остановись, я тебе приказываю!
Бесполезно. Тот упрямо смотрел вперед, пропуская его мольбы мимо ушей. Оливье продолжал бежать и кричать, но затем остановился в грязи, глядя, как повозка удаляется, тяжело громыхая. Он бы мог легко ее нагнать, у него же была лошадь. Он бы мог спрыгнуть на повозку, стащить возницу на землю: хотя тот был крепок и силен, Оливье ведь был моложе лет на двадцать.
Но Оливье не сделал ни того, ни другого. Что-то в паническом ужасе этого человека понудило его остаться стоять там неподвижно, пока повозка не скрылась за гребнем следующего холма. Позволить ему уехать, чтобы он перестал бояться.
Оливье прождал так час. Да и в любом случае его лошадь нуждалась в отдыхе, и пока она щипала траву, продолжая трапезу, от которой ослу пришлось оторваться так внезапно, он сидел под деревом и думал. Пустая трата времени, бессмысленное, тщетное упражнение ума, поскольку он заранее знал, что не сумеет понять, каким образом простой сапожник мог процитировать светозарные слова, написанные везонским епископом более восьмисот лет тому назад.
Оно грызло его, это язвящее нарушение привычного строя жизни. Оливье давно уже аккуратно разграничивал внешний мир и сознание, события и написанное, людей и идеи. В отличие от Юлии, которая сознательно пыталась слить все это воедино легкими движениями руки, или Пизано, осуществлявшего это же самое совершенно бессознательно, для Оливье обаяние книг во многом заключалось в их отъединенности от реальности. Его Цицерон, его Гораций, его Вергилий – все они были носителями оккультного знания, существование и смысл которого пребывали скрытыми от мира. Его труды строились на противоречии: он стремился спасать такие произведения, но спасать их только для себя. Он чувствовал, что, став доступными всем и каждому, на каком-то уровне они потускнеют, как тускнеет серебро от соприкосновения с воздухом.
И вот сапожник… Эта загадка занимала его всю дорогу до цели, которой на этот раз был городок Юзер глубоко во французских землях герцогства, владелец которого тяготел к независимости. Впрочем, дело было слишком высоким для такой мелкой сошки, как Оливье; он не принадлежал к тем, кто ведет переговоры с герцогами и королями. Сеньор, не имевший понятия о приезде поэта, спал в эту ночь у себя в крепости, никем не тревожимый, а Оливье нашел ночлег в маленьком аббатстве в тени замка, где имя кардинала обеспечило ему радушный прием, причем он с удивлением и радостью узнал, что тут на пути в Тур остановился Альтье из Нима и его ожидают приятное общество и дружеская беседа.
Альтье был старше его лет на пятнадцать и не принадлежал к семье Чеккани, он был приближенным кардинала де До, главного противника Чеккани в вопросе о Риме. Два друга уже давно научились подниматься на скалистый берег, где одно неосторожное слово могло безвозвратно разрушить все их надежды. Ну, например, проговорись Оливье о том, что (как и происходило в тот момент) Чеккани с обычным своим искусством ведет интригу, чтобы сделать своего внебрачного сына епископом Дижона: ход, который открыл бы врагам Франции доступ к герцогу Бургундии, который как будто склонялся на сторону англичан. Упомяни Альтье про это своему патрону, и карьере Оливье пришел бы конец. А промолчи он, а потом выяснилось бы, что он знал про это заранее, карьера самого Альтье рухнула бы безвозвратно.
К тому же Альтье был предан своему патрону не меньше, чем Оливье – Чеккани. Обоим пришлось бы выбирать между дружбой и долгом, что создало бы дилемму неразрешимой трудности. Куда лучше было избегать таких тем, обсуждать только философские тонкости в уверенности, что оба могущественных прелата прекрасно знают об их знакомстве и смотрят на него с улыбкой как на надежный способ для передачи вестей, буде у одной части курии возникнет надобность снестись с другой.
И тем более странным было, что Альтье держится с ним так неловко, так напряженно, а не с обычной своей мягкой непринужденностью. Оливье даже спросил его напрямик, но ответом был только взмах руки и нетерпеливое «ничего, совершенно ничего».
– Послушай, друг мой, «ничего, совершенно ничего» это же неправда. Что-то тебя гнетет. Это очевидно. Расскажи, в чем дело, если можешь.
И в конце концов его друг заговорил:
– Я поступаю так из дружбы вопреки здравому смыслу. Но я приехал предупредить тебя, чтобы ты был осторожен, когда будешь возвращаться в Авиньон этой дорогой.
– Я всегда осторожен, – ответил Оливье. – Всякий, кому приходилось ездить дальше десяти лиг, знает, насколько это необходимо.
– Я говорю не про разбойников или грабителей. Тебя где-то поджидает засада. Этим людям приказано забрать письмо, которое будет при тебе, и убить тебя, если потребуется. Вероятно, им это потребуется.
– Но почему? – спросил Оливье, изумленный подобными словами, но не сомневаясь в их правдивости. Его друг был слишком серьезен, нет, он не шутил.
Альтье пожал плечами.
– Не знаю. Но при тебе есть письмо?
– Да.
– О чем оно?
Оливье покачал головой.
– Откуда мне знать? Я его не читал. И вообще, кто послал этих людей? Кто им приказывает?
– Ты способен догадаться сам, ведь тебе это говорю я. Могу я положиться на твое безусловное молчание? Никогда никому не рассказывай, как тебе удалось избежать встречи с ними. Если тебе это удастся.
– Разумеется, разумеется. – Оливье помолчал, обдумывая, как поступить. Видимо, соперничество между его патроном и патроном Альтье достигло какой-то поворотной точки, раз де До рискнул перейти в прямое нападение. Что бы ни говорилось в письме, оно было даже важнее, чем он предполагал. Но теперь он оказался перед задачей доставить его и не погибнуть. Совершенно очевидно, ему придется избрать другую дорогу, прибегнуть к обходному маневру. Так будет разумнее всего. Он поедет на север, выйдет к Роне у Оранжа и оттуда отправится в Авиньон водой. Без особых затруднений. Правда, это займет несколько лишних дней, но лучше вернуться с запозданием, чем не вернуться вовсе. При таких обстоятельствах даже Чеккани едва ли останется недоволен.
– Я глубоко благодарен тебе за такое предупреждение. Думаю, это понятно без слов.
Альтье похлопал его по спине.
– Как-нибудь ты, возможно, отплатишь мне тем же. А теперь пойдем-ка поужинаем и больше не будем говорить на эту мрачную тему. Я слышал, что здешний аббат держит отличный стол, а я уже несколько дней ем всухомятку.
На этот раз сплетни о монастырском изобилии соответствовали действительности. И оба они были в куда более благодушном настроении, когда вернулись в особый покой, предназначенный для высокопоставленных или обладающих высокими связями гостей обители, а там позвали слугу развести огонь и подать им какой-нибудь теплый напиток. Альтье был не склонен возвращаться к вопросу о засаде, и Оливье охотно на время выкинул ее из головы. В конце-то концов, избежать ее будет нетрудно. И он не задумался над тем, почему его друг оказался тут как раз вовремя, чтобы предостеречь его.
Альтье тоже постарался выкинуть из головы последний разговор со своим патроном – то, как он вымолил возможность самому раздобыть это письмо, прежде чем на его друга будут спущены солдаты кардинала. Все что угодно, даже потеря его общества, лишь бы избежать кровопролития.
Но если он сумеет сдержать обещание – забрать письмо у уснувшего Оливье и отправиться в Авиньон задолго до того, как утром его друг проснется, этот вечер будет последним вечером их дружбы. Он знал это и хотел насладиться беседой, утешением истинной близостью душ, которую готовился принести в жертву во имя той же самой дружбы. Разве же он даже в мыслях поступил бы с Оливье так, если бы не любил его? Ведь людей, способных говорить о вещах, которые интересовали их обоих, было очень мало, и отказаться от такого друга значило поистине понести невосполнимую утрату.
И они беседовали, и Оливье упомянул о своей встрече на дороге днем и о том, как сапожник повторил слова из манускрипта. Его друг слушал как завороженный, смакуя каждую капельку рассказа: как был найден манускрипт, сколько времени потребовалось Оливье на перевод, его неспособность постигнуть потаенный смысл, его беседы со свирепым Герсонидом и то, как нынче днем ему пришлось вспомнить про манускрипт.
– По возвращении я перечту его повнимательнее, – сказал Оливье. – И, если хочешь, закажу для тебя копию. Тогда мы сможем обмениваться мнениями в письмах и разобраться в том, что о нем говорит еврей твоего кардинала. Очень интересный человек. По-моему, за несколько недель я узнал от него больше, чем за несколько лет от самых прославленных докторов в Авиньоне. Я надеюсь продолжить это знакомство. Думаю, из кладезя его познаний я зачерпнул только самую малость.
– Я и измыслить не могу ничего чудеснее такого занятия с таким другом, – услышал он в ответ. – Меня смущает только, как бы оно не завело нас в области, опасные для розысков. Ты ведь не мог не заподозрить, что этот сапожник – еретик.
– Да, я подумал об этом. Еще одна область, в которой ребе – знаток. Не понимаю, каким образом ему стали известны частности этой ереси. Я полагал, что все следы ее уничтожены давным-давно.
Альтье засмеялся.
– О нет! Все ведь произошло как всегда. Туда нахлынули солдаты, и священники, и судьи. Нападали, хватали, судили, жгли на кострах. Сотни деревень, целые города сожжены дотла, десятки тысяч людей истреблены. И среди них, думаю, много добрых христиан. Затем, провозгласив полную победу над силами раскола и ереси, они отправились восвояси. Нет, я вовсе не утверждаю, будто большинство еретиков не были перебиты или вынуждены отречься от своих заблуждений. Произошло все именно так. Однако немало их попряталось в горах на севере. Они научились большей осторожности, только и всего.
– Полагаю, мне следовало бы знать, – сказал Оливье просто. – Но он не казался особо опасным.
– Не сомневаюсь. По большей части с виду это самые обычные люди. Но тем не менее опасные ничуть не меньше евреев. Пожалуй, даже больше, поскольку евреи все на виду и не прибегают к уверткам. И никого не стараются обращать в свою веру. А эти как раз наоборот. Твой долг, как, конечно, знаешь и ты сам, – доложить о нем в магистрат. Этот человек, несомненно, приехал сюда на ярмарку. Если его удастся отыскать и установить, из какой он деревни, то все их гнездо можно будет уничтожить.
Оливье задумался, и вновь София неявно простерла из прошлого свой защитный покров: хранитель ее слов, безымянный вестник (каким был сейчас и Оливье для Чеккани), был спасен силой своей вести. Оливье пожал плечами.
– Сомневаюсь, что нам удастся его найти, – сказал он. – Да к тому же я тороплюсь. Не думаю, что кардинал будет доволен, узнав, что ему пришлось ждать, так как я изволил отправиться с друзьями на охоту. Я должен уехать завтра. Путь мне предстоит длинный, а благодаря тебе он окажется длиннее, чем я предполагал.
Альтье что-то пробурчал, затем тень, омрачавшая беседу, рассеялась.
– Ты мог бы, если хочешь, рассказать мне, откуда у тебя такая уверенность, что этот человек еретик?
Альтье лениво потянулся, разнеженный теплом очага.
– Я кое-что слышал. Я тебе когда-нибудь рассказывал о моей самой первой встрече с папой Климентом? О моем первом соприкосновении с будущим величием?
– Ты говорил мне, что как-то встречался с ним. Но ничего не рассказывал про обстоятельства этой встречи.
– Обстоятельства… О да! Признаюсь, когда он был избран, я некоторое время питал самые радужные надежды. Не всякий может похвастать, что помог папе в дни, когда он еще не стал папой. И он меня помнил. Но не соблаговолил помочь мне подняться выше. Счел, что с меня достаточно моего положения при кардинале де До и в его помощи я не нуждаюсь. А к тому же я, возможно, будил неприятные воспоминания о том, о чем он предпочел забыть, когда из Пьера Роже стал Климентом Шестым.
Они лежали рядом на полу у огня, потому что вечера были холодными. Свечей им не дали, и единственный свет исходил от поленьев, брызжущих огнем на широкой решетке, – мерцающий, танцующий свет, который, пока Альтье говорил, придавал его словам особую звучность.
– Я был тогда еще юным послушником в обители Святого Бодила под Нимом. У нас появился новый, очень деятельный молодой аббат по имени Пьер Роже, известный как любимец короля, советник могущественных мужей, как замечательный проповедник и как человек ученый, всегда побеждающий в диспутах. Таким он и оказался: поистине, я ни раньше, ни позже не встречал никого равного ему. Оставался он там не очень долго: сразу было понятно, что он предназначен для великих свершений, хотя мы и не могли предугадать, какими великими они будут.
Светские суды частенько передавали нам свои дела или хотя бы просили совета, если дело так или иначе затрагивало религию, и монастырь обычно шел им навстречу, в немалой степени потому, что все, к кому это имело касательство, предпочитали избегать возвращения инквизиторов, которые всегда выглядывали случай вмешаться. Как-то раз рассматривалось такое дело, а секретарь аббата заболел, и потому вызвали меня, чтобы делать записи.
Их было шестеро – трое мужчин и три женщины, хотя (поспешили они заверить нас) только двое были мужем и женой, остальные же никогда ни с кем в брак не вступали. Они были из деревни поблизости и обвинялись в подлоге. Обвинение оказалось ложным, его подстроил завистливый сосед, зарившийся на их землю. Однако по ходу разбирательства стало ясно, что все далеко не так просто. Они все были еретиками, но до тех пор ловко это скрывали. Только ложное обвинение изобличило их: они отказывались клясться или присягать, а когда аббат спросил их о причине, они ему ее объяснили.
– Так просто? – спросил Оливье.
– Так просто. Им воспрещено лгать. Да и в любом случае они не стыдятся своих верований, и словно бы радовались возможности рассказать о них суду. По-моему, они понимали, что их конец близок, но словно бы это их совершенно не удручало. У них спросили, почему они так спокойны, а они сказали, что раз их тела – темницы, в которые они заключены, то возможность спастись и вернуться к положению богов, однозначных Великому Богу, их только радует. Если они умрут достойно, их следующее возвращение в материальный мир будет короче.
– И тут, – сухо заметил Оливье, – наш будущий папа наклонился и поджег их.
– Напротив. Все это его очень заинтересовало, и он допрашивал их так долго и подробно, что остальные судьи начали терять терпение. К тому же подобное ему претит, и он всячески добивался, чтобы они сказали хоть что-нибудь – ну, что угодно, лишь бы это дало ему повод рекомендовать снисхождение. Он юрист и богослов, привыкший (осмелюсь сказать) прясть крепкие доводы почти из воздуха. Если бы они сказали хоть что-нибудь с легчайшим намеком на почитание веры или на раскаяние, он бы уцепился за это и отпустил бы их с миром. И остальные судьи не стали бы возражать, потому что и у них душа не лежала к исполнению этого долга.
Но ничего сделать было нельзя. Чем больше они говорили, тем больше у всех отвисали челюсти. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-то – даже еврей – так быстро и с такой истовостью отвергал столько основополагающих доктрин. Они утверждали, будто сами являются богами, они отрицали воскресение тела, они утверждали, что мир – само зло, а человек – темница, и вовсе не сотворен по образу и подобию Бога. Что сам Бог, Бог Библии, не более чем назойливый демон и не имеет ничего общего с истинным божеством, от которого происходим мы все. Разумеется, о Спасителе Нашем не было никаких упоминаний, и они, несомненно, верили в реинкарнацию. Ну и конечно, ни Страшного Суда, ни Ада – кроме как в нашем мире, – ни Чистилища, ни Рая.
Альтье улыбнулся своим воспоминаниям.
– И они были такими серьезными, такими убежденными и говорили с нами так горячо, словно ожидали, что мы поймем или даже сами уверуем в истинность их слов. Однако и приговор их как будто не удивил. Аббат ответил им суровой отповедью и сказал в последний раз, что им достаточно только произнести какие-нибудь слова истинной веры, и они будут спасены. Но они не пожелали. И даже тогда он не вынес приговора, а постановил, чтобы суд предоставил им еще время, а сам вернулся в монастырь. Но пока он оставался там, вмешались местные судьи. И всех сожгли через пару дней из страха, как бы инквизиторы не прослышали про это и не вернулись. Они не хотели еще одной бойни в своих местах. Клемент неделю ходил чернее тучи. Он сказал, что в конце концов сумел бы их убедить и уже предвкушал следующую встречу с ними.
И я не мог забыть – они, пока говорили, оборачивались друг к другу и улыбались ласково и горячо обнимались. Ничего напоказ, ты понимаешь? Просто удовлетворение и тихая радость. Знаешь, когда я читаю жития святых, мученики мне иногда кажутся менее просветленными.
Он помолчал, а потом встряхнулся и заметил, насколько далеко уклонился от темы.
– Суть в том, что свои души они уподобляли реке, текущей в море. Не разделенную, но исходящую от Бога и возвращающуюся к Богу после смерти. Вот почему я уверен, что твой сапожник был из таких же.
– Поразительно, – сказал Оливье. – Но тут есть одна трудность.
– Какая же?
– Тот, кто написал слова, которые я ему процитировал, не был еретиком.
– Нет?
– Нет. Он был епископом, и его до сих пор почитают как святого.
Альтье ухмыльнулся.
– В таком случае лучше не сообщай этого его пастве. Они так огорчатся!
На следующий день Оливье встал рано и отправился завтракать. Альтье в трапезной не было, но Оливье не придал этому никакого значения, пока в трапезную не вбежал побелевший от ужаса монах и не зашептал что-то на ухо аббату. Вид у него тоже стал испуганным, и они оба покосились на Оливье, как будто он вдруг стал нежеланным гостем.
– В чем дело? Что-то, что касается меня?
– Чума. Твой друг занес ее сюда.
Оливье похолодел – из-за Альтье и из-за себя. Не требовалось никаких подробностей и объяснений. Услышав это слово, все сразу понимали, что оно означает. Некоторые начали оглядываться по сторонам, словно ожидали, что в дверь вот-вот войдет смерть, другие вышли из-за стола, упали на колени и начали молиться. Большинство, однако, замерли на лавках, глядя на своего аббата, безмолвно умоляя его сделать что-нибудь, прогнать ее и спасти их.
Аббат не сделал ничего. Не произнес слов утешения, не предложил примера, которому могли бы последовать остальные. Он просто вскочил и торопливо вышел. Оливье подумал, что, наверное, он поспешил к его злополучному другу напутствовать его – быть может, слишком поздно, но все-таки исполнить свой долг.
Сам он вдруг по какой-то непонятной причине перестал бояться. Ему следовало бояться, он это знал. Как и все остальные, он не имел ни малейшего понятия, что представляла собой эта болезнь, однако не сомневался, что воздух вокруг больного был заражен. А он провел с Альтье весь вечер, и, значит, его шансы заболеть были очень велики. Но он остался. Он знал, что не заболеет, такая мысль ему в голову не приходила. Чумой заболевали другие, не он. Ему не суждено умереть от нее. Хотя он понимал, что другие тоже питали такое же наивное убеждение и тем не менее умирали, это нисколько не поколебало его глубокой уверенности в собственной неуязвимости. И он продолжал есть, глядя, как пустеет трапезная. Монахи разбились на маленькие группы. Некоторые, рыдая, выходили, направляясь в кельи, в часовню или в сад. Потом он тоже встал и пошел в комнату Альтье.
Его друг уже скончался, и, увидев его, Оливье впервые понял, почему мир так страшится чумы. Перед ним был уже не человек, а воплощение всепожирающей болезни: лицо, искаженное агонией, одежда, почернелая от гноя, и пота, и рвоты. Альтье лежал на полу, перегнувшись пополам, кончики пальцев в крови: царапая в агонии каменный пол, он сорвал ногти.
И запах. Не смерти – тот был ему уже знаком, и не болезни, знакомый ему даже лучше. Они его не страшили, как и всех его современников. Потрясла его сладковатость этого запаха, дразнящего, почти соблазнительного, манящего прохожих, вкрадчивого и убаюкивающего. Собственно говоря, запах дьявола: хитрый, сильный, беспощадный и по-настоящему пугающий.
Оливье сотворил крестное знамение и вышел наружу, в утренний солнечный свет, чтобы прийти в себя. Он встал на колени и пригнулся поближе к земле, вдыхая чистый, свежий запах почвы, смоченной росой, а теперь подсыхающей под солнцем.
– Эй, брат мой, мне нужна помощь, – окликнул он пробегавшего мимо монаха. Тот даже не замедлил шага. Оливье окликнул другого, третьего – ни один не повернул к нему головы. Он стоял так и вдруг услышал цокот копыт, посмотрел и увидел, что аббат выезжает за ворота. Быстрой рысью, не оглядываясь, и едва створки остались позади, как он погнал коня галопом.
Монастырский порядок и дисциплина исчезли за считанные минуты: триста лет смирения, и молитв, и слепого повиновения поглотил ужас. И монастырь больше не возродился. Из сорока пяти братьев в живых осталось трое, но они разбрелись кто куда, и здание долго стояло пустым, пока наконец его не забрал герцог и не устроил там конюшню. В восемнадцатом веке пожар, разгоревшийся, когда искра попала в кучу сена, пожрал большую часть здания, а строители растаскали порядочную часть камней для новых домов. Те, которые еще оставались, в 1882 году пошли на стены школы, прекрасного памятника меритократическим идеалам республиканизма. Место, где Оливье стоял в солнечных лучах и где умер Альтье, теперь – любимый уголок подростков, собирающихся там покурить после утренних уроков. Полевые цветы все еще растут там, где Оливье похоронил своего друга в могиле, которую выкопал сам, произнес краткую молитву на прощание и обещал заказать для него заупокойную мессу, когда ему удастся отыскать священника. Каждый год цветы эти срывают, и мальчики дарят их своим мимолетным подружкам.
Оливье забрал свою сумку и поторопился отправиться в путь. Быстрота, с которой все это произошло, потрясла его – и не столько сама чума, сколько действие, которое она произвела на всех вокруг. Кроме того, было ясно, что новость уже облетела город. Воцарилась тишина, возможно, наиболее грозный из всех симптомов. Люди говорили вполголоса, лица у них были перепуганные, а двигались они так, словно в любую минуту ожидали нападения. Прохожие на улице попадались редко, двери и окна были заколочены, и ржали лошади, нагружаемые всем самым необходимым.
Даже на рынке, когда Оливье проходил через него, почти никого не было – только горстка торговцев еще оставалась на своих местах в надежде, что появится покупатель и вознаградит их за усилия добраться сюда. Осмотревшись, Оливье увидел своего вчерашнего еретика.
Тот тоже его заметил. И посмотрел ему в глаза.
Ты знаешь, кто я такой, сказал этот взгляд. Так что ты сделаешь?
Легкая тень улыбки скользнула по лицу Оливье. Наполовину, нет, на четверть подмигивание. Их взгляды расцепились. Еретик нагнулся над своим рядном, Оливье прошел мимо. Сумки хлопали его лошадь по боку, пока он вел ее к воротам, ведущим назад в Авиньон. Он не забыл предупреждения Альтье и сделал крюк, чтобы попасть в Авиньон с севера, но такой предосторожности оказалось мало. Когда он, уже вернувшись в Прованс, остановился переночевать на убогом постоялом дворе на противоположном берегу Роны, то услышал разговор двух купцов.
– Не знаю, кого они ищут, только, видно, он им очень требуется.
– Что-что? – переспросил он. – Дороги опасны?
– Солдаты, – ответил купец. – Не знаю чьи, но они останавливают всех, кто направляется в Авиньон. Говорят, такие заставы расставлены на всех путях к городу.
– Может, они выслеживают разбойников? – предположил Оливье.
– Да нет. Их там маловато. Только чтобы перехватить одного человека, – сказал купец, внимательно разглядывая Оливье. – Ни на что другое они не сгодятся.
Ночью Оливье напряженно размышлял, лежа на кишащем блохами соломенном тюфяке и все время почесываясь. Если они обыскивают всех, значит, они не знают его в лицо, а надеются, что его выдаст письмо. И потому выход напрашивался сам собой.
Утром, перекусив хлебом и запив его вином, он снова отправился в путь – но не на юг к Авиньону, а на восток в сторону гор, темневших вдали на том берегу. На это ушло еще несколько дней – в целом все объезды заняли у него десять дней, но так как он не хотел, чтобы ему перерезали горло, а Чеккани не поблагодарил бы его, если бы лишился письма. Выбора у него не было. Он держал путь прямо к часовне Святой Софии, прикинув, что разумнее всего будет поручить письмо заботам его друга. Чеккани тогда сможет отправить своих телохранителей, чтобы они доставили в город и итальянца, и письмо. Его другу это будет по вкусу. Въехать в город в сопровождении вооруженной охраны при всех регалиях, будто какой-нибудь владетельный вельможа, – это стало бы самым замечательным событием в его жизни, ведь он всегда отличался тщеславием.
Накануне дня, когда он добрался туда, зарядил дождь, и лил не переставая почти тридцать шесть часов. Он промок до костей и весь дрожал, когда наконец поднялся на вершину холма, отчаянно надеясь, что вскоре увидит своего друга, скорчившегося у огня в своем временном жилище, которое он как-то описал с такой гордостью. Но Пизано, разумеется, там не оказалось; его редко удавалось застать, когда в нем бывала нужда. В часовне никого не было. Только хаос кругом – шесты для лесов, выжженная трава там, где он разводил костры по ночам, ярко-алые и голубые пятна на земле там, где он мыл кисти после работы, – свидетельствовал, что здесь вообще кто-то бывал. Ощущение унылого запустения, незавершенности, в которой чудилось нечто, обреченное навсегда остаться незавершенным. Оливье неуверенно переминался с ноги на ногу, оглядывая густой лес, окружавший холм, прислушивался к дождевым каплям, стучащим по десяткам тысяч листьев, словно бы вся вселенная гремела барабанной дробью. Вдали, еле различимые, поднимались струи дыма над Везоном, его родным городом, где он не бывал уже много лет. Он смахнул капли с глаз, а потом печально вошел в часовню, единственное место, сулившее сухость. Внутри в глубоком сумраке – черные тучи, затянувшие небо, не пропускали в окна почти никакого света – его начал бить сильный озноб. Он знал, что начинается приступ лихорадки и ему угрожает серьезная опасность, если он незамедлительно не обсушится. Но даже хотя озноб еще усилился и он еле удерживался на ногах, Оливье по-прежнему не Допускал и мысли, что чума могла поразить и его. Он просто поспешил сделать хоть что-то, пока не свалился без сил. Достал из сумки теплое одеяло и фляжку с водой, стащил с себя мокрую одежду, стуча зубами от холода, закутался в одеяло и скорчился на полу.








