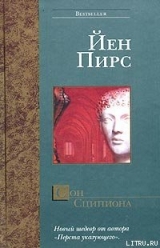
Текст книги "Сон Сципиона"
Автор книги: Йен Пирс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
– У меня есть мой раб, и для меня этого достаточно, – сказала она. – Что я буду делать с десятком?
Он попытался ответить.
– Я знаю, ты встревожен. «Вон идет протеже великого Манлия, и он дал ей только одного раба!» Тебя заботит твоя репутация. Забери их, мой мальчик. Наверное, для них найдется более полезная работа.
И он послушался. Кроме того, он приказал забрать почти всю мебель, запер почти все комнаты, закрасил фрески (и тем сохранил их для реге Сотеля, когда тот начал свои раскопки) и предоставил ей жить по-своему.
Затем она снова пришла к нему.
– Городская жизнь меня утомляет, – сказала она. – Он давит на меня, этот провинциальный городишко.
– Ты говорила мне, что философия может существовать только в обществе людей.
– В больших городах, а не в городишках. И уж конечно, не в городишках настолько съежившихся, что они уже почти неотличимы от деревни. Ты знаешь, они называют меня язычницей, эти достойные горожане? Они за один день установили, что я не посещаю церкви, и явились спросить меня почему. Я думала, что смогу учить здесь, но проще обучать козье стадо.
Он понимал, что она видит – она, чей отец приехал из Александрии, одного из величайших городов земли, она, которая выросла в Марселе, все еще большом городе, хотя и уменьшившемся. Везон теперь был жалким селением, пусть когда-то богатым и преуспевающим. Несколько кварталов были разграблены в прошлом веке, да так и не отстроены заново. И они продолжали служить карьером для урывками продолжающегося возведения городской стены. Но и этот проект не завершился; город не был способен действовать энергично, даже когда речь шла о его собственной защите; строители отказывались работать без платы, а денег не было. Сами горожане не желали заняться этой работой, считая ее неподобающей. А рабов и слуг для такого подневольного труда осталось слишком мало. Общественные здания были небольшими и ветшали; величественные особняки были разделены на отдельные жилища или заброшены или разобраны. А в нем самом противоборствовали его обязательства как члена племени вокконтиев, которое обитало в этом краю, еще когда сам Рим был лишь скоплением лачуг на итальянском холме, и как римского аристократа, свидетеля лучшего прошлого и более великих дел.
– А мне говорили, что ты снискала уважение, – заметил он.
– Как подательница здравых советов. Люди приходят ко мне со своими тревогами и болью. Я проливаю бальзам и на то, и на другое. Пойми меня правильно, я счастлива помочь им. Но по-настоящему их заботит только состояние дорог, величина налогов и долго ли еще вода в резервуарах сохранится чистой.
– Самые насущные и неотложные нужды.
– Знаю. Но порой их чириканье и пересуды доводят меня почти до безумия.
– Так чего же ты хочешь?
– Какого-нибудь тихого места. Мирного. Где я могла бы размышлять, не боясь, что меня отвлекут невежды или диакон, призывающий возлюбить Христа. Знаешь ли ты, что единственные, с кем я могу вести разговоры, это евреи. По крайней мере когда они цитируют писание, то не просто повторяют то, что набормотал им в уши какой-нибудь поп. Их великое достоинство – не соглашаться почти ни с чем, что я говорю. Собственно, они не соглашаются почти ни с чем, что говорят сами. А главное, они не думают, что крики усиливают их доводы. И громко разговаривают только по привычке. Я развлекаюсь тем, что читаю Библию с одним из их священников, или как они там называются. Очень поучительно.
– Ты меня изумляешь.
– Я сама себе изумляюсь. Но как ни увлекателен Моисей, я все-таки хочу немного мира и покоя. Нет ли у тебя местечка где-нибудь в сельской местности, куда я могла бы уехать?
Манлий засмеялся.
– Госпожа моя, ты прекрасно знаешь, что почти вся сельская местность принадлежит мне. Если верить сборщикам налогов, я владею сорока девятью виллами, и многие из них теперь пустуют и разрушаются, потому что на поддержание их не хватает рабочих рук. Не то чтобы они считались с этим.
Она вздохнула.
– Не начинай. Я бы хотела воспользоваться каким-нибудь маленьким жильем в двух днях пути отсюда. В настолько уединенном месте, насколько возможно.
Манлий поразмыслил.
– Я знаю как раз такое место.
Две недели спустя починки завершились, десяток сервов был переселен туда для необходимейших услуг, и госпожа София была препровождена на виллу километрах в четырех от его главной резиденции. Вилла располагалась среди группы холмов, обеспечивавших прохладу летом и защиту от ветров зимой. Для нее вилла была слишком великолепной – больше двадцати пяти комнат! – и она возненавидела ее с первого взгляда. Но, покидая ее, она увидела небольшое жилище на склоне холма – с широким видом на окрестности, с защитной рощицей – и сразу же сочла его совершенством. Чистый родник неподалеку, тропа, чтобы из долины можно было доставлять хлеб и другие припасы. Свежий воздух и простота, которых она искала. Как только семью земледельцев по распоряжению Манлия выселили – София никогда не считала, что философия должна склоняться перед правом справедливости, – она переехала туда и обрела тишину и покой, которых так долго искала. Когда она наконец решила, что останется там, Манлий немедля подарил ей этот домик вместе с соседними хозяйствами и примерно сорока работниками. Через два-три года все работники, кроме шестерых, разбежались, и поля заросли кустами. А чего он ожидал? Что она займется земледелием? Будет беспокоиться из-за пшеницы? Проверять, здоровы ли оливковые деревья? Такое бессмысленное расточительство досаждало Манлию, который усердно трудился, чтобы его собственная земля плодоносила, но он ничего не говорил. Тем не менее временами она была трудной, невозможной.
Она прожила там, иногда уезжая, почти двадцать лет до своей смерти. К ее большому раздражению, неотесанные обитатели края прониклись к ней искренним почтением и завели привычку приходить советоваться о своих недугах и заботах. Она даже пережила Манлия, и после его смерти сбор налогов перешел к воину-бургунду, который каждую четверть года приезжал получать их самолично.
Мало-помалу они неохотно прониклись симпатией друг к другу – представительница высшей греческой образованности и грубый неграмотный варвар, который, по сути, теперь стал ее господином. Ей выпала удача, и она это знала. Ее новый хозяин – ведь он был им, хотя только она со свойственной прямолинейностью называла его так, – хотел стать более полированным и при всей своей грубости обладал чувством справедливости, и потому ей жилось легче, чем многим другим. Ордрик – средних лет, толстый и могущественный – был одним из лучших людей в эпоху, когда не осталось практически никаких примеров сияющей добродетели. Было странным открыть подобные качества в подобном малоподходящем обиталище, но времена сами по себе были странными. Она ничему его не учила, у него не было желания учиться; вернее, они научились только ценить доброту друг в друге, и под конец она завещала ему все оставшиеся у нее земли, а не только налоги с них, так как не знала никого лучше. Взамен Ордрик поставил над ее могилой небольшой монумент в память о той, кому со временем он стал втайне предан. История его почтения к ней сохранилась в людской памяти, воспоминания о ее советах все больше обретали оттенок чудотворности, и со временем вокруг ее гробницы была возведена часовенка, и люди приходили туда помолиться о помощи.
Кардинал Чеккани сохранил письмо Оливье о святыне, воздвигнутой иждивением бургунда, так как оно подсказало ему мысль, которая продолжала исподтишка его преследовать месяцы спустя, после того как он прочел письмо своего протеже.
К 1347 году Чеккани засиял звездой на клерикальной тверди и стал настолько влиятелен, что вызывал всеобщую бурную неприязнь. Он занял столько постов, что стал просто незаменим для достойного управления христианским миром. И он набрал столько бенефиций, что многие начали подсчитывать, в какой мере его годовой доход соперничает с годовым доходом самого папы Клемента. А потому он стал средоточием настоящей ненависти всех тех, кто-либо желал побольше для себя, либо искренне верил, будто кроткий пастырь рода людского ужаснулся бы, увидев, что им сотворено.
Чеккани, разумеется, знал об этом, как знал обо всем, что происходило вокруг него. И его это ранило, так как по-своему он был в высшей степени благочестивым человеком с большим чувством долга. Он носил пышнейшие драгоценнейшие одеяния из шелка и парчи, потому что было необходимо внушать людям благоговение перед величием и мощью церкви. Но под ними на нем была грубая власяница, кишевшая вшами, и его кожу покрывали гноящиеся струпья. Он задавал пиры такого великолепия и стоимости, что они продолжались несколько дней и вызывали омерзение у неприглашенных, однако сам он пил только воду и пренебрегал мясными яствами, сладостями и прекрасными винами, которыми так щедро потчевал своих гостей. В церковь он вступал как князь, несомый на носилках в сопровождении по меньшей мере десятка челядинцев, навлекая на себя все более жгучее осуждение тех, кого возмущала его надменность, и каждую ночь по три часа молился, прижимая обнаженные колени к каменному полу своей личной часовни, тщательно заперев дверь, чтобы его никто не увидел. Он был величайшим любителем знаний и использовал людей вроде Оливье для спасения бесценных текстов, тратя собственные деньги, чтобы сохранить их для человечества, и все же неумолимо осуждал любые отклонения от церковной доктрины и по меньшей мере дважды обрек еретиков на сожжение. Подобно Церкви, преданным слугой и отражением которой он был, кардинал Чеккани представлял собой противоречивейшее необъяснимейшее существо.
Сверх того он был воплощением коррупции, которая черным туманом окутала Церковь с тех пор, как она покинула Рим и обосновалась в Авиньоне, и все же никто в курии лучше него не осознавал всей опасности ее пребывания там и не горел большим желанием, чтобы папа вернулся в Вечный город. Но он был еще слишком молод и не имел никаких шансов в 1342 году, когда француз Пьер Роже занял папский престол как Клемент VI, а Клементу предстояло прожить еще много лет. И потому ему на ум начали приходить другие возможности восстановить главу христианского мира на подобающем ему месте.
Часовня Святой Софии и история жизни святой привлекала его в немалой степени еще и потому, что он молился ей о руководстве, когда папство начали вовлекать в английские войны, и нашел ее помощь бесценной. Он приносил много обетов и тогда обещал ей знак своей благодарности, если ее помощь окажется действенной. Имя ее означало «Мудрость», и, считал он, мудрость была ему дарована; часовня находилась в его епархии – в одной из многих его епархий, – которая нуждалась в напоминании о его могуществе. Область эта не была погружена в полный застой, и хотя ереси прошлого века глубоко в нее не внедрились, но она была ими затронута, так что явление ее жителям такой древней святой, да еще прямо среди них, было поистине даром небес. А то, что ее почти совсем забыли, было еще одним благом, если Чеккани сумеет сделать ее вновь почитаемой.
Все эти причины вместе взятые привели к тому, что в один прекрасный день Чеккани призвал Луку Пизано и поручил ему изукрасить часовню со всей возможной быстротой и великолепием. Пизано со своей стороны был преисполнен благодарности, пока не услышал про уединенность ее местоположения – он ведь только-только овладел своим мастерством и больше всего жаждал признания. Он знал, что Мартини нездоров и либо вскоре умрет, либо вернется в Италию: должность главного живописца прямо-таки ждала его, а он, хотя история его почти забыла, в то время начал обретать немалую славу.
Но заказ – это заказ, а от человека вроде Чеккани так вдвойне дороже, ведь все полагали, что следующим престол святого Петра займет он, если французов убедят против обыкновения не вмешиваться. А тогда, быть может, папа после долгого изгнания в Авиньоне вернется в Рим. Пизано низко поклонился, выразил свою глубочайшую благодарность его преосвященству и, пятясь, вышел из кабинета, чтобы навестить казначея кардинала и заручиться деньгами. Он был несколько разочарован.
– По-моему, за это я должен поблагодарить тебя, мой друг, – сказал он Оливье ближе к вечеру. – Ведь ты устроил так, что я теперь тоже слуга великого кардинала и должен выстоять или пасть вместе с ним.
– Мне было бы лестно оказаться причиной твоей удачи, – ответил Оливье, – но, право, не вижу, при чем тут я.
К этому времени они были уже старыми друзьями: оба одинокие, без родни, вынужденные жить своим умом в городе, где людей было много, а заманчивых мест мало. Сошлись они главным образом из-за того, что у них были общие вкусы и честолюбивые устремления, но пока не представлялось случая осуществить их. Они верили друг в друга, и каждый убеждал другого, что их таланты преодолеют все препоны.
– Тем не менее, – продолжал он, – я тебя поздравляю, так как это поистине удача.
– Чем выше они стоят, тем больше падение.
Оливье засмеялся.
– Нет, такого брюзги, как ты, я еще не встречал, – ответил он. – Получаешь заказ от одного из самых могущественных людей в мире и думаешь только о том, что он может таким не остаться. Даже если он падет, что с того? Побыть у него в милости даже недолго все же лучше, чем остаться без нее. К тому же ты можешь преуспеть с заказом. Хотя при твоей полной бездарности я в этом сомневаюсь. Но случись чудо, тебя будут искать и другие.
– С какой стати? – спросил его друг. – Никто, кроме пастухов, никогда мою работу не увидит. Я в буквальном смысле буду метать бисер перед свиньями.
– Но впереди будут ждать великие свершения, разве нет? Изукрась прекрасно часовню, и последует базилика в соседнем городе.
– Вот-вот. Работы, конечно, на тридцать лет. А тем временем папа вернется в Рим, а я останусь здесь на мели.
Оливье расхохотался. Пизано всегда отличался суеверностью: чуть с ним случалось что-то хорошее, и он по меньшей мере весь следующий день тратил на перечисление возможных дурных последствий, исходя из здравого убеждения, что воображаемая беда никогда не сбывается. Вот как и в этом случае. Единственное, о чем художник не подумал, была чума, которая подстерегла его поздно ночью, когда он, возвращаясь в Италию, спал рядом со своим ослом у дороги.
– Можешь быть уверен, этот папа никогда в Италию не вернется. Он прислушивается к кардиналу Чеккани касательно очень многого, но тут ему закладывает уши. Моему господину пришлось бы волочить его туда в цепях. Он ведь француз, не забывай, а они не любят жить вдалеке от родины. Даже в Авиньоне его мучит тоска по дому. По-моему, тебе следует молиться о его здравии и долголетии.
– Но я говорю серьезно, – запротестовал художник. – Мне поручено написать ряд картин, которых никто никогда не увидит, в часовне, укрытой ото всех, и о святой, про которую я никогда не слышал.
– Значит, ты можешь писать все, что тебе вздумается.
Пизано нахмурился.
– Если я иногда шучу, это не значит, что ты можешь позволять со мной всякие вольности, знаешь ли. Воздать честь святой – великое дело. Жизнь, исполненная святости, бесценна, и пересказать ее – тяжкий долг.
Оливье вгляделся в него, удивленный мрачностью его тона.
– Да, пожалуй.
– А ты – единственный источник сведений.
– Мне известно очень мало.
– Но это больше, чем ничего.
– Того, что я скажу, тебе не хватит и на набросок.
– Этого будет достаточно. Расскажи мне все, что знаешь, а молитва дополнит остальное.
– Ты уверен?
– Если молитва искренна, то да. Я буду молиться этой святой. Если мое желание будет исполнено, тогда все подробности станут мне ясны. Если же нет, то, значит, она не хочет, чтобы ее жизнь была запечатлена в картинах, и мне придется сказать это кардиналу.
А потому Оливье устроился поудобнее и пересказал историю, которую услышал от пастухов на холме.
– Несколько лет спустя после распятия Господа Нашего, – начал он, – когда люди все чаще обращались к его учению, жрецы, исполнившись злобы и страха, принялись преследовать верных. Марию Магдалину, столь взысканную, что она была первой, узнавшей о воскрешении Христа, гнали и оплевывали вместе с женщинами, которых она собрала вокруг себя. Было задумано убить их всех, но ей во сне явился ангел и предостерег ее. «Встань, Мария, – сказал ангел, – и быстро покинь это место. Собери своих подруг и поспеши отсюда».
Мария исполнила сказанное, собрала шестерых женщин и вместе с ними спустилась на берег.
Там их ждал чудотворный корабль без мореходов, с шелковыми парусами и корпусом из перламутра. Едва они поднялись на него, паруса развернулись, и корабль соскользнул на воду, как раз когда появились гнавшиеся за ними враги. Плавание длилось много недель, но они не боялись. Когда шел дождь, они оставались сухи, когда бушевала буря, корабль едва покачивало. Ангелы приносили им пищу и воду каждый день и предохраняли их от жаркого солнца, держа над ними огромный шелковый полог. Когда настало время, корабль, хотя дул сильный противный ветер, повернул и причалил к песчаному берегу неизвестной страны. И вновь ангел заговорил с Марией и сказал, что ее спутницы должны продолжить путь по суше и всюду оповещать о пришествии Христа. Но некоторые испугались и не захотели расстаться с Марией, зная, что она взыскана. Послушалась только София, попрощалась с Марией и обращала селение за селением, и повсюду, где она проходила, христиане рушили языческие храмы и воздвигали на их месте церкви.
Многие чудеса сопровождали ее. Как-то пришел к ней знатный вельможа, давно ослепший.
«Ты говоришь, что Бог есть любовь и заботится обо всех своих творениях, однако я слеп, – сказал он. – Как это может быть?» София отвела его в сторону, потом провела ладонями по его глазам, и тотчас зрение вернулось к нему. От благодарности он пал к ее ногам, и изумленные толпы вокруг последовали его примеру. Этот человек до конца своих дней проповедовал веру, поселился в Везоне и обратил в христианство весь край. Он тоже стал святым.
Однажды, когда София проповедовала в одном городе, жители, подстрекаемые жрецами, начали кричать и угрожать ей; они бросили ее в темницу и приговорили к смерти. Но труд ее еще не был завершен, и ангел явился к человеку, исцеленному ею, и поведал ему о ее беде. Тотчас он перенесся туда и воздел руки; все стражники уснули, и двери темницы распахнулись. Тогда он проводил ее вон из города, и они шли, пока не подошли к некоему холму. И когда она умерла, то была погребена там, и на ее могиле совершалось столько чудес, что все поняли, какой святой она была. Ей воздвигли часовню, куда сходились паломники.
Жюльен не был историком Церкви, и его раздражали противоречия и путаница, в весьма значительной мере ей присущие. Тем не менее этот рассказ Оливье, когда он обнаружил его среди бумаг Чеккани в той же пропыленной пачке, что и «Сон», он прочел с увлечением, во многом из-за соответствия с другими рукописями, найденными им тогда же. Только человек заметно более тупой, чем он, не заметил бы, что в философском трактате Манлия Гиппомана проводницей избрана София, греческая персонификация философии. А также что Манлий был епископом Везона, а святилище Святой Софии находилось в двух днях его пути на юго-запад.
Сначала, впрочем, он не продолжил розыски в этом направлении, не зная, как их вести. И к тому же его отвлекли другие отрывки в этой же самой пачке, один из которых больше отвечал его юношеской тяге к драме и эффектности. В первую очередь его заинтересовало упоминание о Герсониде, когда в ту весну он работал в архиве Ватикана, одетый в костюм с галстуком и жилетом, потея от жары, делая бесчисленные выписки своим четким, аккуратным почерком. Он никогда не торопился, никогда не пропускал страниц и писал неторопливо и упорно. Он выработал метод не задумываться над тем, что он выписывает: он на опыте убедился, что это ведет к небрежности.
Нет, он полностью опорожнял сознание и списывал, накапливая впечатления, но запрещая себе задерживаться на них в течение рабочего дня. Радость анализа он приберегал на потом, на вечера, когда он возвращался в Эколь и, поужинав за общим столом, уходил пройтись или спокойно выпить на пьяцце Навона. Там он сидел, смотрел на скользящий мимо калейдоскоп и разрешал своим мыслям обозревать прочитанное за день.
Вскоре после сделанного им открытия его угостил обедом отец Юлии. Жюльен обрадовался предложению. Бронсен его интересовал, а к тому же стипендия держала его в жесткой финансовой узде, которую не облегчало и содержание, выплачиваемое ему отцом: щедрое по его меркам, но до жалости скудное в противопоставление римским вкусам Жюльена. Потому что в Риме зародился его интерес к искусству, ставший страстью его жизни. Он до последней лиры тратился то на рисунок, то на картину, то на эстамп, и несколько раз он посещал monte di pieta1010
ломбард (ит.)
[Закрыть] заложить часы или кольцо для очередной покупки. Примерно каждые два месяца еще одно письмо отправлялось в Везон, и его отец ворчал, осуждал, морализировал, а потом высылал требуемые деньги как раз вовремя, чтобы выкупить заложенные вещи. Жюльен никогда не испытывал благодарности за эту щедрость, хотя и знал, что следовало бы.
В Риме он к тому же открыл более чувственные наслаждения, к которым внутренняя смятенность делала его особенно восприимчивым. Вереницам любовниц начало было положено именно в Риме, а конец пришел лет через пятнадцать. В отличие от картин он не прилагал никаких усилий удерживать их, едва первое влечение было удовлетворено. Он обнаружил, что способен очаровывать, не скупился на время и деньги, умел слушать, но удержать его не удавалось: он всегда уходил прежде, чем легчайший намек на разочарование или настоящую близость мог испортить удовольствие.
Над этим он задумывался лишь поверхностно. Его родители не были счастливы, и он не хотел испытать такую же печальную безысходность. И не встретил ни одной женщины, способной заставить его изменить решение. Его картины и его работы держали его крепче. По большей части эти интрижки обставлялись изящно. Жюльен усовершенствовал стиль настойчивого ухаживания, любил тратиться на дорогие ужины, подарки, отдых вдвоем – собственно говоря, все это было ему не по карману – для своих избранниц. Более того: он был тщателен в мелочах, всегда замечал туалеты, духи, прически. И это была не просто стратегия; он замечал все это невольно и извлекал величайшее удовольствие из общества красивых женщин.
Но всегда в течение этих мимолетных романов его не оставляло чувство, что он избегает чего-то важного, и в его погонях чувственности было меньше, чем отчаяния. Всякий раз, когда он был очарован, пленен или сражен, он вновь замечал, что что-то в нем отстранялось, отступало с пренебрежением. Он понятия не имел, чего ищет, но всегда знал, что однажды чуть было не нашел это, – что в холмах над Иерусалимом он чуть было не открыл тайну, погребенную так глубоко, что он мог бы прожить всю жизнь, даже не заподозрив о ее существовании. Вот почему Юлия внушала ему боязнь, почти страх.
И он занялся теми, кто не мог стать по-настоящему близок ему или кому не мог стать близок он: объекты повыше и пониже, которых не интересовали ни его работа, ни вкусы. Он неизменно преследовал тех, что были недостижимы, – замужних или видевших в нем только временное развлечение. Как-то раз он провел несколько месяцев с женщиной немного моложе его, работавшей в одном из огромных универмагов, которыми наконец-то обзавелся Рим. Когда он с ней распрощался, то не мог вспомнить ни единого их разговора, ни единой ее фразы. Затем он соблазнил супругу нотариуса лет на десять его старше, тщательно выслушивал ее печали и заботы, не скучал в ее обществе и извлекал странное удовольствие из необходимых хитростей и скрытности, которые оживляли в остальном бессмысленную связь. И не из бесчувственности или жестокости несколько месяцев спустя уже почти забыл ее. Они равно жили моментом, и их момент миновал.
Конечно, он понимал, что отсутствие любви к ним было частью притягательности. Юлия была единственная, пробудившая в нем что-то такое, и от нее он отступил. Но в отличие от всех остальных она оставалась в его мыслях изо дня в день; она ему снилась, и он мог вспомнить каждое услышанное от нее слово. Более того: он воображал, целые разговоры, которых они никогда не вели, и тем не менее он знал, что она сказала бы.
Он обрадовался приезду ее отца в Рим, потому что тот привез известия о Юлии, а также обеспечил прекрасный обед и с сочувствием отнесся к его страсти к картинам и развалинам. Их беседы были увлекательны и отлично гармонировали с римской жизнью, которую выработал для себя Жюльен. Собственно говоря, пребывание в Риме его сгубило. Он отправился туда яркой звездой, предназначенной для блестящей карьеры; а уехал оттуда почти дилетантом, не желающим угомониться, твердо решившим, что тупой труд преподавателя не засосет его душу. Рим раздавил много натур, и в период между 1924 и 1927 годами он завладел и Жюльеном.
Есть и альтернативное объяснение: в течение этого периода его наконец настигли последствия войны. Ими объяснялись его бессонные ночи, отвлечения, отказ от того, чего от него ждали. Он испытывал постоянную неудовлетворенность и с такой же категоричностью предавался новым переживаниям, с какой чурался их в предыдущие несколько лет. Однако распущенность прятала неизменную серьезность, которая воплощалась в его работе, в общем объеме сделанных за этот период выписок, втиснутых между обедами и ужинами, остроумно-пустыми разговорами и очаровательными женщинами. Ведь Жюльен заглянул во тьму и ощутил в себе, что могло бы произойти.
Оно все еще ему снилось – лицо, увиденное за долю секунды, когда ракета осветила все вокруг и немецкий солдат обернулся. Он помнил глупое ошеломление на этом лице, пока они смотрели друг на друга, и оба не знали, что делать дальше. Первым опомнился Жюльен: он был в патруле, и его нервы были напряжены, а немец только-только заступил на пост и был медлительнее. Чуть сдвинутые брови, когда штык вонзился ему в живот, словно шокированное недоумение, что Жюльен ведет себя так скверно, грубо. А потом – совсем ничего, остальное происходило в полной тьме. Жюльен услышал, как он упал, не забыл выдернуть штык и всадить его опять и опять. И яснее всего он помнил удовлетворение. Он помнил, что продолжал колоть, когда уже не требовалось, что колол он из удовольствия. Этот момент превратил его в варвара, упивающегося победой. Вот что ему снилось и что так его пугало. Он помнил, как легко было поддаться этим чувствам. Хуже того: его сны играли с ним в жуткие игры и спутывались – когда ракета вспыхивала и озаряла местность и он смотрел вниз, то видел смертную бледность на лице Юлии, кровь, струящуюся из ее тела в грязь, ее губы, беззвучно шевелящиеся под грохот канонады, будто поезд, проносящийся мимо станции и заглушающий все разговоры на платформе. Он убил ее. И кошмар этот повторялся припадочно и без всякой причины, насколько он мог судить.
– Как она? – Он задал этот вопрос, едва позволило приличие.
– Великолепно, – ответил ее отец, как отвечал всегда – и тогда, когда письма, которые она писала Жюльену, указывали на другое. Жюльен так и не узнал, действительно ли Бронсен не догадывался о ее мучениях, о трудностях, с которыми она сталкивалась, пока работала над тем, чем гордилась; или же он не хотел признать, что она все-таки несовершенна. Если так, то цель была похвальной, продиктованной отцовской любовью, но даже когда он только-только познакомился с Бронсенами, ему стало ясно, что любовь эта очень затрудняет ей жизнь, и как-то на пике их переписки он упомянул про это. В среднем Юлия раз в месяц присылала ему письмо, раз в месяц Жюльен писал ответ – длинные письма с обеих сторон, забавные и трогательные, хотя ни она, ни он полностью не понимали, как нетерпеливо адресат ждал этих писем, как поспешно вскрывал и читал, затаивая дыхание от восторга.
«Конечно, ты прав, – пришел ее сухой ответ. – Он так много ждет от меня, и как я могу отказать ему в чем-либо? Трудно работать, когда кто-то все время заглядывает тебе через плечо. Было бы лучше, считай он меня плохой художницей и отговаривай, вместо того чтобы очаровываться каждой моей мазней. Но рано или поздно я должна найти простор…»
– Она пишет замечательные вещи, замечательные, – сказал Бронсен за обедом в роскошном ресторане неподалеку от Испанской лестницы вскоре после того, как Жюльен получил это письмо. – И, по-моему, должна продолжать. Очень надеюсь, что брак не станет ей препятствием.
Это было сказано с легким лукавством, как будто он прекрасно знал, как подействуют его слова. Что, молодой человек? Вы посмели посягнуть на мою дочь? Не будьте смешны. Жюльен оцепенел и должен был сделать огромное усилие, чтобы скрыть, как на него подействовала эта новость.
– Я не знал…
– Конечно, она очень сдержанна. Она выходит за дипломата, человека огромных возможностей из хорошей семьи и со связями, которые чрезвычайно помогут ей в ее работе. Они будут очень счастливы вместе, я уверен.
Так вот какое спасение она выбрала, подумал Жюльен. Услышанное его совсем не убедило: ее отец казался слишком уж удовлетворенным и довольным. Однако он отправил вежливые поздравления, в которых опустил все сколько-нибудь нежные обращения прежних писем. Через положенное время он получил в ответ такое же формально вежливое письмо. На этом их дружба на некоторое время прервалась.
– Быть может, Муссолини чего-нибудь добьется, кто знает? – Разговор продолжался, как и обед, и Жюльен пытался наслаждаться им или хотя бы делать вид. – Все остальные потерпели неудачу. А он пользуется всеобщей поддержкой, начиная с кардиналов и до скульпторов-авангардистов включительно, из чего следует, что в нем что-то есть.
Бронсен теперь перешел на политику. Утром он побывал на совещании в министерстве финансов, а за два дня до этого впервые встретился с новым итальянским лидером.
– И какое у вас мнение?
Бронсен помолчал, тихо наслаждаясь. Жюльен уже знал по опыту, что ожидать равноправного разговора на подобные темы нет смысла – Бронсен твердо считал, что тот, кому известно больше, должен доминировать. Надо отдать ему должное: на темы развалин и живописи он справлялся о мнении Жюльена, но не терпел, чтобы его перебивали, когда речь заходила о чем-либо более практичном. В результате его разговор иногда превращался в миниатюрную лекцию.
– Он произвел на меня впечатление, – ответил он. – Да-да. Выглядит несколько дураком, но это явно только внешность. Он знает, что делает, и ждет, чтобы все это тоже знали. Такая ясность очень приятна. Освежающий контраст с обычными сварами и перебранками. Решения принимаются и исполняются. Вы не представляете, какая это редкость. И Богу известно, насколько эта страна нуждается в подобном. Да и Франции, боюсь, кое-что подобное не помешало бы. Кто-нибудь вроде Муссолини сделал бы фарш из коррумпированных бездарностей, которых мы умудрились поставить у власти.








