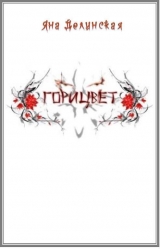
Текст книги "Горицвет (СИ)"
Автор книги: Яна Долевская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
XL
Юра хорошо знал со слов мамы и гимназического учителя пения, что из-за своего ослиного упрямства и лени он губит в себе серьезные музыкальные способности. Но нисколько не переживал по этому поводу. Он даже толком не понимал, о каких способностях они говорят, и в чем эти способности выражаются. И только когда слышал музыку, правда далеко не всякую, в нем вдруг просыпалось что-то такое необычное, загадочное и очень приятное, отчего он не мог потом долго отделаться и долго носил в себе, как погашенные, но явственные воспоминания.
Особенно ему нравилось слушать игру на фортепьяно, возможно потому, что к этому инструменту он привык благодаря матери чуть ли не с рождения, и считал его самым отзывчивым. С тех пор, как он начал ощущать в себе при звуках музыки то необычное и щемящее волнение, которое трудно было бы определить, он очень ясно научился отличать голос каждого исполнителя. Из тех, кого ему доводилось слышать в родительской гостиной, особенно постоянных, он угадывал с закрытыми глазами по первым же сделанным ими аккордам. Как это случилось, Юра опять-таки не понимал, но угадывал и отделял музыкантов по тем оттенкам своего странного ощущения, которое они у него пробуждали.
Так, игра мамы всегда отливалась в геометрически правильные фигуры, раскрашенные бледными голубыми и бежевыми красками. Тетя Жекки лепила такие же беспомощные каляки-маляки, как маленький Павлуша, рисующий цветными карандашами на обрывках бумаги. Аполлинария Петровна играла все больше прямыми очень пестрыми и гибкими линиями. Доктор Коперников по-любительски набрасывал черные контуры на желтом фоне. Гимназический учитель заплетал очень витиеватые, в основном, чернильного и красного цвета кружева, и в них тоже время от времени было очень интересно вслушиваться. Однажды Юре вместе с родителями довелось послушать концерт гастролировавшего в Нижеславле знаменитого на всю Россию пианиста, и тогда он услышал картину очень острую, светлую, похожую на сквозной солнечный свет, проходящий через узоры на морозном стекле в ясный зимний день. Но и этот знаменитый пианист не мог сравниться с теми сказочными пейзажами неземной красоты, что рождались от игры дяди Павла.
Только Павел Всеволодович умел оживлять объемные, проступающие из заоблачных, клубящихся в розоватом свете пучин, синие дали и радуги, бушующие моря и ледяные пустыни, дикие свирепые штормы и лунную безмятежность. Он обладал страшной властью, способной заставить Юру то захлебнуться от радости, то испытать не с чем несравнимую тоску, от которой по щекам бежали горькие слезы. Дядя Павел был самым настоящим чародеем, и Юра удивлялся, что кроме него никто не понимает, что за необыкновенный человек живет бок о бок со всеми ними – обычными одинаковыми людьми.
В этот вечер Юра как всегда с томительным беспокойством ждал, когда дядя Павел подсядет к инструменту. Обычно, если только у вечера не было заранее намеченной программы, Павел Всеволодович пропускал вперед всех желающих, а сам спокойно дожидался последнего любительского аккорда, когда внимание гостей заметно рассеивалось, и он начинал играть для себя.
Юра опасался, что в этом случае, сегодняшним вечером ему не доведется услышать драгоценные, никогда не повторяющиеся мелодии потому, что из-за позднего времени его отошлют спать. Но пока он терпеливо ждал.
В самом начале его сильно возбудило исполнение хорошо известной «Серенады» (пела тетя всегда замечательно). Потом мама играла очень сложную вещь Листа, как всегда очень правильно, и очень одномерно. Потом Николай Николаевич выразил желание тряхнуть стариной и сыграл в угоду Аполлинарии Петровне вполне сносно этюд Шопена – голубой и длинный. Потом доктор Коперников выступил со своей гитарой и стал играть разные знакомые и неизвестные Юре штуки, причем, играл вдохновенно. Похоже, с гитарой доктор ладил намного лучше, чем с фортепьяно. Из нее он извлекал, печальные, – исключительно почему-то печальные, – голубоватые прозрачные, повитые мягкой дымкой, акварели, в которых Юра улавливал очертания безликих волн и все время уходящего, невозвратного берега, тающего за кормой старинного корабля. Затем, будто в продолжение невидимых Юриных грез, папа с доктором Коперниковым спели свой любимый дуэт «Моряки» на слова Языкова.
Это была их любимейшая, еще со студенческих лет, песня, и Юра, переняв ее по наследству, тоже очень рано угадал в ней отголосок своего собственного жизнерадостного упрямства и веселой отваги. Слушая, он не замечал, как сам, негромко подпевая, встраивается в этот отливающий бронзой и пахнущий свежим ветром штормовой пейзаж. «Смело, братья, бурей полный прям и крепок парус мой! Нас туда выносят волны, будем тверды мы душой!» – гремело в последнем куплете, самом звонком, мощной волной бросавшем «быстрокрылую ладью» на берег «блаженной страны».
И вот, наконец, мама, как всегда немного робея, обратилась к дяде Павлу с предложением тоже исполнить что-нибудь. Юра замер в радостном возбуждении. Дядя Павел отчего-то не сразу поднялся из кресла, медленно подошел к фортепьяно и минуты две стоял возле него совершенно неподвижно, как будто бы видел этот инструмент впервые, и не знал с какого края к нему подойти, да и стоит ли вообще подходить. Эту нерешительность заметил не только Юра, но и все, кто был в комнате, да ее и нельзя было не заметить. И дядя Павел, кажется, сделал решительный шаг, только ощутив повисшее за ним безмолвное недоумение.
Он сел и начал играть. Юра, ждавший этой игры, как самого вкусного и лакомого блюда сегодняшнего вечера, слушал и сначала не верил своим ушам. Как будто играл кто угодно, но только не тот вдохновенный чародей, к которому он привык. Как будто кто-то холодный и плоский вдруг добрался до податливых плавных клавиш, и взялся походя выдавливать из них безликие черные мазки. Юра чуть было не ушел, не дожидаясь, пока его выпроводят из гостиной. Настолько бесцветным, невозможным казался ему тот рисунок, что выходил из игры дяди Павла. Настолько тягостно и неприятно было подступившее разочарование. Но что-то удержало Юру от бегства, о чем позже он ни единожды пожалел.
То, что он услышал после того, как плоские черные мазки, начертанные дядей Павлом, начали сами собой перерастать в густые объемные образы, ввергло его в кромешный, зыблемый, будто бы налетавшими порывами ветра, непроходящий багровый кошмар. Черные и пурпурные волнообразные слои, похожие на грозовые тучи, сгущались, переплетались друг с другом и, смешиваясь, образовывали плотную, но чрезвычайно подвижную, рвущуюся, подобно ветхой материи, то огненно-красную, то черную, то лиловую смесь, из которой вырывалось горящее страшным багрянцем, безмерное зарево. Оно пылало и выло, и было не понятно, откуда текут его неохватные палящие потоки – от земли или с неба. Ни неба, ни земли уже не было. Был только сметающий все, кошмарный пламень. Юра на секунду забылся, когда почувствовал разверзшуюся под ним багровую пропасть. Его объяли непередаваемые страх и тоска, как будто ревущее зарево выжгло внутри все без остатка. Он почувствовал, как прервалось и сбилось его дыхание, как наплывающие багровые волны застлали ему глаза, и главное, с какой тягучей щемящей болью сжалось в груди сердце. Ему захотелось, чтобы дядя Павел немедленно перестал играть, чтобы его руки замерли или вообще отвалились, а фортепьянные струны полопались все разом. Лишь бы не продлевать эту муку, лишь бы не слышать этих гудящих, зовущих и плачущих колебаний безмерного мрака.
И дядя Павел как будто послушал его. Багровые отсветы зарева начали медленно отступать и за ними, на освобожденном ими подвижном полотне, выступило беспредельное ничто – ужас самой пустоты. И от этого голого безобразия повеяло такой неприступной горечью, такой слепой обреченностью, что было непонятно, какую боль легче перенести, рожденную кромешным заревом, или вызванную бесконечностью оставленной им пустыни.
Когда дядя Павел последний раз опустил пальцы на клавиши, Юра поднялся, чувствуя слабость во всем теле. Он хотел поскорее уйти из гостиной и, торопясь выбраться вон, столкнулся в дверях с Грегом, который к его изумлению тоже стремительно выходил из комнаты. При столкновении Грег оступился, и чуть было не навалился на Юру, но с какой-то присущей ему ловкостью удержался от падения. Грег положил на плечо Юре тяжелую ладонь и в эту секунду, подняв на него глаза, Юра увидел отражение своего собственного или очень похожего, чувства. В глазах Грега тлело задавленное страдание. Они поспешно разошлись в разные стороны. Юра побежал вверх по лестнице, а Грег, судя по направлению его шагов, вышел через столовую на веранду.
Жекки не обратила внимание на их уход. Она не особенно вслушивалась в игру Аболешева, находя ее как всегда сильной, но, не отрывая взгляда от его лица, убеждалась с каждым новым приливом волнения, вызванного музыкой, что с ним произошло нечто непоправимое. Она не могла сейчас заняться поисками ответа на вопрос, что именно, и почему именно сейчас. Просто она видела, что музыка все-таки сделала свое обычное дело, разбудив в Аболешеве то, что еще было способно проснуться. И горячечные отблески этого пробуждения, читавшиеся в его оживших, но каких-то уже полустертых, чертах, вызвали у нее отчаянье. Аболешев был неузнаваем. Когда он закончил играть, на него было страшно смотреть. Видимо, он и сам прекрасно понимал, что в эти минуты выдает себя. Выдает ту скрытую ото всех подноготную, подлинность которой, открывшись, не могла возбудить у обычных слушателей ничего, кроме удивления и страха. Возможно, осознание неуместности подобного открытия, подействовало на него как раздражитель. Возможно, что-то другое сломало его приевшуюся бесстрастность. Но только когда смолкли последние звуки его темной импровизации, в наступившей тишине он вдруг с какой-то бешеной злобой два раза подряд обрушил распластанные пятерни по умолкнувшим было клавишам и, не сдержав сдавленный стон, уронил на них голову.
– Боже мой… – пролепетала, очевидно, разбуженная в очередной раз, Нина Савельевна.
Аполлинария Петровна ахнула. Коперников сделал движение в сторону Аболешева, но передумал. Саша Сомнихин раньше других испуганно метнулся вон из гостиной.
– Павел Всеволодович, голубчик… – вырвалось у Вяльцева.
– Что с ним такое? – прошептал Николай Степанович, склоняясь над ухом Жекки. Она еле-еле повела плечами, изобразив непонимание. Быстрее других нашлась как всегда Ляля.
– Господа, это так… ничего. Оставимте пока, – сказала она с принужденным задором. – Милости прошу в столовую. Закусить чем бог послал.
– Да, господа, – поспешил поддержать ее Николай Степаныч, – пойдемте. От искусства тоже, знаете ли, надо иногда отдыхать. Закуски, самоварчик там… Пожалуйте.
Гости не заставили себя упрашивать и дружно, один за другим, вместе с хозяевами покинули гостиную. Жекки, не замечая их, стояла посреди комнаты и смотрела на Аболешева. Он все еще сидел за фортепьяно, уткнувшись лицом в беззвучные клавиши. Плечи его слегка вздрагивали. Жекки не решалась к нему подойти. Боялась.
Постояв в совершенном трансе и так и не приблизившись к нему, она в конце концов тоже перешла в столовую. По опыту она знала, что трудные минуты жизни Аболешев лучше всего преодолевает водиночку. Даже самое благожелательное сочувствие сейчас, как ей казалось, могло только усугубить последствия. Хотя… все это были пустые отговорки. Просто она никогда не видела Аболешева таким. Она испугалась. Она просто не знала, что делать.
XLI
Первая неловкость и даже некоторый испуг, вызванные странной выходкой Аболешева, мало-помалу сгладились, и в столовой своим порядком завязался довольно непринужденный разговор. Когда Жекки подсела к столу, беседа велась по двум неравнозначным направлениям. В центре одного находилась, разумеется, Ляля, окруженная с двух сторон воздыхателями. Слева от нее сидел желторотый Саша Сомнихин, справа – Грег.
Саша, видимо, почувствовал в Греге опасного соперника, поэтому как мог старался болтать без умолку, отвлекая всеми силами внимание Елены Павловны на себя. Грег действовал прямо противоположным образом в соответствии с хорошо известным древним правилом соблазнения. В виду активного и разгоряченного Саши он молчал или изредка бросал короткие реплики. Зато такие хлесткие, что двумя-тремя словами опрокидывал все громоздкие строения, не без труда возводимые Сашей с помощью избитых комплиментов и обросших бородой анекдотов. Меткие сарказмы Грега, его бурлящая, как вулкан, веселость, непроизвольно рождавшая уморительные шутки, доводили Елену Павловну до смехового умопомрачения. Она хохотала, не видя сквозь слезы веселья ни укоряющих взглядов мужа, ни мрачневшей с каждой минутой физиономии Сомнихина. Грег при этом имел вид бесчувственного чурбана, как будто и впрямь не понимал, что такое творится с милой гостеприимной хозяйкой. Одновременно преувеличенно любезным вниманием к Сашиным изречениям он будто нарочно подливал масла в огонь, заставляя того краснеть, заикаться и, вызывая у Ляли новые смеховые конвульсии. Так что Ляля, даже помимо воли, даже если бы уже не была захвачена со всеми потрохами его опасным остроумием, подчиняясь единственно природному женскому инстинкту, склонялась в предпочтении не к шумному и навязчивому Саше, а к этому самому чурбану.
«Если она в него еще не влюбилась, то влюбится минут через десять», – подумала Жекки, спокойно посмотрев на сестру. Она не ощущала ни малейшего укола ревности. Все ее мысли и чувства с самого утра сошлись в одной точке – несостоявшемся объяснении с Аболешевым. Аболешев был главное. Кроме Аболешева никто и ничто сейчас, да и почти никогда, ее не занимал.
Грег, встретив ее глазами, продолжил начатую игру с едва приметным раздражением. Одержанная победа его явно не удовлетворяла. Ему становилось скучно. «Бедный, бедный Серый. Ну, зачем тебе далась еще наша Лялька, – опять подумала Жекки и даже не сильно испугалась, поняв, что соединение в ее мыслях Грега и волка все-таки состоялось. – Она глупенькая, а ты и рад. Не знаешь, что тебе готовят… Да, и как сказать-то тебе… вот еще забота».
Второе направление застольной беседы объединило сторонников и противников социальной революции. Сторонник в строгом смысле был только один, а точнее – одна, потому что эта завидная роль выпала на долю Нины Савельевны. Вяльцевы с доктором Коробейниковым, как последовательные ревнители народного просвещения и постепенного развития, нападали на нее, и очевидно, имея значительный численный перевес, должны были бы одержать убедительную победу. Но не тут то было. Нина Савельевна огрызалась и отбрыкивалась, и, в отличие от своих противников, привлекала в поддержку не теоретические выкладки и цитаты из Кропоткина или Маркса, а примеры из хорошо известной ей деревенской повседневности. Доктор Коперников, не отличавшийся охотой к бесплодным дискуссиям, держал суровый нейтралитет.
– Нет, тут нам с вами, коллега, спорить не о чем, – убеждал Николай Степаныч, – нынешняя власть преступна, и сама себя губит. Но представления о мужике, как о средоточии всяческой святости, отдает, простите, первобытным идеализмом. Чем и является, в конечном счете, толстовство, да и анархизм в своей теоретической ипостаси. А о его практической стороне говорить считаю вовсе излишним.
– Ни в коем случае не соглашусь, – бросала в ответ Нина Савельевна своим низким, мужским голосом. – О каком идеализме вы говорите? О том, что позволяет мне сравнивать мужиков с вами, со мной, со всеми так называемыми культурными людьми? Так это сравнение ложно. Оно нам ничего не скажет, потому что мы с вами отличаемся от мужиков, как коровы от крокодилов. Мы принадлежим к разным видам животного мира. Вы, как естественник, должны это хорошо понимать.
– Так вы, стало быть, нас с крокодилами равняете, – заметила, улыбаясь, Аполлинария Петровна, – хорошо же, право…
– Это она мужиков с крокодилами, – возразил ей супруг. – А нас – с коровами.
– Ну, тогда извините.
Ну, полно, господа, – вспыхивал Николай Степаныч, как всегда с ним бывало во время интересного спора, который кто-нибудь начинал сбивать в сторону. – Мы и они, вовсе не так уж не схожи. Я сам мужик, да-да, и горжусь этим. Кому, как ни мне, знать, из какого они теста. Уверяю, в чем-то глубинном мы с ними одно целое. И вот что оставляет мне – всем нам, полагаю, – некоторую, весьма отдаленную, надежду на не слишком позорное будущее. В конце концов, для чего иначе мы работаем, ради чего все наши усилия и жертвы?
– Вот именно… – сказал Коперников, пожелав неожиданно для всех принять участие в споре. – Для чего, хотел бы я вас спросить, мы добровольно впрягли себя в это ярмо?
– Позвольте, позвольте, – прервали его чуть ли ни одновременно оба главных спорщика, акушерка и Коробейников.
– Так мы с вами ни до чего не договоримся, кроме невозможности принять нынешний порядок вещей, что, согласитесь, слишком понятно. И речь даже не о том, как уничтожить этот порядок вещей…
– Только революция. Революция, дорогой Николай Степанович, – громко перебила его Нина Савельевна.
– Ради бога, – послышался с другого конца голос Елены Павловны, прервавшей из-за этого громкого и чересчур прямого возгласа свою увлекательную борьбу на два фронта. – Пожалуйста, не так громко, – и почти шепотом добавила: – Не забывайте – у нас под окнами ходит шпик.
– И чем скорее, тем лучше, – ничуть не понижая голоса, продолжила Нина Савельевна. – Революция не только уничтожит отжившее и гнилое, но через очистительный огонь приведет нас к подлинно новому, лучшему…
– И вы еще доказываете, что вы не идеалистка.
В эту минуту из гостиной в столовую вошел Аболешев. Жекки приподнялась и, словно ободряя, указала на свободный соседний стул. Все разговоры смолкли, и Аболешев, посмотрев на сидящих за столом давно знакомых ему людей, произнес очень спокойным, ничего не выражающим голосом:
– Извините, господа, я немного устал сегодня.
Поощрительный разнородный говор раздался со всех сторон: «Да идите же к нам… Павел, дорогой… садитесь… Павел Всеволодович, вы должны немедленно выпить чая». Он кивал, улыбался бледной улыбкой и выглядел совершенно уверенным в себе. Он уселся рядом с Жекки, но когда та подала ему чашку чая, отказался, и сам налил себе холодной воды. Взглянув на него вблизи, Жекки увидела, что маска его спокойствия весьма фальшива, и что из-под нее неумолимо проступают все те же искаженные черты. Ей снова стало не по себе. Между тем, прерванные разговоры возобновились.
– Ну как, как можно продолжать надеяться на поступательный прогресс, – твердила свое Нина Савельевна, – когда мы каждый день видим такое У Фролки, нищего мужика, от недокорма две недели назад сдохла его кляча. Жена больная не поднимается, а шесть человек детей. Пухлые от голода, в лохмотьях. Младшего я забрала к нам, в больницу. Выживет или нет, еще не знаю. И главный ужас в том… Вы понимаете, как такая жизнь, если ее можно назвать жизнью, искажает человеческую природу. Мы с Кузьминым наскребли для Фролки тридцать рублей, отдали ему, чтобы он купил себе другую лошадь. И что же вы думаете? Все до копейки он пропил в два дня, все-все. Нет, это непробиваемая стена, господа. Ее может снести только насилие, радикальнеший переворот всей жизни.
– Из нашего национального радикализма не выходит ничего, кроме пугачевщины, – гнул свое Николай Степаныч.
– Все это безнадежно, господа, – вновь вступил в разговор Коперников.
На этот раз ему не стали противоречить, поскольку и в его словах, и особенно, в удрученном лице прочитывалось что-то знакомое всем и каждому.
– Кого мы пытаемся спасти? – воскликнул он, стараясь ни на кого не смотреть, – Дикарей, которые нас ненавидят, как своих завоевателей? Конечно, мы не можем им не сострадать. И в этом-то причина наших собственных страданий. Мы не можем не идти к ним, не пытаться изменить хоть что-то. Другое дело, что наше бескорыстие и этот взгляд на народ, как на слабоумного ребенка, только развращает мужиков, добавляет им права нас ненавидеть, а нам не оставляет ничего, кроме неверия ни во что на свете. Может, отдавая себя в жертву, мы хотим спасти самих себя? Снова вопрос – для чего? Чтобы низвести себя до дикарей, набившись к ним в братья по разуму? Или, может быть, для того, чтобы не стыдится собственной никчемности? Все это безнадежно, я устал от всего этого. И прежде всего от того, что не в силах ничего изменить.
Коперников опустил низко голову, и какое-то время сидел так в полной тишине, воцарившейся после его слов.
– Безнадежно… – повторил он еще раз медленно, выделяя интонацией каждый слог. Затем поднялся, отошел к стене, где на приставленных стульях лежала его гитара и, взяв ее в руки, стал бессмысленно наигрывать что-то неопределенное.
Все сидели по-прежнему молча. Вдруг Коперников, мягко перебрав струны, заиграл мелодию, пахнувшую старомодным осенним унынием.
Аболешев резко поднялся и подошел к окну. Отвернувшись, он уставился в черное стекло, приоткрыв для этого опущенную занавеску. Казалось, темнота притягивала его как магнит. Он не мог от нее оторваться. А между тем, в его напряженной, натянутой как струна, фигуре Жекки угадывала невероятную сосредоточенность. Слова и музыка вновь задели больной нерв. Жекки казалось, что Павел Всеволодович вообще весь целиком с какого-то момента превратился в живой сгусток оголенных нервов. Малейшее прикосновение к ним отзывалось мучительными болями. Зная это, она как могла оберегала его от особенно опасных раздражителей. Но, видимо, наступил тот момент, когда натянутые струны начали рваться от собственного напряжения, и уже ничто не могло этому помешать.
Коперников пел, что называется, безыскусно и на привередливый вкус ценителей, вроде Ляли, совершенно неправильно. Но, возможно, именно эта безыскусность помогала ему передать то, что хотелось. Его слушали в оцепенении. Не потому, что он доносил что-то новое. Наоборот, его слушали так потому, что в давно знакомом и почти заурядном с неожиданной откровенностью зазвучало всем хорошо известное, всеми испытанное, и оттого такое пронзительное, и такое безжалостное.
Коперников пел. Грег, куривший у приоткрытой двери возле веранды, смотрел со сдержанным ожесточением, как быстро вырастал серый стебелек пепла на конце его сигары. Вяльцев, успокаивая, накрыл ладонью дрогнувшую руку жены. Саша Сомнихин просто сидел, опустив глаза, рядом с Лялей, которая, не отрываясь, смотрела на длинные подвижные пальцы Коперникова, перебиравшие гитарные лады. Даже Нина Савельевна, безотчетно слушая «коллегу», догадывалась, что он поет не только о себе, и не только для себя, и вообще о чем-то таком, что не имело прямого отношения к словам подзабытого автора.
Стало понятно, что вечер заканчивается совсем не так, как намечала Елена Павловна. Собственно, он и без того был полон непреднамеренных отклонений от задуманного. Поэтому Ляля справедливо могла быть собой недовольна.
После того, как Коперников замолчал, гости, не сговариваясь, начали один за другим расходиться. Первыми к себе ушли Аболешев и Жекки.








