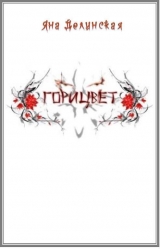
Текст книги "Горицвет (СИ)"
Автор книги: Яна Долевская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
XXXII
В общем зале трактира, не смотря на позднее время, еще оставалось довольно много посетителей. Шприх тотчас выделил среди них несколько знакомых физиономий, по большей части уже сильно раскрасневшихся от духоты и употребленных напитков. Он без церемоний подсел за столик к компании таких засидевшихся гуляк, и они так же бесцеремонно приняли его, одарив на радостях пьяными объятьями и поцелуями.
Приятели стали наперебой угощать его, подсовывать тарелки с закуской. Тотчас потребовали у полового еще водки, порцию кулебяки и холодной телятины, и не успокоились, пока Соломон Иваныч не опустошил третьей рюмки. Дальше пошли обычные бессвязные разговоры, показавшиеся Соломону Иванычу на редкость занимательными. Он много пил, ел с аппетитом, которого давно не испытывал и пытался не без успеха участвовать разом во всех разговорах, начинавшихся одновременно между всеми участниками. В конце концов, охмелев, он втянулся в атмосферу угасающего кутежа, так что засевшая где-то глубоко вязкая тьма, как показалось, отпустила его насовсем.
Но вот многие гуляки принялись откланиваться, зала начала пустеть и, чтоб отсрочить необратимое закрытие, трактирщик выпустил в зал последнего увеселителя, припасенного на сегодня.
Это был маленький смуглый человек в огромном белом тюрбане и широких атласных шароварах огненного цвета. Чуть повыше его левой щиколотки блестело стальное кольцо. От кольца тянулась тонкая цепочка, прикрепленная другим концом к ошейнику на горле маленькой подвижной обезьянки. Внешность, смуглый цвет кожи и сопровождение обезьяны ясно говорили о том, что этот человек – восточный факир. Когда он предстал перед публикой, обезьянка сидела у него на плече, а длинная, связавшая ее с хозяином цепь, свисала, путаясь в атласных складках шаровар. Появление этой парочки было не удивительно, поскольку заведение давно подавало все свои блюда под псевдо-экзотическим соусом. Трактирщик представил человека в шароварах, как знаменитого индусского мага по имени Фархат ибн Сингх, «прибывшего к нам из славного города Бомбея вместе с обезьяной Индрой, изловленной в диких джунглях». Заинтригованные посетители, образовав живой полукруг, обступили факира со зверьком. Начался показ фокусов.
Соломон Иваныч, хотя терпеть не мог подобных представлений, считая их чистым мошенничеством, будучи под влиянием уже весьма крепкого опьянения как-то легко поддался общему настрою и совершенно случайно оказался в первом ряду зрителей. Он чуть ли не в упор смотрел на всевозможные замысловатые манипуляции, которые факир проделывал с разными предметами, оказывавшимися у него в руках, но не мог сосредоточиться ни на одном его движении.
В то время, как все кругом ахали и задорно хлопали, выказывая одобрение ловкости факира, внимание Шприха целиком захватила обезьянка. В ее живом маленьком тельце ему виделось что-то на редкость симпатичное. Ее крупные точно чернослив, глаза, влажно блестевшие на сморщенном пергаментном личике, казалось, бросали на него грустные и немного насмешливые взгляды. Ее частые прыжки с плеч факира на пол и обратно, путаные кружения вокруг босых ног индуса и участие в фокусах, – все, вплоть до поминутно сменяющих выражение ее хитрой мордочки забавных гримас, вызывало у Соломона Ивановича стойкое чувство доброжелательства. Дошло до того, что у него появилось почти невероятное желание взять ее на руки, пригладить слегка взъерошенную на спине и макушке головы коричневую шерстку, чтобы через прикосновение ощутить тот горячий внутренний ток симпатии, который каким-то непонятным образом передавался ему.
Представив Индру в своих руках, Соломон Иваныч зажмурился от удовольствия. Он поймал себя на мысли, что еще никогда прежде не испытывал подобных диковинных ощущений. «В кои-то веки узнал привязанность», – подумал он язвительно, но при этом с какой-то странной, неиспытанной прежде радостью.
Обезьянка так приковала его внимание, что он не сразу заметил, как прямо перед ним мелькнула ее пергаментная мордочка и зажатое в ее цепких лапках круглое железное блюдце с монетами и смятыми рублевыми бумажками. Застигнутый врасплох, Соломон Иваныч не задумываясь, протянул руку, положив ее на маленький бархатный затылок зверька. Воспользовавшись секундой, ему удалось провести ладонью по мягкой ссутуленной спинке обезьяны и почувствовать, какая она крохотная и горячая. Это чувство было для Соломона Иваныча незабываемым. Но вдруг, почти в ту же секунду, он услышал в кружке собравшихся зрителей звонкие разрозненные смешки и понял, что они раздаются по его адресу.
Среди завсегдатаев Вилки, да и всего местного купечества господин Шприх успел за полтора месяца пребывания в Инске прославиться тяжелой неизлечимой скупостью. И теперь, гуляки, собравшиеся в ночном трактире, увидели в его неожиданной попытке приласкать обезьянку единственное корыстное желание избавиться от необходимости платить за представление. Естественно, такой откровенно скряжеский жест не мог не развеселить подгулявшую публику. Смех и грубые шутки посыпались на Соломона Иваныча со всех сторон.
Испуганная громкими и внезапными криками, Индра стремительно соскочила с руки фокусника на пол, блюдце с грохотом полетело на пол. Медяки и бумажные купюры разлетелись в разные стороны.
Фархат ибн Сингх, для пущей загадочности молчавший все время, пока шло представление, огласил трактир такими отборными ругательствами, что его индусское происхождение окончательно стушевалось. «Ах ты эфиопская образина» и «чтоб тебя… окаянную», – зарычал он и, кряхтя, принялся собирать разбросанные вокруг деньги. Это вызвало новый бурный прилив восторга.
Раздобревшая публика, справедливо полагая, что доставленное удовольствие того стоит, тут же принялась наперебой бросать в блюдце прямо через голову фокусника монеты и бумажные рубли разного достоинства. Один только Шприх стоял по-прежнему, неподвижный и чем-то подавленный. Он никак не мог отделаться от пронзившего его радостного чувства. Ему казалось невозможно вот так вдруг не с того не с сего обрести его, и так же вдруг потерять. Когда же эта мгновенная радость исчезла, он почувствовал такую нестерпимую жалость, что даже воспоминание о завтрашнем переводе на его счет крупного аванса и последующего обладания двадцатью тысячами не смогло примирить с этой утратой.
Взглянув в последний раз на высунувшуюся из-за шаровар хозяина испуганную морщинистую мордочку Индры, Соломон Иваныч засунул руку в карман. Достав оттуда потертый кожаный кошелек, он бестрепетно вытряхнул все его содержимое на жестяное блюдце. За его спиной послышался одобрительный изумленный ропот. И тогда он ощутил что-то, сроднившее его на долю секунды со всегдашним кумиром и теперешним ужасом, с Грегом. Но и это ощущение теперь не оставило по себе ничего, кроме сожаления. Ни на что не обращая больше внимания, Шприх пошел к выходу.
– Эй, куда вы, Соломон Иваныч? – услышал он позади себя. Шприх не ответил и не обернувшись, махнул рукой.
– Да постойте, – раздался еще чей-то голос. – Вы ведь на ногах еле держитесь. Позвольте, мы вас проводим.
Уже распахивая входную дверь, Соломон Иванович снова молча взмахнул рукой, точно показывая, что не нуждается больше ни в каких провожатых.
XXXIII
На улице было темно. Он пошел прямо по улице заплетающимися ногами. Ноги поминутно с возмутительной произвольностью отбрасывали его то вправо, то влево. То вдруг подгибались сами собой, вынуждали останавливаться и цепляться за попутные кусты или валиться всем телом на скошенные доски забора, поскольку удерживать его в правильном положении отчего-то были не в состоянии.
Шприх знал, что ему надо выбраться с прибрежной окраины к Херувиму – то есть на улицу, где царил самый большой на Вилке игорный дом богача Херувимова, и где в любое время дня и ночи легко можно было найти извозчика. Вполне отчетливо понимая это, Соломон Иваныч шел в темноте, едва разбавленной отдаленными огнями, и в голове у него при том вертелись и перепутывались между собой какие-то лихорадочные видения. Особенно досаждали выпуклые и блестящие, точно чернослив и манящие, будто мечта о баснословном богатстве, глаза маленькой обезьянки. Соломон Иваныч как мог отгонял их от себя. «А ну вас!» – воскликнул он что было мочи и, слабо пошатываясь, осел на подвернувшийся колючий куст акации.
Он шел уже довольно долго, как ему казалось, и должен был, по его расчету, давно выйти к хорошо известному ему игорному вертепу. Тем не менее, вместо широкой мощеной и хорошо освещенной Карабуховской улицы он по-прежнему плелся по каким-то грязным задворкам. С одной стороны дороги нависали черные покосившиеся заборы, над которыми свешивались кривые ветви деревьев, а по другую – вставали какие-то отдельные лачуги с дощатыми крышами или вовсе зияли черные провалы пустырей, заросшие сухим бурьяном.
Соломон Иваныч удивлялся про себя тому, как разрослись за последние два дня (со времени его последнего посещения) окраины Вилки и сколько в них появилось всяких дрянных улочек, каких-то уродливых домов и закоулков, воняющих тухлой рыбой. «И хоть бы один фонарь, или хотя бы свет из окошка», – думалось ему. Однако он упрямо продолжал петлять среди этих незнакомых и темных лабиринтов, уверяя себя, что выход на большую улицу вот-вот появится.
– Эй, дядя, – окликнул его неожиданно чей-то грубый голос, когда Соломон Иваныч в очередной раз чуть было, не свалился в придорожную канаву, но выправился и сделал несколько нетвердых шагов вперед. – Ты часом не заблудился?
Шприх вздрогнул и съежился всем телом. Перед ним, словно из-под земли выросли две высокие черные фигуры в картузах, надвинутых по самые глаза. Один, тот, что был повыше ростом, сжимал во рту раскуренную папиросу, и от красных вспышек на ее скрюченном кончике по лицу курильщика пробегали слабые световые всполохи.
– Гаа-спада, – промычал Соломон Иваныч, смутно соображая, что голос отказывается повиноваться ему так же, как ноги, – чему обя-язан?
– Да вот чему, – услышал он в ответ и почувствовал, как чьи-то твердые руки принялись бесцеремонно ощупывать его по бокам, спине, животу, выворачивать карманы, вертеть им из стороны в сторону, как болванчиком, и, наконец, вытащив кошелек, отпихнули его с такой невероятной силой, что Соломон Иваныч упал, больно ударившись головой о камень. Что-то теплое поползло у него от виска по щеке.
– Ничего, – послышался над ним прежний голос. – Вишь ты, ни полушки не осталось. Все профинтил, мартышка ты этакая.
Еще мгновенье, и Соломон Иваныч почувствовал, как его тело очутилось опять в вертикальном положении. Где-то у самого сердца тускло блеснуло лезвие ножа. Вязкая темнота, осевшая где-то в глубине подсознания и давившая весь сегодняшний вечер, вырвалась из подполья и захлестнула волной слепого, непередаваемого ужаса. Мелкая дрожь пробежала по телу. Охваченный этой темной волной, Соломон Иваныч не мог ни кричать, ни бежать, ни сопротивляться.
– А ну его, – пробурчал другой сиплый голос. – Пьяный, все одно себя не помнит.
– И то, – согласился первый. – Черта ли в нем? А ну, ты, мартышка, – зарычал он в лицо Шприху, – беги, пока цел.
Через секунду Соломон Иваныч почувствовал, как те же твердые руки подтолкнули его и с размаху чуть ли не на две сажени отшвырнули, точно куль с мукой. Упав, но, тотчас приподнявшись и все еще не веря, что острие ножа больше не впивается в сердце, Соломон Иваныч ринулся прочь. Раскатистый двухголосый свист обрушился ему вслед.
Он побежал что было мочи, не разбирая дороги, бросаясь из стороны в сторону на непослушных ногах и не видя впереди ничего, кроме черной все более напиравшей тьмы.
Он уже сильно запыхался и только-только остановился, чтобы перевести дух, как из-за перекошенных ворот возле какой-то ветхой лачуги ему наперерез бросилась лохматая собака. Очевидно, голоса, свист и топот бегущих ног разбудили ее. При виде собаки Соломон Иваныч взвизгнул и побежал дальше вдоль каких-то колючих зарослей так быстро, как только мог.
Собака, разразившись предварительно грозным лаем, бросилась за ним. Шприх бежал, сломя голову, задыхаясь, хватая ртом ускользающий воздух. Он был уверен – стоит ему оступиться, как свирепая косматая тварь сразу же растерзает его. Эти мысли рождали у него неясные ассоциации, какие-то болезненные и бессвязные вспышки воспоминаний о совсем недавнем, сегодняшнем и страшном. Но он не мог, не успевал удержать ни одного из них. Черная собака мчалась в двух шагах от него, рыча и примеряясь к прыжку.
Соломон Иваныч еще надеялся увидеть какой-нибудь закоулок, забор или приоткрытую калитку, чтобы укрыться за ними. Но вокруг по обеим сторонам уже не было ни домов, ни заборов. Лишь остовы догнивающих лодок, поваленные столбы, на которых некогда сушились сети, да редкие чахлые кустики, – вот и все, что виднелось ему в промежутках между наплывами беспросветного мрака. Он не запомнил того мгновения, когда выброшенная вперед нога не нашла вдруг опоры. Этот миг короткого падения был сильнейшим его осознанным ощущением. Затем его оглушила и повлекла камнем вниз обжигающая ледяная тяжесть воды, в которую он рухнул с обрыва. Черная маслянистая тьма, наконец, сполна завладела своей добычей. Соломон Иваныч даже не пытался побороть ее. У него просто не осталось сил. Он захлебнулся, так ни разу и не вынырнув над охватившей его темнотой.
Спустя три дня, во вторник, «Инский листок» напечатал небольшое сообщение:
Ок. 12 ч дня понедельника крестьянка Мария Обронина из подгородной Волковой слободы полоскала белье на реке с мостков, устроенных неподалеку от ее дома. Занятая своим делом, она не сразу заметила зацепившийся за столбы мостка какой-то черный предмет. Заметив его, Обронина стала всматриваться. Когда прилившая волна поколебала поверхность воды, она увидела, что этот предмет не что иное, как боковая часть туловища утонувшего человека. Крестьянка не растерялась и тотчас побежала за приставом слободского участка. Вытащенный из воды труп в присутствии понятых был освидетельствован прибывшим на место доктором городской больницы г. – ном Коперниковым. Как стало известно нашему корреспонденту непосредственно от участкового пристава Н.Ф.Ухватова, опознание утопленника не заняло много времени. Им оказался г.-н. Шприх С.И., поверенный крупного коммерсанта, прибывший в наш город на ежегодную ярмарку и исчезнувший в минувшую пятницу. Судя по всему, его внезапная смерть произошла вследствие несчастного случая, поскольку следов насилия на теле не обнаружено.
XXXIV
Как только шаги за стеной, удаляясь по лестнице, затихли, Жекки в изнеможении вышла из-за пыльных портьер и заглянула за дверь. В смежном кабинете еще горела лампа под красным абажуром. На столе стояли остатки ужина, графин с красной наливкой. Натюрморт с пунцовыми маками на стене пересекала по диагонали резкая тень. Жекки зачем-то постояла напротив этой картины и, словно не сразу опомнившись, бросилась обратно в только что покинутую комнату. Потом, поняв, что сделала что-то не то, вернулась в кабинет с натюрмортом. Оттуда выскочила в коридор и, как очумелая, скатилась вниз по лестнице, ведущей к черному ходу.
Выбежав на так называемую нижнюю палубу трактира-дебаркадера, она опрометью кинулась к спасительному мосту. На берегу она задержалась, чтоб чуть-чуть отдышаться. Звуки неторопливых шагов, гулко отдававшиеся в темноте, заставили ее оглянуться. На мосту появились две смутные фигуры. Одна коротенькая на кривых ножках, другая – повыше, коренастая и очень плотно укутанная. Инстинкт самосохранения подсказал Жекки, что это те самые люди, странный и страшный разговор которых она только что совершенно случайно подслушала. Ноги сами понесли ее дальше – прочь от опасного места.
Она бежала сломя голову, ориентируясь лишь на отдаленно мерцавший впереди свет газовых фонарей. Свет сулил ей спасение. Она не сразу заметила, как вышла на мостовую хорошо освещенной улицы. Только здесь она слегка пришла в чувство и, воспользовавшись тем, что поблизости не было заметно прохожих, наскоро привела себя в порядок. Надела шляпку, которая до сих пор болталась у нее за спиной на тесемках. Обтерла платком пылающее лицо и стряхнула с себя пыль, набившуюся в одежду, пока она куталась в портьеру. Сердце ее стучало как прилежный хронометр.
Впереди на тротуаре показались два господина. Они шли прогулочным шагом в направлении сиявшего окнами всех четырех этажей знаменитого «Херувима». Заметив одиноко стоявшую Жекки, они заулыбались, помахали ей руками, но к ее облегчению, затевать знакомство не стали. Она с ненавистью посмотрела им вслед: «Условности жизни, запрещающие женщине одной гулять по ночному городу, просто несносны. Мало того, что тебя принимают за представительницу известной профессии, так еще вынуждают подвергаться незаслуженным оскорблениям, а потом еще и преследованию господ-моралистов». Но по правде, Жекки и сама была не рада, что оказалась этой ночью одна в такой части города, где и в днем-то бывать неприлично.
Сейчас она молила судьбу только об одном – не повстречать кого-нибудь из инских знакомых. «Где же тут можно найти извозчика? Должны же они быть здесь. Господи, только бы меня никто не увидел. Боже мой, только бы добраться до этого перекрестка… Вон там, кажется, стоит один с серой клячей… И до чего же вы дошли, Евгения Пална, рыщете в одиночку среди притонов. Слава Богу, и мама и папа – в Москве, и даже, если что-то узнают обо всем этом, то не скоро… Ах, черт побери – серая кляча взяла какого-то седока… Какого-то пьяного купчишку… Или нет, не может быть… Неужели, господин Петровский, наш почтеннейший полицмейстер, собственной персоной? Неужели, ему пришлось по вкусу заведение мадам Кокаревой? Ну и ну. Ой, кажется, посмотрел на меня. Узнал или нет? Кажется, узнал. А, все равно. Хуже другое – придется ждать следующую пролетку. Или, может, пройти на соседнюю улицу? Ну, уж нет. Лучше спрячусь вон в том палисадничке. Заодно передохну на скамейке. Ноги уже не держат».
Она опустилась на влажное сиденье скамейки, с облегчением прижавшись к ее ребристой пологой спинке, и стала смотреть на улицу. По тротуарам изредка проходили какие-то люди, пропадая в дверях то одного, то другого заведения. Вот из близлежащей бильярдной вытолкнули мятого господина, и он, пошатываясь, поплелся восвояси. Вот низкий человечек под руку с толстой девкой, разодетой в шелка, просеменил к ближайшему крыльцу под круглым навесом с вывеской «Кабаре Жужу». Вот тоненький мальчишка в фуражке коммерческого училища спустился с того же крыльца и пошел прямо по мостовой, широко разбрасывая на ходу руки. Вот еще двое каких-то господ проскользнули по тротуару мимо палисадника.
Жекки смотрела на всех этих людей без особого интереса. Сейчас ее занимали только извозчики, которые отчего-то не спешили показываться на глаза. Но при всем том мысли, освободившись от оков недавнего страха, невольно возвращались к началу сегодняшнего, или теперь уже вчерашнего, дня. «Как же так получилось?» – спрашивала она себя, и не находя ответа, монотонно прокручивала в памяти недавние события.
Утро началось с убийственной новости – Аболешев не ночевал дома. Первые догадки на этот счет у Жекки возникли после девяти часов, когда они обычно сходились за завтраком, но Павел Всеволодович на сей раз не вышел из своей комнаты, а Йоханс с обычной вежливостью предупредил ее, что барин еще спит, и не желает, чтобы его беспокоили. Жекки не имела привычки требовать немедленных объяснений, тем более от камердинера мужа, и, сделав вид, что это ее не касается, прошла в столовую.
Через полчаса она вышла во двор дома, где Аболешевы, наезжая в город, всегда занимали маленький одноэтажный флигель рядом с домом Коробейниковых. Возле ворот заспанный дворник Аким разговаривал с горничной Жекки – Павлиной. Та только что вынесла для чистки ковер из гостиной и несколько диванных подушек, чтобы посушить их на солнышке. Аким, обычно любивший поболтать с женской прислугой, на этот раз был ворчлив и не сдержан.
– Ишь вить, чего удумали, – услышала Жекки, спускаясь по ступенькам крыльца, – шататься невесть, где по ночам. Вить это что получается, ты им тут обязан сперва среди ночи отпереть, чтоб, значит, их милость выпустить, а потом, стало быть, уж под самое утро, впустить обратно. И все этак тишком, а как будить – так без всякого стеснения. А все этот дылда чухонская, камельдинер ихний. В толк не возьму, как только ты, Павка, с этакой нехристью в одном доме сожительствуешь. Вить у него и в понятии-то того нет, что людям тоже спать хочется, что люди тоже человеческий образ имеют. А-а, что там… Сами-то, поди, сейчас дрыхнут, а людям весь день глаз не сомкнувши и воду носить, и дрова рубить, и двор мести. Одно слово, кровопивцы…
Оставаясь незамеченной, Жекки выслушала эту филиппику и почувствовала, как ее сердце захлестнула горькая обида. Не на Акима – дворника она как раз понимала, – а на Аболешева. Он снова ее обманывает. Снова что-то скрывает, снова в его молчании и недомолвках она должна подозревать что-то такое, отчего душа сворачивается в кровоточащий больной сгусток. «Нет, больше этого терпеть нельзя», – решила она тогда же и, проходя мимо вскочившего при ее появлении Акима, поздоровалась с ним приветливее, чем всегда.
В планах Жекки на первую половину пятницы был визит в контору частного банка. После того как Восьмибратов и другие кредиторы, словно сговорившись, дружно отказали ей в отсрочке по платежам, погашение процентов стало для нее мало разрешимой задачей. Но главную угрозу для Никольского представлял заклад в Земельном банке. Она понимала, что невыплата установленных пяти тысяч при нынешних обстоятельствах, сделает положение Никольского почти безнадежным.
Она уже доподлинно выяснила, кто и зачем скупает землю в уезде. Знала, что за этими сомнительными операциями стоит опасный и неприятный ей человек. Знала, что в столкновении с ним и ему подобными людьми, ее шансы на победу ничтожно малы. Иногда ей даже казалось, что надо бросить все и послушать Федыкина. Ей становилось страшно и смертельно тоскливо от внушенной им безнадежности. И в то же время, бездействие не требовало усилий. Следовательно, было самым простым, самым приятным, и как будто бы самым беспроигрышным средством. Но стоило ей хорошенько задуматься, закрыть глаза, и из блеклых потемок ослабевшей души тут же всплывала сверкающая, залитая солнцем аллея медно-багровых кленов, мягко белеющий впереди знакомый фасад с четырьмя обшарпанными колоннами, понурая и бескрайняя даль уже убранных полей. Запах и вкус ее земли застывал под нёбом, точно сладкая оскомина, и очнувшись, она уже не испытывала, ни страха, ни безнадежности.
Чтобы не допустить новой, возможно уже нерасторжимой кабалы, Жекки приготовилась достать деньги и расплатиться со своим главным заимодавцем любым способом. На векселя она махнула рукой. Впрочем, под «любым способом» она подразумевала лишь несколько вариантов мелкого мошенничества и то лишь в том случае, если доступные ей честные средства не дадут результата. Жекки считала себя уже достаточно опытной помещицей. Те или иные уловки в ведении дел представлялись ей неизбежными, как и то, что реальная действительность вообще не оставляла места для идеальных явлений. В какой-то мере она даже привыкла к обману. Знала, что хитрят, выкручиваются и подличают все кругом, а некоторые подрядчики так и вовсе открыто не стесняются в средствах, и, однако же, всякий раз вынужденно прибегая к какой-нибудь маленькой чертовщинке, чувствовала себя виноватой. От мыслей, что она могла вести себя «подло», ее охватывала мучительная неловкость. Как будто с детства усвоенное самоощущение подсказывало, что обвинение в «подлости» стало бы для нее худшим из унижений.
К конторе банка она подъехала в одиннадцатом часу утра. Там ее встретил полный, румяный малый – помощник управляющего. Радушно улыбаясь, он спросил, чем может быть полезен. Жекки вкратце изложила суть своего дела. Румяный малый сообщил, что заем их учреждением может быть предоставлен исключительно под надежное обеспечение, как то: дом, земля, иная собственность, либо под поручительство состоятельного лица.
Для Жекки такой поворот был неожиданным, поскольку требуемая сумма была невелика, и от частного банка она не ждала той жесткости, что звучала в подходе государственного, где, кстати говоря, ей уже отказали. Закладывать усадебный дом – последнее, что оставалось незаложенным, – она не собиралась. Точнее, могла бы решиться на это лишь в самом крайнем случае. Она подавила растерянность и в качестве ответа одарила румяного служащего неопределенной меланхолической улыбкой. Тот вынужден был повторить все пункты условий для займа, но уже без прежней деловитости.
Женский инстинкт подсказывал Жекки, что толстяка можно уломать. Под ее кротким, младенчески наивным взглядом он становился еще румянее. Пухлые губы его подрагивали, голос становился все мягче и неуверенней. Минута-другая, и кредит, не требующий никакого формального обеспечения, был бы у Жекки в кармане. «Ну да, конечно, в известном смысле, мы можем пойти на уступку и предложить вам…». «Очень хорошо, меня это вполне устраивает». Румяный малый, вздохнул, еще немного поколебавшись, достал необходимые бумаги и уже обмакнул перо в чернильницу, чтоб заполнить бланк, как из двери за его спиной показался пожилой прилизанный господин, судя по черным нарукавникам – бухгалтер.
– Сергей Владимирович, – обратился он к румяному помощнику, – прошу извинить, но Федор Федорыч просит вас зайти к нему прямо сейчас.
Румяный извинился, поднявшись из-за стола, и с недовольным видом скрылся за дверью. «Черт, черт, черт…» – только и могла мысленно прокричать Жекки. Момент был упущен. Вернувшись, румяный толстяк, как бы поправляя, отодвинул свой стул подальше от стула, предназначенного клиентам. Уселся и посмотрел на Жекки сухими глазами.
– Вынужден повторить, – сказал он другим голосом, – для выделения займа нам необходимо от вас обеспечение, либо поручительство. – Что ж, – Жекки с видом рассеянной простушки вынула сложенный вдвое лист бумаги, – полагаю, поручительство господина Восьмибратова вас устроит?
Для нее это был жест отчаянья. Душа поминутно уходила в пятки, кровь то и дело приливала к лицу, безыскусно выдавая ее противоестественное волнение. Но румяный малый, очевидно, по-своему оценивал и незатухающий блеск сверкающих серых глаз, и горячечный цвет слегка опущенного заманчивого лица посетительницы. Внимательно ознакомившись с документом, он деловито приступил оформлению бумаг. Жекки вздохнула с чувством каторжанки, отпущенной на свободу.
Но видимо, звезды отвернулись от нее в этот день. Через минуту входная дверь широко распахнулась, и в приемный зал вошли, весело переговариваясь, сначала дородный, пышущий здоровьем, Савелий Яковлевич Восьмибратов, потом – как всегда небрежно-элегантный, посмеивающийся Грег. Вслед за ними, забавно подпрыгивая на кривых ножках, проскользнул еще один невысокого роста господин, смахивающий на обезьяну. Из-под мышки у него высовывался толстый кожаный портфель.
«Похоже, тот самый тип, что вечно крутиться вокруг Грега, – подумала, Жекки. – Два сапога – пара». Им навстречу уже спешил, покинувший по такому случаю свой кабинет, управляющий Федор Федорович. Их встреча была самой дружеской.
Жекки наблюдала за ними, сидя вполоборота перед столом, где вот-вот должен был оформиться ее долгожданный займ, и не помнила себя от дурных предчувствий.
Грег заметил ее сразу, как только вошел. У него, судя по всему, загодя сложилась прямо-таки необъяснимая отвратительная привычка являться там, где почему-либо оказывалась Жекки, и являться всегда некстати. Повстречавшись с ней глазами, он усмехнулся довольно нахально – горячий блеск ее вспыхнувших ненавистью глаз не мог ускользнуть от него и не заразить ответным вниманием. Он немедленно отделился от прочей компании и решительно направился к Жекки.
– Евгения Павловна, вот не ожидал вас здесь увидеть.
– Мне трудно в это поверить, господин Грег. Еще немного, и я начну думать, что вы меня преследуете. – Жекки старалась говорить тем сдержанным и одновременно ласковым голосом, какой она использовала для общения с приказчиками, домашними животными и всеми посторонними мужчинами. Но душа ее была не на месте.
– Я вам надоел, еще не успев хорошенько представиться. Как вы милы, сударыня.
– Пожалуйста, не говорите так громко. Не хочу, чтоб мы помешали работе здешних служащих. – Жекки повернулась к румяному молодцу, который продолжал что-то быстро писать в банковском бланке. Грег, не задумываясь, бросил взгляд в том же направлении. Недолго задержав его на лице помощника банкира, на письменных принадлежностях, разложенных на столе, он, в конце концов, безошибочно остановился на самом опасном для Жекки документе.
– Оформляете займ под поручительство? – развязно спросил он. – Вы позволите? – И не дожидаясь чьего-либо позволения, стянул бумагу с ручательством купца второй гильдии Восьмибратова, удостоверенным его личной подписью.
Румяный помощник, недоумевая, уставился на Грега, но побоялся возмутиться открыто. В это время банкир Федор Федоровича о чем-то оживленно толковал с Восьмибратовым, а Жекки чувствовала, что падает в глубокий черный колодец, об дно которого сейчас размозжит себе голову. Передать свои ощущения в адрес Грега она была не в состоянии. Слишком уж кричащими и отчаянными они были.
– Должен сказать, я завидую вам, Савелий Яковлевич, – сказал Грег, оборачиваясь на голоса у себя за спиной.
– Чему? Да я все одно не поверю, – загудел бас Восьмибратова, – уж больно вы, батюшка, человек достаточный, чтобы чем-нибудь во мне соблазниться.
– Вы покровительствуете хорошеньким женщинам, которые меня не хотят знать. А это, согласитесь, заслуживает зависти.
– Да нешто есть такие женщины? – съехидничал подоспевший банкир.
– Грешно же вам насмехаться над стариком, – опять загудел Восьмибратов. – Да и об чем сыр-бор?
– Я о вашем поручительстве госпоже Аболешевой. Вы лишили меня чести, быть может, оказать схожую услугу, на которую я всегда рад претендовать.
– Какое поручительство? С ума вы что ли посходили, вон, с Федей на пару? Этот мне толкует с утра про какую-то благотворительную кассу, вы про какое-то поручительство.
– А вы взгляните. – Грег протянул Восьмибратову исписанный лист бумаги. Савелий Яковлевич, беспокойно пошарил в карманах, вытащил очки и, нацепив их на большой пористый нос, стал читать.
– Бумага составлена верно, – сказал он, закончив чтение и складывая очки, – да только вы же знаете, батюшка, поручительств-то я давно никому не даю. Зарок такой на себя наложил, грешен. И подпись здесь не моя. Одно слово – бумажка ваша фальшивая.








