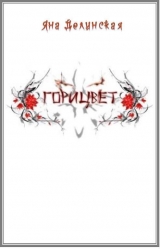
Текст книги "Горицвет (СИ)"
Автор книги: Яна Долевская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Лицо Гиббона застыло с выражением смертельного испуга. Он не мог произнести ни слова.
– Вот видите, – предупредил его Охотник. – Мои люди опросили двенадцать человек из числа его ближних и дальних знакомых, включая тех, с кем он должен был якобы встретиться во время поездки. И ни один, слышите, ни один не смог подтвердить, что виделся с ним в этот день.
– Но постойте… нет, должны же быть какие-нибудь безошибочные приметы, я не знаю… особенности в поведении, отличавшие бы его от остальных? Ведь я ничего не замечал! – вдруг почти закричал Гиббон. Он почувствовал необходимость бороться с накатывавшим на него животным ужасом, ужасом перед тем, что становилось для него очевиднее с каждой минутой, и как утопающий ухватился за соломинку дополнительных, вовсе уже не нужных ему объяснений.
XXIX
– В человеческом обличье ликантропы могут проявлять себя по-разному, – спокойно сказал Охотник. – Это во многом зависит от психологии личности, которая принимает свойства оборотня. В средневековых трактатах, описывающих разнородные проявления в нашем мире нечистой силы, между прочим, всегда находилось место и для обличения оборотней. Кое-что я почерпнул оттуда. Кое-что, из более поздних сочинений, в том числе, наших доморощенных и вполне толковых. Тот же князь Андрей Ратмиров – живое воплощение злого духа, немало помог мне. А кое-что, представьте себе, я уяснил на практике, пока рыскал по здешним лесам, деревням и опустевшим помещичьим усадьбам. К примеру, князь Андрей был человеком мягким и сентиментальным. Заболев ликантропией, он превратился в довольно добродушного оборотня.
– Вы шутите?
– Нет, я хочу немного успокоить вас, любезный Гиббон.
Сказав это, Охотник опять раскашлялся. Соломон Иваныч смотрел на него с нескрываемым волнением. Он уже понимал, что их разговор близиться к развязке, и с тяжелым неотвязным предчувствием ждал ее, и втайне надеялся, что она все-таки не наступит.
– Вам придется поверить мне на слово, – прохрипел Охотник, едва совладав с кашлем. – Иначе мне пришлось бы пересказать вам весь запутанный ход моих расследований и поделиться всеми перипетиями моих умозаключений. Я думаю с вас довольно того, что я убежден – человеческое воплощение Зверя – это Грег. Он прямой и единственный потомок Мышецкого князя. Он мог бы по праву носить княжеский титул. Один из его предков оставил дневник с описанием своей болезни, четко указав на то, что она передается по наследству. В его образе жизни много возможностей для временного и подчас весьма продолжительного исчезновения из поля зрения знакомых ему людей.
Есть свидетельства, что он очень хорошо, неоправданно хорошо для столичного фата и серьезного коммерсанта, знает Каюшинский лес. Все запротоколированные случаи несостоявшихся сделок по продаже на вырубку лесных участков отмечены появлениями какого-то неизвестного лица в обществе кого-либо из участников сделки – продавца или покупателя – как правило, накануне того дня, когда наступала развязка. Почти всегда в местности, где намечалась рубка деревьев или происходило отравление реки, как в случае с фабрикой Восьмибратова, люди видели огромного светлого волка или слышали по ночам волчий вой. Есть несколько внятных показаний свидетелей. С их слов было составлено описание того человека, который навещал в решающий день нерадивых продавцов или несговорчивых покупателей. Оно довольно близко к портрету Грега. Правда, ни один свидетель не узнал его по фотографическим карточкам. Думаю, и для этого факта существует свое объяснение.
Грег родом из этих мест, хорошо их знает, и вместе с тем, его самого здесь отнюдь не считают за земляка, и он почти ни с кем из местных не поддерживает знакомства. Это помогает ему оставаться в нужный момент неузнанным. Помогает скрываться, когда это необходимо. У меня есть и более веские улики против него. Но, повторяю, сейчас для подробностей нет времени. Если хотите, когда-нибудь при благоприятном повороте событий я расскажу вам о них. А пока…
– Да, да конечно, – поспешил поддержать его Гиббон. На нем не было лица. – Я и не думал сомневаться в вашей осведомленности. Мне только хотелось узнать побольше сведений, чтобы, как говорится, самому лучше подготовиться для нашего дела.
Охотник пристально посмотрел на него, но ничего не ответил. Он вдруг насторожился, посмотрел на малиновую портьеру, за которой была скрыта дверь в смежную комнату, и с минуту прислушивался. Затем встал из-за стола, быстро подошел к портьере и резким движением раздвинул ее. За портьерой открылась незапертая дверь, слегка скрипнувшая на старых петлях. Заглянув за нее, Охотник плотно затворил ее за собой и вернулся на место.
– Показалось, – сказал он. – Велел же этим болванам проверить, чтоб никого не было в соседних кабинетах. А тут как будто шорох и что-то вроде скрипа половиц, знаете, этак, когда человек на одном месте переступает с ноги на ногу. Вы не слышали?
– Нет, – сказал Гиббон вполне уверенно. – Это, наверное, дверь приоткрылась и скрипнула.
– Да, наверное, – согласился Охотник. – Нервы вконец распустились, днем грежу наяву, а по ночам снится всякая чушь. Он тихонько покашлял, снова встав со своего места и медленно пройдясь по комнате. Возле только что запертой им двери он остановился и неслышно постоял около нее какое-то время.
– Да всякая чепуха, – громко повторил он, возвращаясь к столу. – Зверя нужно остановить, и вы…
– Если вы скажете, что я должен следить за ним, – в порыве отчаянья воскликнул Гиббон, – или препятствовать его поездкам, то, поверьте, это… это очень опасно.
– Да, если вы станете ему мешать, он убьет вас, – хладнокровно заметил Охотник. – На ваше счастье такой необходимости больше нет. Мои многолетние труды не прошли даром. Одиннадцать лет – не шутка. Так что готов вас обрадовать. Я знаю верный способ уничтожить ликантропа, кто бы им ни был. Раз и навсегда. – Охотник снова вытащил из внутреннего кармана маленькую книжечку в сафьяновом переплете. – Вот и мой излюбленный автор, князь Андрей Ратмиров, в своем замечательном сочинении оставил несколько туманные, но оттого не менее ценные, указания на этот способ. Вот послушайте:
«…однако раз в году, всякое второе полнолуние осени меня не защитят никакие снадобья. Будучи предупрежден о том, я заранее готовлюсь к сему испытанию. В упомянутую ночь преображение в волка свершается всегда, вопреки воле моего человеческого существа, вопреки воздействию благодетельных внешних сил, наперекор старинным заклятьям, имеющим надо мной власть в другое время. В эту ночь обращение столь же неотвратимо, сколь и опасно. Я уже представляю себе эту грядущую ночь.
Луна…даже, скрытая за непроницаемыми тучами, позовет меня. Я забуду все: чем был, что делал, как жил. Меня поведет гибельная и сладкая мгла. Отданный ее власти, как будто брошенный в стремнину бурной реки, я потеку вслед за ней туда, где хранится исток моей неодолимой боли и моей бесконечной радости. Я должен буду вновь увидеть это место, почувствовать идущую от него грозную силу, дабы наполниться ей. Моя земля, самое бесценное мое достояние, снова позволит упиться ее влажным дыханием, вобрать ее жалящий трепет. Как я хочу этого, и как невыразимо страшусь. Ежели бы я мог передать на словах, пожирающее меня смятение, ежели бы кто-то другой мог разделить чувство моей обреченности и понять, что стало мне так же внятно, как биение остывающего человеческого сердца: полюбив, мы умираем…
В ночь полной луны я обрету неизмеримое могущество и узнаю страх беззащитности. Обернувшись волком, я не буду им, мое человеческое сознание не покинет меня, и если я не вернусь к заветному камню, то останусь в обличье неразумного зверя навек».
– Понимаете? – спросил Охотник, закончив читать.
– Он обязательно превратиться в эту ночь, – попробовал угадать Гиббон, – и этим можно воспользоваться.
– Самое замечательное, любезный Гиббон, состоит не в том, что ликантроп должен этой ночью обязательно обратиться в волка, а то, что он обязан прийти для этого в определенное место, и к тому же месту вернуться, чтобы стать человеком. Там, и только там он делается совершенно беспомощным, потому что это место своего рода его храм. Он поклоняется ему только один раз в году. И этот-то храм мы с вами должны разрушить.
– Вы узнали, где это место?
– Я искал его без малого шесть лет. Я грезил о нем наподобие глупо влюбленного мальчишки. Я представлял себе его во всех подробностях, еще не зная, что оно. Я искал. Если б вы знали, как страстно, исступленно я искал его. Это место стало для меня средоточием скорби и блаженства, то есть тем же, чем оно было для Зверя. Занятно, правда? Но теперь, когда я нашел его, Зверь у меня в руках. У нас с вами, дорогой Гиббон.
Охотник внезапно замолк, встал и прислушался.
– Вы опять ничего не слышали? – спросил он Гиббона и внимательно всмотрелся в его лицо.
– Нет, – опешил тот.
Охотник тихо прошелся по кабинету, задержавшись возле запертой двери, прикрытой портьерой, и, почувствовав приближение нового приступа кашля, стремительно отошел в дальний, слабо освещенный угол. Он кашлял долго, с надрывом, не в силах остановиться. Когда он вернулся к столу, Гиббон увидел в правом углу его рта свежую каплю крови. Скомканный платок, сжатый в руке Охотника, был темен.
– Мне пора, – сказал он хриплым голосом. – Идемте, договорим по дороге.
Соломон Иваныч послушно взялся за шляпу. Он уже понимал, что ни отвертеться, ни спастись ему не удастся. Ему хотелось только одного – чтобы сегодняшний вечер, перешедший в ночь, поскорее закончился.
XXX
От реки веяло холодом, а воздух, пропитанный свежестью, казался по-прежнему теплым и нежным, как будто вслед за сентябрем внезапно наступил сочно-зеленый июнь. На западе ночная тьма разлилась кругом, объединив в непроницаемое марево небо, речной простор и далекую кромку берега. На востоке, и выше, в разверзнутой бездне севера словно бы проступали неясные световые блики – предвестники грядущего утра. Все кругом по-прежнему было словно опутано легчайшей полупрозрачной пеленой не то тумана, поднимающегося от земли, не то сизой мглы, льющейся с неба. Тусклые всполохи звезд не проникали сквозь этот легкий покров. Луна, едва народившись, оставалась невидимой. И если бы не многочисленные огни веселых заведений, разбросанных по всей Вилке, темнота этой ночи казалась бы беспредельной.
Прежний маслянистый свет из окон трактира плескался в черной воде. Одинокий фонарь, подвешенный на высокой мачте, выхватывал почерневшие растрескавшиеся доски моста, брошенные на них окурки, раздавленную спичечную коробку, полукруг слегка покосившихся деревянных перил. Длинные гулкие промежутки тишины лишь изредка прерывались тихими всплесками волн, короткими взрывами смеха или звуками протяжной мелодии, долетающими из смутного далека.
Гиббон с облегчением вдохнул в себя теплый осенний воздух. Ему страшно хотелось курить, но он боялся просить разрешения у Охотника, настолько тот был угрюм после того, как они вышли из трактира и остановились на том же самом мосту, где встретились накануне.
– Осталось двенадцать дней, – словно через силу проговорил Охотник.
– Вы уезжаете? – так же с трудом поинтересовался Гиббон.
– Меня вызвали в Петербург. Но не волнуйтесь, я вернусь к назначенному сроку. Если же нет, то можете смело заказывать по мне отходную. – Он помедлил, точно раздумывая, следует ли сказать еще что-то, но, видимо, не решился и лишь удостоверился на всякий случай:
– Вы помните, что должны делать?
Соломон Иваныч безмолвно кивнул. Он прекрасно понял, что угодил в капкан, из которого у него был только один выход – полная безропотная покорность воле Охотника. Поэтому все последние четверть часа он только поддакивал, кивал и со всем соглашался. «Зачем мы все еще стоим здесь?» – недоумевал он про себя. – «Ведь все и так ясно. Скорей бы уж…»
– А вам не хочется спросить меня, – вдруг резко обернувшись к Гиббону и уставившись ему прямо в глаза, спросил Охотник – почему я его преследую?
– Что же тут удивительного, – пожал плечами Соломон Иваныч, – вы власть, а тут такое творится. Кому же, как не вам?
– Да, да, конечно, – усмехнулся Охотник. – Но тут несколько иное. Вам не кажется?
Гиббон посмотрел в черные щели его лисьих глаз, бросающих на него злобные искры, и подумал, что его высокоблагородию не терпится что-то сказать, что-то этакое, чего и нет никакой нужды говорить, а вот приспичило. И его равнодушная покорность вдруг дала небольшую брешь. Сквозь нее прихлынула томительная волна любопытства и новой смутной надежды.
– Сдается мне, что пребывание чего-то такого, – сказал он с видом полнейшей убежденности, – чего-то, противного порядку вещей, да еще без ведома начальства, должно было вас беспокоить. Хотя бы от лица службы, так сказать. Сами же вы изволили выразиться, что, грешно и подумать, законы империи не действуют. Получается, пахнет государственным преступлением, не хухры-мухры. Ведь так? А потом, я думаю, и одного самолюбия для вас было бы довольно, чтоб все вверх дном перевернуть, лишь бы найти его. – В этом месте речь Соломона Иваныча приобрела довольно игривое направление, но он почему-то не только не повернул ее в прежнее русло, но наоборот, самоуверенно продолжил: – Подумать только, какое-то мохнатое четвероногое, с хвостом, прости господи, осмеливается возомнить себя врагом престола и отечества. Такой бунтовщик, я думаю, похуже идейного бомбиста.
– Если это насмешка, – хрипло отозвался Охотник, – то весьма примитивная. Ее извиняет, пожалуй… как бы это сказать, ограниченность ваших представлений. И, тем не менее, должен предупредить – вы скверно кончите, если будете шутить в таком роде.
Соломон Иваныч затрепетал, носом почуяв угрозу.
– Я вовсе не думал, да у меня и в мыслях не было… – скороговоркой проговорил он, проклиная себя за опрометчивость.
– И полно вам, – сказал Охотник, – вы разумный человек, Гиббон. Не будемте хитрить друг с другом. Я сделал вам предупреждение, желая добра, поскольку знаю, как на деле работает сыскное отделение. Из-за пары неосторожных слов вы можете моментально из своего человека превратиться в неблагонадежного, разжалованного шпика. И никто тогда за вашу жизнь не даст и полушки. Уголовные, в отличие от нашего брата, узнав провокатора, церемониться не станут.
– Да я же не хотел, не хотел, – в отчаянии закричал Гиббон. – Я же верой и правдой, столько лет… Помилуйте, я же уже согласился, мы же с вами договорились.
– Вот именно, – отозвался Охотник, – потому и предупреждаю. Мне надо, чтоб вы прожили еще, по крайней мере, полторы недели, до известного вам дня. А там, если вам угодно, пускайтесь в критику властей и вообще, делайте, что вам заблагорассудится. Вы сполна получите всю причитающуюся сумму и освободитесь от моей нудной опеки, как я и обещал. Не сомневайтесь. Кстати, аванс вам перечислят завтра же. Что касается вашего замечания насчет моего, якобы ущемленного самолюбия, профессионального или иного долга, то тут вы глубоко ошибаетесь.
Охотник посмотрел на удивленного Гиббона и, покашливая, отошел на противоположную сторону моста. Откинувшись спиной на перила и глядя прямо на растерянную фигурку Соломона Иваныча, оставшегося стоять неподвижно, он продолжил с какой-то странной ленивой небрежностью.
– Я обманывал вас. Мне давно нет дела до пользы отечества, до государя и вообще… Все это вздор и бред в духе покойного графа Уварова. Я видел, каково построенное ими здание изнутри, и пришел к выводу, что не стану мешать его падению, даже если при обрушении оно раздавит меня каким-нибудь своим обломком. Тем самым – самовластья, на котором кто-то что-то напишет. Я решил это давно, еще до чахотки, не подумайте. То есть, еще когда мне было что терять. Когда моя жизнь еще не была вовсе кончена. И даже до того, как я предался своему безумию. Задолго до того я не хотел притворяться, по крайней мере, перед самим собой, ну, а сейчас и подавно. Так что ваша ирония, любезный Гиббон, пропала даром.
Соломон Иваныч направил на Охотника исполненный сомнения взгляд, однако не решился сказать что-либо, помня свою недавнюю оплошность и подозревая какие-нибудь новые каверзы в душе патрона.
– Но я не собираюсь ни укорять, ни увещевать вас, – продолжил, как ни в чем не бывало Охотник. – И больше того сознаюсь – бремя общественного служения, как принято говорить в наших радикальных кругах, вовсе не давлело надо мной, когда я искал Зверя.
– Но разве не вы говорили, что он присвоил себе право местного царька. Стало быть, отнимает власть у ваших губернских. Стало быть, посягает, уж не знаю осознанно или нет, на то, что язык не поворачивается произнести. Шутка ли, околдовывает мужиков. А эти примеры с убийствами?
– Все вздор, – усмехнувшись, сказал Охотник. – То есть, разумеется, все примеры и вообще все, что вы слышали, касательно нашего дела, выверенная и подтвержденная фактами истина. Я говорю о том вздоре, который вы, может быть, не раз слышали от меня прежде. Да вы, я думаю, вообразили меня этаким цепным псом при нашем общем хозяине. Этаким Пуришкевичем или чем-нибудь похуже. Так вот, запомните, Гиббон, у меня нет хозяина. Здешним властям я не слуга, не сторож. Пусть их сами разбираются со своими врагами, уж коли сумели расплодить их. Они сидят в доме, который вот-вот рухнет. Революционеры бьют по нему снаружи, а эти подтачивают изнутри. Я и сам сижу в этом доме. Сам подтачиваю, хотя ловил всю жизнь исключительно уголовных. И между тем, вдоволь насмотрелся на всех этих жирных сонных червей, облепивших уже обглоданный остов. Они жадны, глупы и безжалостны. Прислуживать им я не стану. Пусть уж дом рухнет без меня. Но это все опять не то, не совсем то, дорогой Гиббон. Вы нашли для меня слишком незначительную причину, чтоб я мог ею увлечься. Поищите что-нибудь еще.
Охотник медленно вернулся на ту сторону моста, где стоял ошарашенный и сбитый с толку Соломон Иваныч, и как-то снисходительно скривил губы.
– А впрочем, я подскажу вам, – произнес он, встав чуть поодаль и снова склонившись над перилами моста. – Об этом трудно, и может быть даже нельзя говорить, но, знаете, мне кажется, если я промолчу сейчас, то умру нынче же от удара. Считайте это моей прихотью, суеверием или чем хотите, только поверьте, что это так.
Гиббон не находился даже с дежурной репликой, дабы поддержать оскудевший интерес к рассуждениям Охотника. Чем дольше продолжалась их встреча, тем более тяжкий груз повисал у него на сердце. Минутами ему казалось, что он сам вот-вот лишиться сознания и умрет на месте, так отчаянно замирало у него все внутри. А теперь еще ужасно хотелось курить. Занятый своими переживаниями, он не заметил, как рука сама непроизвольно вытянула из кармана коробку с папиросами – Соломон Иваныч курил самые дешевые, – и нервно запихнула в рот одну, с надорванным кончиком. Он опомнился только, когда почувствовал знакомый разъедающий запах табачного дыма, который был известен среди его знакомых под прозванием «мухобой».
Испугавшись собственной смелости, он после первой же затяжки собрался выбросить недокуренную папиросу, но Охотник извиняющим жестом остановил его. За это Гиббон исполнился самой почтительной благодарности к патрону: «Ну да, ему уже все равно, а мне – необходимость».
Охотник, еще ниже склонился над мостом и стал смотреть в темноту.
XXXI
– Вы не замечали, любезный Гиббон, – сказал он, – что болезненная мода, распространившись в нашем обществе, очень быстро уничтожила в людях понятие нормы, границы, вообще, здоровья. Вот вы, на мой взгляд, совершенно справедливо упомянули эту нашу современную склонность к душевным расстройствам, вспомнили декаданс. Это очень верное определение. В нем – правда времени, его увядающий, так сказать, скорбный дух. Но мне, впрочем, интересно не столько всеобщее, сколько частное. Меня занимают отдельные разновидности вырождения. Ведь гниение одних организмов очень часто способствует росту и размножению других, почитайте естественную историю. И от того, кем сделала вас болезнь, трупным червем или куском мертвой плоти, которой питается червь, в конечном счете, зависит ваша земная участь. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не собираюсь указывать лично вам, каково ваше место в обществе. Вы лучше меня решите, что больше похоже на правду, тем более, не мы с вами, дорогой Гиббон, выбираем. Болезнь опережает нас. И она есть сумма недугов множества многих. К примеру, моя, эта моя болезнь… – слова Охотника снова прервал мучительный кашель. – Нет, нет, не то, – прохрипел он, отдышавшись и как бы невольно оправдываясь. – Другая… Та, что отняла у меня все. Белое, безликое, неподвижное. Непременно белое. Белое – квинтэссенция пустоты, отображение ее неизбывности. Слушайте, и молчите, я расскажу вам, откуда она берется.
«Бредит он что ли? – со скукой подумал Соломон Иванович, принуждая себя слушать, – Эк ведь разобрало».
– Я вижу одно и то же, – говорил Охотник, – дурной, незаживающий сон. Белый слепящий снег, изрытый тенями. Частые, покрытые снежной коркой стволы деревьев, убегающие от меня с двух сторон. Я бегу, задыхаясь, почти выбиваясь из сил по лыжне, петляющей через лес. Снег хрустит морозным режущим хрустом. Изо рта вырывается пар. Мороз больно жалит. Но мне жарко. Пот стекает мне на глаза из-под меховой шапки. Я бегу, я рвусь по рыхлым следам, проложенным до меня с одержимостью человека, поставившего на карту свою жизнь. Я только что слышал крик, душераздирающий, нечеловеческий. Он стоит в моих ушах. Он заполонил все мое естество. Сейчас я и этот крик – почти одно. Я узнал в нем близкий мне голос. Я узнал бы его из тысячи. И поэтому я бегу на крик. Я не успеваю подумать о чем-то кроме него, не успеваю что-то представить. Желание успеть туда – пожалуй, все, что мне осталось в эти несколько последних минут. Да еще – смертельная нехватка воздуха. Я не могу дышать. Я задыхаюсь.
И вот, вижу – следы обломились. Их перечеркнуло чье-то упавшее тело. Оно неподвижно и размыто. Оно все размыто, как размываются краски, нанесенные на влажный лист бумаги. Красная кровь, разлитая в снегу. Но я приблизился, вгляделся и узнал. Хотя нет, я узнал ее еще раньше, когда увидел кровь. Это была Маша, моя жена.
Большой светло-серый волк стоял в двух шагах от нее и смотрел мне в глаза. Никогда мне не забыть этот взгляд. Он сказал: я убил ее. Я слышал это, клянусь. Эти слова звучали во мне, как будто бы они были сказаны. Я понял все. А Зверь ждал моего ответа. Он будто подталкивал меня сквитаться с ним сразу, как будто знал, что потом это будет уже невозможно. Он ждал, пока я приду, чтобы сразиться со мной. Мысль эта также ясно звучала в моем сознании, как его первое признание. И это вывело меня из себя.
Я взревел так, что снежная пыль опала с ближних веток, и набросился на него, не помня себя от ненависти. Я хотел задушить его голыми руками. Я разжал ему челюсти, засунув между них правую руку. Клыки как лезвия пропороли рукав полушубка. Но я стерпел. Я изо всей силы прижимал его голову другой рукой к земле, стараясь пережать ему горло и всей тяжестью давил ему на загривок. Мы несколько раз перевернулись в снегу, сцепившись насмерть. Я сдавил ему шею. Зверь захрипел.
Если бы у меня достало духу еще на минуту, то, может быть… Но я выдохся. Меня победила боль, и я отступил первым. Все было кончено. Зверь дал мне возможность. А я… я сам упустил ее. Он до кости перегрыз мне руку. Она вывалилась из его раздвинутых зубов и кровавым обрубком повисла вдоль тела. Бешеный удар сбил меня в снег, и тотчас две железные лапы, прорвав полушубок, надавили мне грудь. Зверь был очень тяжел. Я чувствовал на лице его рвущееся дыхание, видел у самых глаз его оскал. Без слов я просил о смерти. И он опять понял меня. Это чудовище читало мысли. Оно могло бы прикончить меня сразу, но знало, что убить можно и по-другому. Зверь отпрыгнул в сторону, постоял немного и быстро ушел. А я остался лежать на снегу. Рядом, в крови коченел ее труп, и я сознавал, что уже не живу, что больше не буду жить.
Потом видение обыкновенно исчезает и все заполняет пустота. Глухая, тупая, неотступная. Белая, как снег.
Охотник выпрямился и бегло взглянул на ошеломленного Гиббона. Кривая, характерная ухмылка, скользнула по его тонким губам.
– Да, дорогой Гиббон, – сказал он, снова обращаясь к темноте, мерно текущей между пролетами моста, – я очень хорошо понимаю вас, человека, который чувствует себя ограбленным. Знайте же, что и я всю жизнь плачу по чужим счетам.
Зверь мстил вовсе не мне, когда убил Машу, а ее отцу, страстному охотнику, перестрелявшему незадолго перед тем целую волчью семью – самца, его волчиху и пятерых волчат. Мой тесть души не чаял в дочке. Новая шубка из волчьего меха так подошла бы к ее серым глазам. И Зверь, я думаю, избрал для него ту же меру расплаты, что и для меня.
В том, что это произошло, не было случайности. Впервые я услышал про некую фантастическую тварь, обитающую в Каюшинском лесу, именно от тестя. И он же намекнул на связь Зверя с родом Ратмировых. Помню, он говорил что-то полушутя, дескать, их сиятельства давно бедокурят, и сам, помниться, ох, как мечтал повстречаться один на один с этим загадочным монстром. Я ему не верил, смеялся, пока чужая мечта не воплотилась на моих глазах с самым зловещим правдоподобием. Увидев раз Зверя, почувствовав его вблизи, нельзя усомниться в том, кто он такой. Так вот, старик зачах очень скоро после похорон Маши, а я все эти прошедшие одиннадцать лет послушно отбываю за него наказание.
Знал ли Зверь, чем была для меня Маша? Уверен, что знал. Чудовище это потому и всесильно, что обладает проницательностью и умом, перед которыми бессильны люди. Оно как никто знает, что такое человеческая любовь и что такое человек вообще. Оно осторожно и редко прибегает к убийствам. Я почти уверен, что Маша была единственной его жертвой, убитой открыто. Впрочем, страстные охотники как-то незаметно перевелись в наших краях, и, вполне возможно – у него просто не возникало больше повода для наглядной казни.
– Значит, вы все эти одиннадцать лет не могли ее забыть… вашу жену? – осторожно спросил Соломон Иваныч, впервые сочувственно посмотрев на Охотника. Охотник передернул плечами, и устремил на Гиббона колючий взгляд.
– Неужели вы полагаете, что я так примитивен? – раздраженно спросил он. – Конечно, я ее помню, и картина ее смерти, думаю, отравила бы жизнь любому человеку, окажись он на моем месте. Но посмотрите, разве я похож на человека, способного любить? – сказав это, Охотник негромко засмеялся. Кашель как обычно последовал за приливом его сумбурного веселья. – И правда, это было бы смешно, – продолжил он, выровняв дыхание. – Смешно. Если бы я потратил столько времени на поиски Зверя только потому, что хотел отомстить. Хотя согласитесь, мне было за что мстить. Но нет, любезный мой, нет. Недолго нас покойницы тревожат… Все не так просто. – Охотник снова передохнул, и из его лисьих глаз выплеснулся мрачный пламень. – Зверь не обыкновенный враг, победой над которым я мог бы изжить свою ненависть. Чем больше я его узнавал, тем вернее представлялась догадка – он в обеих своих ипостасях – волчьей и человеческой – проявление сущности иного нездешнего мира. С помощью ликантропии эта сущность, видимо, овладевает человеческим сознанием настолько, что видоизменяет его безвозвратно. Человек перестает быть собой. Он превращается в действительное чудовище, не только в смысле физической формы, но и по наполнению, по его представлениям о мире, о добре и зле, о значении другой жизни вообще. Он делается чем-то таким, чего не вбирает наше понимание. И поэтому он угрожает всем нам, дорогой Гиббон. Как представители рода людского мы обязаны противостать ему и извергнуть из нашей жизни, с нашей земли, просто потому что мы с вами люди. Быть может, не самые достойные, не те, кто, конечно, в тысячу раз больше нас с вами заслуживают чести представлять в этой борьбе человечество. Но так сложилось, что уничтожить Зверя придется именно нам.
Охотник замолчал. Теперь Гиббон смотрел на него с прежней суровой почтительностью и даже с чувством собственной возросшего значения. Эта перемена во взгляде Соломона Иваныча, вероятно, совершенно удовлетворила Охотника. Он посмотрел куда-то в направлении берегового подъема, в который упирался мост, и тихо свистнул. Спустя мгновенье в ответ ему раздался точно такой же свист.
– Мой человек ждет меня. Надо ехать, – сказал Охотник, протягивая Гиббону руку. – Помните все, о чем мы с вами договорились. Если вам придется действовать одному, будьте предельно точны в каждом шаге. Малейшая оплошность вас погубит. Двадцать тысяч вам перечислят только при предъявлении верных доказательств, о чем вам придется позаботиться заранее. Да, вы, конечно, понимаете, что сообщать что-либо из услышанного здесь третьему лицу для вас же небезопасно.
– Не сомневайтесь. Я себе не враг.
– Ну, прощайте.
Охотник быстро прошел по мосту, с заметным усилием взбежал по деревянному настилу и, метнувшись, скрылся в темноте. Проводив его взглядом, Соломон Иванович медленно направился обратно в трактир. Его неудержимо, почти до физической боли, потянуло к людям, в понятную, пусть и затасканную и грязноватую, но зато привычную, обжитую среду.








