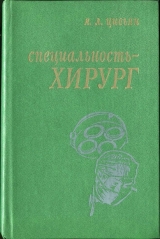
Текст книги "Специальность – хирург"
Автор книги: Яков Цивьян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)

Яков Леонтьевич Цивьян
Специальность – хирург
ОТ АВТОРА
Профессия врача постоянно сталкивает меня с людьми, судьбы которых внезапно, вдруг меняются. Неискушенный глаз не сразу увидит эту перемену, да и сам больной подчас долго еще не подозревает о случившемся. Внешне ничто не изменилось. Все выглядит так же, как и прежде. А в действительности для больного человека уже все стало иным.
Начинается новый отсчет времени. Сбился налаженный, привычный ритм жизни. В судьбу человека вошла, нет – ворвалась болезнь! Безжалостно, жестоко и неумолимо диктует ему свои условия, вершит расправу.
Как важно, чтобы в это трудное для человека время рядом оказался толковый, знающий и могущий, добрый и сердечный врач. Только он, врач, вооруженный знаниями и могуществом современной медицинской науки, может помочь попавшему в беду человеку. Только он может вернуть ему утраченное благополучие.
Может, но не всегда… Пока еще не всегда.
Моей специальности – вертебрологии, моим пациентам и посвящено дальнейшее повествование.
Несколько слов о специальности.
Я врач-хирург, работающий в области костно-суставной хирургии, которая в медицинской науке называется ортопедией и травматологией. Я лечу заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата и органов других систем, связанных с костями, суставами, мышцами. В совсем недалеком прошлом все сказанное вполне определяло суть моей специальности и отражало ее содержание. Сегодня такое суждение представляется мне весьма общим.
Дело в том, что в современной ортопедии и травматологии, которая сравнительно недавно выделилась из общей хирургии и считалась, да и сейчас еще частично считается, небольшим, «узким» разделом хирургии, выделены новые большие разделы. Таким недавно родившимся, «молодым», разделом стала вертебрология. И, видимо, столь она важна, трудна и значима, что ее относят не просто к новому разделу ортопедии и травматологии и даже не к новому разделу хирургии, а к новому разделу медицинской науки!
Вертебрологией я и занимаюсь. Повседневно уже в течение двадцати пяти лет. Каждый день, а довольно часто и по ночам.
Вертебрология – это наука о болезнях и повреждениях позвоночника, методах их лечения и предупреждения, о поисках и разработках новых, более эффективных способов лечения и познания сути этих болезней методами моделирования, эксперимента и т. п. Если быть педантом и постараться точно перевести название на русский язык, то оно будет звучать как «учение о позвонке», так как происходит от двух слов: латинского «вертебра» и греческого «логос», что значит «позвонок» и «учение».
О вертебрологии знают мало. Написано много книг о сердечной хирургии, книг серьезных, научных, популярных и даже художественных. Я говорю о сердечной хирургии потому, что она тоже молода, крайне трудна и, я бы сказал, овеяна романтикой, на ней – ореол героизма нечеловечески стойкого хирурга, фанатично преданного своей специальности, своим пациентам, своей работе.
Моя специальность тоже трудна. И я не сомневаюсь в том, что когда она станет столь же известной неспециалистам, как хирургия сердечная, то, может быть, в еще большей степени будет овеяна романтикой. Этому есть причины.
Разве не чудо, когда, «сложенный» болезнью вдвое, человек вдруг становится прямым? Исчезает безобразный горб. Человек больше не ощущает на себе сочувственных взглядов прохожих!
Любая хирургическая специальность весьма ответственна.
В этом спору нет! Но если бы было дозволено выделять в хирургии более ответственные и менее ответственные специальности, то я бы сказал, что вертебрология еще более ответственна, чем сердечная хирургия. Наверно, такое мое утверждение воспринимается неискушенными людьми как парадокс. Но это действительно так! И вот почему.
Операции на сердце производят тогда, когда болезнь ставит человека, страдающего ею (или в недалеком будущем поставит), на грань смерти. Операции на сердце осуществляются по жизненным показаниям – не делать их нельзя. У больного и у врача выбора нет. Операция в этом случае – единственный шанс сохранить или продлить больному жизнь. Это обстоятельство оправдывает предпринимаемое оперативное вмешательство при любом исходе, даже при самом трагическом.
При операциях на позвоночнике все по-иному. При очень многих заболеваниях и повреждениях позвоночника пациенту гибель не грозит. По крайней мере – сию минуту, сейчас! Он может жить многие годы, а при целом ряде заболеваний – до глубокой старости. Другое дело – как жить…
Хирургический риск при операциях на позвоночнике крайне высок, а операции очень часто осуществляются не по жизненным показаниям.
Теперь о моих пациентах.
Хотя вертебрология и новый раздел медицинской науки, это вовсе не значит, что болезни позвоночника появились недавно. Они существуют столько, сколько существует человечество. У целого ряда мумий, найденных в захоронениях далекого прошлого, рентгеновскими методами выявлены следы болезней и повреждений позвоночника.
Врачи глубокой древности, в том числе и великий Гиппократ, знали многие болезни позвоночника и лечили их. С тех пор изменилось многое. Вырос и увеличился объем наших знаний о позвоночнике, его норме и патологии, его болезнях. Медицинская наука и хирургия шагнули вперед, получили новые возможности…
Врач лучше всего распознает те болезни, которые он лучше знает. Это старая истина. Так вот, накопленные знания о позвоночнике, его болезнях и повреждениях позволили современному врачу-вертебрологу четко дифференцировать те болезни, которые ранее объединялись в общие формы и лечились одинаково. Оказалось, что среди очень похожих по клиническому течению заболеваний, даже рентгенологически почти не отличающихся друг от друга, имеются самые разные, требующие совершенно различного лечения. Это знание привело к появлению новых, высоко эффективных методов и способов лечения, позволило весьма существенно улучшить лечебный процесс и, более того, лечить эффективно те заболевания, которые в недалеком прошлом казались неизлечимыми.
…В июне 1983 года в Москве проходил X Европейский Конгресс ревматологов, на котором я имел честь представлять отечественную вертебрологию. Завершая свой доклад об оперативном лечении искривлений позвоночника при болезнях Бехтерева, я пригласил на трибуну двух молодых, улыбающихся, стройных, красивых и очень дорогих мне Веру Т. и Олега С., моих бывших пациентов, жителей Москвы, которых в прошлом я оперировал по поводу грубых бехтеревских горбов. И какую радость и счастье испытал я, когда аудитория встретила их аплодисментами.
Я рассказываю в книге о том, как сложилась жизнь моих пациентов, о их заболеваниях, о современных возможностях моей профессии в лечении этих тяжелых и трудных недугов.
И еще – о взаимоотношениях врача и пациента. Мои пациенты, как правило, лежат в клинике долго. Таков характер их болезней. Длительное общение невольно вызывает у врача чувство привязанности к ним. Они становятся дорогими и близкими людьми, – и чем тяжелее их болезнь, чем труднее «достаются» врачу, тем дороже. Чтобы «уберечь свое сердце», не оказаться в плену у него, врач-хирург должен своевременно не перейти границ разума и чувств, «воздвигнуть спасительную стену» между собой и очень дорогим ему человеком – своим пациентом. Иначе врач не сможет должным образом помочь ему!
Еще мне хочется подчеркнуть, как важно и ответственно слово врача при общении с больными. Как необходимо обдумать каждое слово, прежде чем произнести его. Ведь порой от одного слова зависит судьба человека.
И об этом тоже моя книга.

МОЯ РАБОТА
ПУТЬ В КЛИНИКУ
Окончив с отличием среднюю школу, я направил свои документы в Томский политехнический институт, куда и был зачислен. Однако вскоре, поддавшись уговорам близких людей, я переменил свои намерения, решив, что профессия инженера не лучше профессии врача, и утром вместо вокзала отправился на прием к ректору Новосибирского медицинского института доценту Григорию Терентьевичу Шикову и попросил зачислить меня студентом первого курса. Так я сделал свой первый шаг на долгом пути врача-хирурга. На основании сказанного можно судить о том, какими «важными, серьезными и принципиальными» мотивами руководствовался я при выборе профессии…
Учась в институте, я не проявлял каких-либо склонностей к определенной специальности. Просто учился, спокойно и ровно, не отдавая предпочтения чему-либо, не посещая кружков, не бегая в клиники и на дежурства, ничем особенно не увлекаясь. Много читал, особенно художественную литературу.
Со студенческих лет мне запомнился профессор биологии Николай Михайлович Власенко. Глубина знаний, эрудиция, манеры и дар оратора привлекали нас. Он был строг и требователен. Эта требовательность была вызвана большой любовью к своей специальности и стремлением научить нас. И сейчас профессор Власенко полон интереса к жизни. Он увлекается искусством. При встречах с ним, которые доставляют мне радость, мы вспоминаем его молодость и мои студенческие годы, совместные баталии в волейбол…
В операционную я попал впервые на третьем курсе.
Помню свет ламп, блеск никеля, белизну стен, людей в халатах и масках, распростертое на операционном столе обнаженное тело больного и запахи. Запахи стерильного белья, йода, эфира, специфические запахи операционной, которые сопутствуют мне столько лет и стали неотъемлемыми и дорогими.
Я помню обращенные ко мне слова хирурга Юрия Владимировича Молчанова. Он сказал, что будет оперировать больную с острым аппендицитом и сейчас приступит к местному обезболиванию. Он взял шприц, повернул его иглой кверху, чтобы выпустить пузырьки воздуха… Больше ничего не помню. Очнулся я в коридоре на кушетке.
Так произошло мое первое знакомство с хирургией.
С тех пор на протяжении целого года я не заходил в операционную. При воспоминании о ней я испытывал подступавшую к горлу тошноту, у меня начинала кружиться голова… В конце четвертого курса я вновь попал в операционную. Без каких-либо отрицательных эмоций и переживаний я пробыл несколько часов у операционного стола, наблюдая за действиями хирурга. Так я адаптировался к обстановке операционной.
Первоначально я не испытывал увлечения хирургией. Может быть, это объясняется тем, что во время моего обучения кафедру общей хирургии возглавлял, на мой взгляд, случайный человек – профессор П., до этого занимавшийся нейрохирургией и никогда ранее не преподававший студентам. Я до сих пор помню, как он стоял на кафедре и, уткнувшись в учебник по общей хирургии, монотонно читал страницу за страницей. Ведущий же хирург того времени, известный ученый академик Владимир Михайлович Мыш вел кафедру хирургии в Институте усовершенствования врачей и студентам не преподавал. Он был очень занят лечебной, консультативной и общественной работой, студенты считали счастьем увидеть его на операции или на обходе больных. Позже, уже будучи молодым врачом, я имел возможность встречаться с этим великолепным хирургом. В частности, я был слушателем и последней в его жизни лекции, посвященной столетию общего наркоза.
На старших курсах факультетскую хирургию нам читал доцент Михаил Дементьевич Пономарев. Глубокие по содержанию, прекрасные по форме изложения, интересные и поучительные лекции его я с большим удовольствием посещал и слушал. Нас притягивал ореол блестящего, «всемогущего» хирурга, который окружал его имя. Это был первый в моей жизни человек, который привлек мое внимание к хирургии.
Несмотря на то, что я все еще не был увлечен хирургией, по окончании института как-то само собой решилось, что я буду хирургом. В то время большинство молодых врачей-мужчин стремились в хирургию – наиболее трудную, ответственную и эффективную врачебную специальность. В какой-то степени это можно объяснить военным временем, большой потребностью во врачах-хирургах.
Я был направлен в хирургическое отделение Кемеровской Рудничной больницы, в которой велась весьма интенсивная, напряженная хирургическая работа.
Это первое в моей жизни хирургическое отделение располагалось в отдельном одноэтажном каменном здании дореволюционной постройки во дворе больницы. До сих пор хорошо помню вход в это здание, большой коридор и справа – двери в палаты. Я хорошо помню операционную, в которой приобрел первые навыки по хирургической технике, сделал первые операции, получил право называться хирургом. Круглосуточно в этот хирургический стационар поступали больные с острыми хирургическими заболеваниями и повреждениями. Особенно много больных было с острой непроходимостью кишечника и прободными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки. Были и пострадавшие с тяжелой шахтовой травмой.
Почти целый год я проработал младшим ординатором в этом отделении под руководством опытного врача Марии Александровны Черкасовой. Я быстро овладел техникой наиболее часто проводившихся операций. Вскоре мне стали доверять самостоятельные дежурства по неотложной хирургии. По двое, трое суток подряд я не выходил из больницы и не бывал дома. Работал до изнеможения. Работал с увлечением и удовольствием. Именно с увлечением. С тем увлечением, которого не было у меня на протяжении всех лет обучения в институте и знакомства с теоретическими науками и клиническими дисциплинами. Именно здесь я увлекся хирургией, полюбил ее и был покорен ею. Именно здесь понял, что хирургия – это не только операция, не только торжественность операционного зала. Хирургия – это любовь к больному человеку, борьба за его жизнь до последней минуты, без скидок на обстоятельства, без компромиссов. Хирургия – повседневный, тяжелый, порой каторжный труд. Немногим более года я проработал под руководством опытного хирурга, а затем был направлен в межрайонную больницу на должность заведующего хирургическим отделением. Был памятный май 1945 года.
Село, в котором находилась межрайонная больница, отстояло от железной дороги на пятьдесят километров. Попасть в него можно было только на грузовой машине. Через несколько часов езды по пыльной и тряской полевой дороге я оказался на окраине села – месте своего нового жительства и работы. Никто не встречал меня.
Потом за мной приехали из больницы. Видимо, дошла весть о моем прибытии. Экипажем оказалась старая скрипучая телега, в которую был запряжен столь же старый и уставший от жизни бык. Возница, не сказав ни слова, не поздоровавшись и не назвав себя, уложил мои вещи на телегу. И мы поехали вдоль деревенской улицы… Проехали пустырь, после которого показалось побеленное двухэтажное кирпичное здание с очень толстыми стенами и маленькими окнами. Это и была Венгеровская межрайонная больница.
Больница не имела четко профилированных отделений. Были палаты для хирургических, терапевтических и гинекологических больных. Количество этих палат варьировалось в зависимости от потребностей коек того или иного профиля. Родильное и инфекционное отделения были расположены в отдельных строениях во дворе больницы.
В основном здании имелась удовлетворительно оборудованная и оснащенная операционная. Электролампы в операционной получали энергию от движка, и если возникала необходимость оперировать после десяти часов вечера, то движок работал специально до тех пор, пока не заканчивалась операция.
Главным врачом больницы была Антонина Васильевна Кирсанова, терапевт по специальности. Небольшого роста, энергичная, подвижная, неглупая и острая на слово, она была признанной хозяйкой больницы. Хорошо понимавшая шутку, склонная к юмору, а порой и к умной интриге, она легко управляла своей паствой. У нас с ней сразу же сложились добрые дружеские отношения, которые длятся вот уже много лет.
Полной противоположностью ей была второй врач Н. В. К-ва, – акушер-гинеколог по специальности. Полностью лишенная чувства юмора, не понимавшая шутки, она не обладала сколь-нибудь выраженной гибкостью ума и все понимала в буквальном смысле. Это часто являлось поводом для различных неувязок, обид и отсутствия взаимопонимания между нею и другими работниками больницы. И еще. Она панически боялась септических абортов. Этот квалифицированный специалист акушер-гинеколог буквально терялся при виде больных с септическими абортами и готов был на все, лишь бы не иметь с ними дела. С моим появлением в больнице при поступлении подобных пациенток доктор К-ва стала обращаться ко мне с просьбой лечить их. Я не сразу понял истинную причину таких просьб. Мне думалось, что врачи-аборигены проверяют степень моей подготовки и моих возможностей. По этой причине на первых порах я не очень охотно откликался на это. Лишь когда понял истинную причину подобных просьб, я безотказно заменял при необходимости своего старшего коллегу.
Я обязательно должен упомянуть об Александре Ивановиче – старом фельдшере, местном светиле и непререкаемом авторитете. Он каждодневно вел прием в районной амбулатории. Эта амбулатория была расположена недалеко от больницы в длинном одноэтажном деревянном помещении барачного типа. У амбулатории у коновязи стояло несколько подвод, на которых приезжали пациенты из дальних сел и деревень. Обычно первичный осмотр амбулаторных терапевтических больных вел Александр Иванович. Я тоже ежедневно в соседнем кабинете принимал своих хирургических больных. В порядке опеки и шефства над молодым несмышленым врачом Александр Иванович нередко приглашал меня в свой кабинет и поучал премудростям медицины.
Однажды холодным декабрьским днем в очередной раз я был приглашен по какому-то поводу Александром Ивановичем. Войдя в кабинет, я застал следующую картину: на табурете, посреди комнаты, сидел пожилой колхозник с длинной белой бородой. Он был одет в овчинную поддевку, поверх которой был большой дорожный ямщицкий тулуп. И вот через поддевку и тулуп Александр Иванович фонендоскопом «прослушивает» легкие больного. Когда я попробовал выразить сомнение в возможности что-либо прослушать через столь массивную одежду, Александр Иванович с улыбкой, полной достоинства и превосходства, пояснил мне, что с его опытом это ничего не стоит и что, собственно говоря, этим он и отличается от меня – малоопытного и мало что понимающего врача.
…Поселили меня во дворе больницы в маленькой комнатушке, примыкавшей к больничной кухне. Кровать, стол, стул и керосиновая десятилинейная лампа составляли убранство моего жилища. Русская печка, стоявшая в углу комнаты, скрасила мне немало зимних вьюжных вечеров, проведенных в стенах этой комнаты.
Особо я должен упомянуть о семье Журавских. Мария Васильевна Журавская была операционной сестрой. Небольшого роста, худощавая, весьма подвижная, энергичная, добрая и в высшей степени порядочная по натуре – она была прекрасной операционной сестрой, которая во многом помогала мне. Жила она с мужем, двумя дочерьми и пожилыми родителями. Их пятистенный дом находился недалеко от больницы и хорошо просматривался из ее окон. В этом доме я провел много вечеров во времена своей венгеровской жизни. В этом доме я всегда встречал доброе отношение, ласку, заботу, дружбу. Муж Марии Васильевны – инвалид Отечественной войны, спокойный и добрый человек – «командовал» райкомхозом. Дома он находился всецело под властью своей жены, с хорошим тонким юмором принимая и терпя эту власть. В этой семье вообще царил дух добрых отношений между ее членами. Родителям Марии Васильевны также не был чужд юмор, и до сих пор я с большим удовольствием вспоминаю ту пикировку, дружескую и веселую, которая возникала за столом. В этом доме при моем появлении всегда накрывали на стол и кормили меня очень вкусной домашней едой, по которой я порядком скучал в своем одиночестве. Две дочери – Галя и Таня – были школьницами. Сейчас Галя – уважаемый доктор, заведует травматологическим отделением областной клинической больницы, а Таня – инженер. Обе они живут отдельными семьями у нас в городе. Прошло уже много лет с тех пор. Однако и сейчас я испытываю очень теплое чувство к этим людям, с удовольствием и благодарностью вспоминаю их ласковое и доброе отношение ко мне.
Из друзей тех далеких времен я часто встречаюсь с Капочкой, теперь Капитолиной Васильевной, бывшей старшей сестрой Венгеровской больницы. Сейчас она старший лаборант кафедры госпитальной хирургии нашего института.
Этим, пожалуй, исчерпываются мои воспоминания о людях далекой молодости, с которыми свела меня судьба на коротком отрезке моей жизни.
В Венгеровской больнице впервые я оказался один на один со своими пациентами и их недугами. Рядом со мной не было никого из старших, кто мог бы помочь в трудную минуту, дать добрый совет или просто поддержать и подбодрить. При острой необходимости я мог воспользоваться консультацией по телефону и, в самом крайнем случае, – санитарной авиацией. И здесь я должен вспомнить добрым словом славного человека и доброго друга, командира звена санитарной авиации Ивана Филатовича Халуева, который не раз выручал меня и моих пациентов, привозя кровь и при необходимости эвакуируя больных в областную больницу. Он был и тем связующим звеном, которое соединяло меня с близкими, живущими в Новосибирске. И теперь, будучи пожилым человеком, Иван Филатович остается таким же крепким, ладно скроенным, подвижным, добрым, жизнерадостным человеком, встречи с которым всегда доставляют мне радость.
* * *
Я жил в постоянном напряжении, все время ждал поступления тяжелых больных. С особой настороженностью ожидал открытого перелома черепа с повреждением головного мозга. Почему именно такого больного я ждал, я до сих пор не могу объяснить и понять. Как ни странно, такой пациент вскоре действительно поступил…
Это было в конце июня, в жаркий солнечный полдень. Мне сообщили, что я должен прийти в больницу, так как привезли «тяжелого парня». У дверей больницы я увидел лежащего на подводе лицом вверх мужчину на вид лет двадцати, у которого в правой височной области была видна кровоточащая рана. Вблизи нее виднелись островки розовато-серой зыбящейся ткани…
«Мозг выпал наружу… Открытый перелом черепа», – обожгла меня мысль. Случилось то, чего я ждал столько дней с напряжением и неосознанным страхом.
Больной был без сознания. Он не отвечал на мои вопросы, не реагировал на окружающее. Глаза его были закрыты.
С пострадавшим случилось несчастье. Конюх по профессии, этот крепкий молодой мужчина занимался своим обычным повседневным делом. Чем-то взбудораженный жеребец ударил его копытом задней ноги в висок…
Я закрыл кровоточащую рану на виске стерильной марлевой салфеткой, которую мне принесли из операционной, и кое-как прибинтовал ее. Мы осторожно, на руках перенесли пострадавшего в предоперационную, в которой я и стал детально осматривать своего столь «долгожданного» пациента.
Так как он был без сознания, я не мог выяснить его жалоб (о случившемся мне рассказали очевидцы). Выпадало целое звено – жалобы пациента, выяснить которое полагалось после уточнения обстоятельств травмы. Я помню отчетливо, что, согласно существующим канонам, я пытался выявить неврологические изменения у пострадавшего в виде нарушения или выпадения рефлексов, появления патологических знаков и прочих симптомов, характеризующих повреждение головного мозга. Долго и упорно я пытался непременно найти эти признаки: самым тщательным образом проверил характер движений в суставах рук и ног, пытался выявить состояние мышц, их тонус, то есть степень их физиологического напряжения, которое косвенно характеризует состояние некоторых отделов и структур мозга. Молоточком я постукивал по сухожилиям мышц вблизи коленных суставов и стоп, пытаясь определить состояние и характер сухожильных рефлексов. Забыв о том, что больной без сознания, я даже пытался определить степень и уровень сохранности чувствительности у больного.
При кажущейся со стороны целесообразности и логичности действий в голове у меня царил полнейший хаос. Мне не давала покоя одна мысль: как я буду обрабатывать рану? В глазах стояла эта рана и розовато-серое вещество выпавшего головного мозга…
Окончив обследование пострадавшего, я велел ввести необходимые лекарства и готовить его к операции. Прежде чем уйти в операционную, я тщательно выбрил голову больного, формально объясняя свои действия тем, что сделаю это лучше, чем санитарка. Фактически же, подсознательно, я старался отдалить время начала операции, чтобы еще раз взвесить все и проверить свою готовность к ней. Нет сомнения, что я боялся ее.
Долго и тщательно я мыл руки. Меня облачили в стерильные халат и маску. Больного уложили на операционный стол. Как обычно, его руки и ноги привязали к столу мягкими фланелевыми вязками. Туловище закрыли простынями.
Марлевой салфеткой, смоченной спиртом, я тщательно обмыл кожу головы вокруг раны, дважды смазал операционное поле пятипроцентной настойкой йода и закрыл стерильной простыней, в разрезе которой виднелась лишь рана и прилежащие к ней края разорванной кожи.
Осторожно и весьма тщательно я обколол края раны иглой, через которую при помощи шприца ввел триста миллилитров четвертьпроцентного раствора новокаина. Закончив обезболивание, я столь же осторожно стал ощупывать рану. К своему ужасу я понял, что кости черепа повреждены на значительно большем протяжении, чем кожные покровы, так как за пределами кожной раны не определялась свойственная своду черепа твердость, а выявлялось зыбление. Ужас мой был вызван предположением, что костные отломки свода черепа, по-видимому, внедрились в вещество мозга.
Сумею ли я без рентгеновского снимка найти в ране мозга, в его поврежденной ткани, эти отломки и полностью удалить их? Удастся ли мне это? Я хорошо понимал, несмотря на свой небольшой врачебный стаж, что грозит моему пациенту, если в веществе поврежденного мозга останется инородное тело в виде неудаленного отломка кости.
Все эти мысли вихрем роились в моей голове. Я не должен был показывать окружающим своего смятения. Я знал, что любое мое колебание, любой неверный жест быстро станут достоянием не только моих коллег и помощников, но и родственников пациента, а это могло поставить под сомнение правильность оказанной больному помощи и внести ненужное беспокойство.
И вот я приступил к операции. Внешне, как мне казалось, я был спокоен и сосредоточен. Скальпелем я стал иссекать края кожной раны. Давалось это мне нелегко. Рана была неправильной формы с ушибленными, загрязненными землей и навозом краями. Ее сложный рельеф крайне затруднял этот этап операции. Семь потов сошло с меня прежде, чем мне удалось иссечь и удалить края размозженной кожи. Помогавшая мне операционная сестра острыми крючками развела края кожной раны. Все дно ее было покрыто мозговым тканевым детритом – поврежденной мозговой тканью. Марлевыми шариками, смоченными теплым солевым физиологическим раствором, я стал осторожно удалять этот детрит. Наконец мне удалось обнажить края поврежденной кости.
Костная рана имела неправильную, в какой-то степени напоминающую часть копыта лошади, форму. Пинцетом я стал осторожно извлекать костные отломки и складывать их на салфетку, тщательно подгоняя Друг к другу. «Если они,– рассуждал я, – повторят полностью форму костного дефекта – значит, я извлек все отломки, и ни один из них не остался в глубине мозга». Долгим и кропотливым было это извлечение. Наконец, небольшой по величине, семнадцатый по счету костный отломок закрыл последний просвет белой марли. Лежавшие на салфетке костные отломки полностью повторяли по форме дефект кости в черепе моего пациента. Я тщательно остановил кровотечение из разорванных кровеносных сосудов и слегка надсек в отдельных местах края разорванной твердой мозговой оболочки черепа, оболочки, состоящей из очень прочной неэластичной ткани, отделяющей мозг от внутренней поверхности костей черепа. Швы на края разорванной твердой мозговой оболочки я не накладывал, так как знал, что делать этого не следует по той причине, что поврежденная ткань мозга отвечает на травму развитием отека, приводящего к увеличению объема мозга. Развитие отека мозга в условиях замкнутого пространства может привести к его частичной гибели. Оставленные не ушитыми края разорванной твердой мозговой оболочки давали возможность увеличивающемуся под воздействием отека веществу головного мозга выходить, выпячиваться в этот дефект твердой мозговой оболочки и тем самым не подвергаться гибельному для него сдавливанию.
Края раны твердой мозговой оболочки я надсек с целью ослабления ее сдавливающего действия в случае возникновения значительного отека. В те времена я не знал о возможности пластического увеличения поверхности твердой мозговой оболочки методом, разработанным академиком Николаем Ниловичем Бурденко, и не владел им. Края и дно раны я припудрил порошком сульфидина и наложил швы на рану. Поверхность кожи вокруг кожных швов была тщательно смазана настойкой йода. Поверх швов была наложена марлевая повязка.
Операция была закончена.
И вдруг мой пациент открыл глаза и заговорил… На меня это произвело огромное впечатление. Тогда я еще многого не понимал. Возвращение сознания к моему пациенту было воспринято мною как результат моих действий, результат моей операции… Я повторяю, что тогда я еще многого не знал и не понимал. И вот эйфория больного, отсутствие жалоб, веселый тон его ответов на мои вопросы были расценены мною как очень хорошее состояние, как хорошее самочувствие его вследствие проведенного лечения. Значительно позже я понял, что веселый «нрав» моего пациента был результатом так называемой лобной психики – своеобразного психического состояния людей, развивающегося под воздействием повреждения лобных долей головного мозга.
Особенно разительный эффект возвращение сознания у оперированного больного произвело на окружающих. Мой авторитет сразу же поднялся на несколько ступеней.
Пациент был помещен в палату. Я знал, что ему угрожают две опасности. Первая – это возможность развития в ране гнойной инфекции, вторая – развитие отека вещества головного мозга.
Для предотвращения развития гнойной инфекции больному были назначены большие дозы сульфидина, помимо того, который был засыпан в рану. А вот как бороться с отеком головного мозга и как предупредить его появление, я не знал. Едва устроив больного в палату и сняв с себя стерильную операционную одежду, я бросился в свою комнату и стал листать руководство Лежара.
Французский хирург Феликс Лежар написал «Руководство по неотложной хирургии». У меня имелось шестое издание этого руководства, выпущенное в 1906 году. Мне удалось в студенчестве купить его у букинистов за четыреста рублей по старому курсу. Так как таких денег в те времена у меня не было, то я сдал на эту сумму почти все книги, которые имелись у меня. Это руководство и до сих пор привлекает меня живостью языка, ясностью изложения, глубиной мысли.








