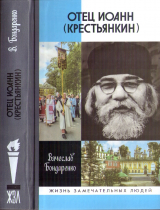
Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"
Автор книги: Вячеслав Бондаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 5
ХРАМ В ИЗМАЙЛОВЕ
Следующий день тоже был праздничным – Иверской иконы Пресвятой Богородицы (точнее, день встречи списка иконы, который в 1648 году прислали в Москву с Афона). Старшие священники, настоятель о. Михаил Преферансов и о. Алексий Дёмин, ушли на молитву в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где с 1929-го находилась самая почитаемая икона Москвы. А о. Иоанну предстояла первая самостоятельная служба, к которой он, что и говорить, приступал с трепетом. Но всё тогда, 26 октября 1945 года, прошло по чину и благоговейно. Это была первая литургия из семи, которые новопоставленный священник должен отслужить подряд – в соответствии с семью дарами Святого Духа, от Которого он принял благодать священства...
После завершения литургии к молодому батюшке подошла староста и сказала, что пришла мать, просит окрестить младенца. И вот на руках у о. Иоанна – новорождённая Ольга. Звучали под низкими сводами старинного храма слова чинопоследования, со счастливой молитвой прикладывалась к образу Иерусалимской Божией Матери мать младенца, заходилась в отчаянном крике маленькая Оля. А молодой священник улыбался, ведь впервые под его служением человек родился для Царства Божиего.
И крестины эти были далеко не последними. Как вспоминал о. Иоанн, после войны в его храме крестили ежедневно по 50 человек, по воскресеньям – по 150, а в праздники – и по 300. После чудовищного напряжения военных лет измученные люди приникали к Церкви как к живительному источнику. В храмы шли далеко не только те, кто помнил дореволюционные времена, а таким людям было всего-то лет по 45-50, – шли те, кто родился и вырос после 1917 года, воспитывался в атеистической советской школе, с детства слышал о том, что религия – опиум для народа. Шли прошедшие фронт солдаты и офицеры, студенты, рабочие, матери приносили маленьких детей. Шли переехавшие в Москву крестьяне из деревень, где не были снесены храмы. Шли венчаться молодожёны. Шли, зная о том, что старосты храмов сообщали в райисполкомы о всех крестившихся и венчавшихся. Это не останавливало людей.
Как вспоминал Валерий Николаевич Сергеев, «церковь наша, как и другие тогда, буквально ломилась от прихожан и в праздники, и в будни. Публика в церкви была самая разная, но в основном бедно одетые простые старушки, много было тогда мужчин во всём чёрном. Помню щегольски одетого в костюме с ярким галстуком знакомого молодого хирурга Василия Макаровича Шаталова, которого скоро здесь же отпоют двадцатипятилетним... В общем, большая тёмная масса на фоне сверкающих облачений духовенства, особенно в холодное время года. На женщинах помню тёмные жакеты, цветные вязаные кофты. Прихожане были не только измайловские, но из всех окрестных деревень – Калошина, Черницына, нашего закрытого поселения Раисина, из села Гольянова, где была закрытая церковь Зосимы и Савватия, теперь действующая (из неё в Измайловской, помню, было напрестольное Евангелие со вкладной записью).
В церкви молился всё больше простой, бедный народ, много нищих, в том числе инвалидов. Интеллигенции почти не было – неверующие, или боялись. Кроме грудных, почти не было детей – запрещалось.
Уже на улице и по всей паперти с двух сторон сидело множество нищих, которым прихожане подавали небольшими кусочками чёрный хлеб. Это были действительно изголодавшиеся люди – помню, как в день отпевания моей бабушки они в минуту поглотили громадную миску рисовой с изюмом кутьи, едва не подравшись при этом».
Сам же о. Иоанн так вспоминал начало своего служения: «В послевоенное время народу в храмах на службах была тьма. Великим постом особенно храм был переполнен людьми, многие не могли войти, молились на улице. Начнёшь службу в семь часов утра, а закончишь где-то в пятом часу. И всё это время на ногах стоишь. По окончании входишь в алтарь, закрываешь завесу, в изнеможении опускаешься на стул и тотчас впадаешь в забытье. А уже через полчаса раздаётся звон к вечерней службе. Вскакиваешь как ни в чём ни бывало, полный бодрости и сил. Будто и не стоял на ногах весь день. С благодарностью к Богу начинаешь вечернюю воскресную пассию...
Вот тогда-то я и понял, что Господь даёт силы для служения Ему... И живое рвение к служению ходатайствовало обо мне пред Богом и людьми как о духовнике, а в то послевоенное время это было очень ответственно, серьёзно и даже опасно. Но я отдавался этому служению полностью».
Уже в глубокой старости о. Иоанн рассказал игумену Мелхиседеку (Артюхину) о том, как прошла самая первая неделя его служения в измайловском храме:
– На первой неделе получилось так, что отец настоятель заболел и должен был прийти только на воскресную всенощную. И я в субботу отслужил литургию, потом молебен, потом панихиду, потом покрестил, потом кого-то пособоровал. И так всё это совершил по полной программе, буква в букву, как было написано в требнике и как было написано в уставе. И когда я зашёл в алтарь, чтобы немножко передохнуть и присесть, вдруг увидел, что в алтарь зашёл отец настоятель. И тогда он удивился, и глядя на меня, говорит: “Отец Иоанн, а ты уже здесь?” – “Да. Я уже здесь. Я ещё и не уходил”. И когда мы посмотрели на часы, то часы показывали без пятнадцати пять вечера, то есть уже начиналось всенощное бдение. И вот так я с утра до вечера всё отслужил по полной программе, но потом у меня ко всенощной почти отваливались ноги».
В этом кратком воспоминании о. Иоанн не упомянул о служении, которое совершалось вне храма. А ведь после службы он ещё безотказно совершал требы на дому у своих прихожан. Причём денег за это не брал. Об этом упоминал в своём очерке Валерий Николаевич Сергеев – когда его дед в феврале 1946 года советовался в храме, кто бы мог совершить требу, какая-то старушка посоветовала ему договариваться с о. Иоанном и уточнила: «Только учтите, что он какой-то странный и ни с кого не берёт денег за требы».
В. Н. Сергеев вспоминал:
«Дедушка <...> отправился на поиски этого “странного” священника, и вернувшись, сказал маме, что тот придёт завтра, и что батюшка “очень худой и заморённый”, и его хорошо бы как следует угостить.
В то время было очень трудно с продуктами, но мама в тот же день достала где-то по блату большого судака, которого решено было подать заливным. Под вечер следующего, очень холодного и промозглого дня в дверь нашего деревянного жилища постучали, и на пороге появился весь продрогший, худенький, небольшого роста темноволосый священник в каком-то лёгоньком, “подбитом ветром” пальтишке, с маленьким меховым воротничком “шалькой” (в то время духовенство обычно одевалось уже добротно и даже богато в меха, драпы и габардины).
Пришедший батюшка по своей худобе и “прозрачности” показался мне очень молодым, хотя, как теперь понимаю, ему было далеко за тридцать. Таким я впервые увидел отца Иоанна Крестьян кина.
Всё наше довольно большое семейство ютилось тогда в одной-единственной комнате, где лежала больная бабушка. Пока отец Иоанн совершал долгое соборование, мы все сидели в узком коридоре на расставленных в ряд стульях.
По окончании таинства была предложена трапеза, но батюшка, выпив стакан чаю с одним сухариком, от рыбы вежливо, но твёрдо отказался – должно быть, мои взрослые не учли, что время было постное. <...>
На Пасху 1946 года мы с дедушкой вдвоём пошли на утреннее богослужение в нашу церковь и увидели там бледного как тень, исхудавшего от поста отца Иоанна. Совершая каждение храма, он с трудом шёл, держась одной рукой за стену и едва не падая...»
Однажды произошёл такой случай: батюшку пригласили причастить больную старушку, но пока о. Иоанн шёл к ней, больная скончалась. Вместо принятия Святых Даров служилась первая заупокойная лития. Священник был опечален, хотя дочь старушки и рассказала ему, что перед смертью она ежедневно причащалась. А когда о. Иоанн шёл назад, у калитки увидел плачущую женщину. Естественно, подошёл к ней расспросить, что случилось. А та с рыданиями рассказала о том, что у неё умирает сын, который ни разу в жизни не исповедовался и не причащался. Такая откровенность была тем более удивительна, что заподозрить священника в батюшке можно было разве что по длинным волосам (поверх рясы он носил пальто). Услышав рассказ матери, о. Иоанн попросил познакомить его с больным и вскоре уже сидел у его постели – не как священник, а просто как добрый прохожий. Завязался разговор, который становился всё более откровенным. Умирающий юноша с искренней горечью рассказывал незнакомцу о своих ошибках и грехах и в конце концов проговорил: «А как хорошо было бы причаститься!» И тогда о. Иоанн, на удивление собеседника и его матери, снял пальто, представ перед ними в полном обличье священника – в епитрахили, со Святыми Дарами на груди. Исповедь не понадобилась – ею был рассказ больного. Прозвучала разрешительная молитва... На следующий день молодой человек скончался, успев очистить душу перед смертью. Вот так получилось, что шёл о. Иоанн к старушке, а на самом деле – к умиравшему юноше.
Ещё одна история. На последней неделе Великого поста, после выноса Плащаницы, о. Иоанн сосредоточенно готовился к чину Погребения. И в этот момент кто-то тронул его за руку. Перед ним стояла бедно одетая юная девушка. Еле выговаривая слова и чуть не плача, она рассказала, что собирается идти делать аборт (конечно, подпольный – в 1936—1955 годах аборты в СССР были запрещены), но решила перед этим, сама не зная зачем, зайти в храм.
Взяв холодную ладонь девушки в свои ладони, священник заговорил с ней – убеждённо, ласково, с болью в голосе. И говорил до тех пор, пока не увидел, что незнакомка отказалась от намерения совершить грех детоубийства. История эта получила продолжение, вернее, даже два. Первое – когда мать, родившая мальчика, позвонила из роддома и попросила приехать за ней: забрать её оттуда было некому. Тогда батюшка велел старосте храма отправить за девушкой такси. А ещё через некоторое время произошло и второе продолжение. Юная мать появилась у о. Иоанна с младенцем на руках и грубо швырнула его на диван со словами: «Вот вам ваше благословение, а мне оно не нужно». И даже в этой ситуации нашлись у священника нужные слова для того, чтобы образумить мать, заставить её со слезами прижать сына к груди...
Весна 1946 года принесла в жизнь молодого московского священника большую перемену. Его мечта о монашестве, казалось, начала приобретать реальные очертания. К Пасхе Церкви был возвращён Успенский собор одной из величайших русских обителей – Свято-Троицкой Сергиевой лавры, закрытой ещё в 1920-м. Тогда же были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского. Наместником обители стал возвращённый из Самарканда архимандрит Гурий (Егоров, 1891—1965). Чтобы восстановить монашескую жизнь в обители, требовались люди – прежних насельников лавры уже не оставалось. И одним из первых монахов предстояло стать о. Иоанну. Провожая его в лавру, митрополит Николай сказал:
– Не бойся ничего, но Духом Святым приими силу и надежду. Веруй, что рука Божия с тобою.
Путешествие от Москвы было совсем недалёким – лавра находится в 52 километрах от столицы. В 1930 году город Сергиев, где размещался монастырь, был переименован в Загорск – в честь революционера Загорского, в 1919-м погибшего от взрыва брошенной анархистами бомбы. Здания лавры, почерневшие от времени и пережитых невзгод, даже под хмурым апрельским небом показались о. Иоанну прекрасными. Ещё бы! Ведь это было одно из самых святых мест России, где молился преподобный Сергий, где благословлял он на Куликовскую битву Дмитрия Донского, откуда ушли на смертный бой воины-иноки, преподобные Пересвет и Ослябя, где ещё не прославленный тогда в лике преподобных Андрей Рублёв писал свою великую «Троицу» (сама икона с 1929-го находилась в Третьяковской галерее, а иконостас Троицкого собора украшали две копии), а Симон Ушаков – «Спас Нерукотворный»...
Вместе с о. Иоанном приехали поднимать лавру из руин иеромонах о. Иоанн (Вендланд, 1909—1989, в будущем митрополит Ярославский и Ростовский), о. иеродиакон Александр (Хархаров, 1921—2005, в будущем архиепископ Ярославский и Ростовский Михей), архимандрит Нектарий (Григорьев, 1902—1969, в будущем митрополит Кишинёвский и Молдавский). Пономарём в Успенском соборе стал иподиакон архимандрита Гурия Игорь Мальцев (1925—2000), впоследствии известный и любимый в Саратове и Ярославле священник.
В лавре о. Иоанна назначили ризничим – ответственным за место, где хранятся богослужебные облачения и церковная утварь. Жить в лавре было ещё негде, приходилось ежедневно ехать в Загорск утренней электричкой и вечерней возвращаться в Москву. Но и без того обычно быстрый на ногу новоиспечённый ризничий летал по лавре как на крыльях. Всё вокруг вдохновляло и радовало – начиная с самого факта возвращения лавры верующим (хотя вернули-то только один собор и две комнаты в корпусе у Святых ворот, где разместились кухня и трапезная) и заканчивая тем, что близился желанный постриг. Среди многочисленных поручений, которые пришлось выполнять о. Иоанну тем летом, было и необычное – его благословили сопровождать мощи Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия из Москвы в Вильнюс. Мощи были вывезены из Вильны митрополитом Тихоном, будущим Патриархом, в 1915-м, во время приближения к городу германцев. В 1920-м в Москве прошёл издевательский судебный «процесс виленских угодников», на котором был вынесен вердикт: «Так называемые мощи виленских угодников, а в действительности мумифицированные трупы, передать в музей древности». И вот теперь из Московского музея атеистической пропаганды они возвращались в Виленский Свято-Духов монастырь. Батюшка благоговейно и радостно готовил раку для мощей, облачал их. 26 июля 1946 года самолёт, на котором летел о. Иоанн, благополучно приземлился в Вильнюсе. Это было первое, но далеко не последнее в жизни батюшки воздушное путешествие... День обретения мощей святых Антония, Иоанна и Евстафия ежегодно торжественно отмечается в древней обители, расположенной в самом центре Вильнюса.
Архимандрит Гурий не мог не нарадоваться на деятельного ризничего. Он даже назвал имя, которым будет наречён новый постриженник – Сергий. (Вообще это было нарушение правил, монах узнаёт своё новое имя только при постриге). И видел в нём первого инока, который примет постриг в возрождающейся лавре... Но человек предполагает, а Бог располагает. На праздник Успения Пресвятой Богородицы, в конце августа 1946-го, после четырёхмесячного пребывания в лавре, о. Иоанна неожиданно отозвали обратно в Москву, на тот же самый измайловский приход. Постриг не состоялся.
Сам о. Иоанн не оставил воспоминаний о том, что довелось ему пережить в те дни. Но нет сомнений, что терзания и скорби были отпущены ему сполна. Душа бунтовала. Ведь её подвели к желанному, показали, поманили, пообещали... и бросили. Из строгого монастырского уклада нужно было вернуться в нервную, хлопотную атмосферу окраинного московского прихода. Лишь неустанные молитвы помогли вновь обрести себя. Не время – значит, не время, на всё воля Божия. И со временем тяжесть, которая легла на душу, истончилась, а там и исчезла без следа, оставив тёплые, задушевные воспоминания о нескольких месяцах, проведённых в лавре.
Снова началась уже привычная приходская жизнь в Измайлове. Снова без устали он славил имя Господне и нёс с алтаря Его слово исстрадавшимся, отчаявшимся людям... И по загруженности своей не замечал, как незаметно росло и без того немалое число прихожан, как из уст в уста передавалась по Москве молва о невысоком батюшке в очках, который не ходит, а будто летает над землёй.
Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Никон (Горохов) в своих воспоминаниях об о. Иоанне писал: «Господь говорил: от того, кто вкусит от Духа Святого, потекут реки воды живой, скачущей в жизнь вечную. Не знаю, когда это началось у отца Иоанна, то есть когда потёк от него поток чистой живой воды благодати и когда к нему потёк православный народ, а ведь народ наш очень чуткий. Как почувствует, что у кого-то открылся этот “источник вечной жизни”, так и бежит к тому сломя голову и обступает его толпой и жаждет прикоснуться, почерпать, вкусить, напиться, насладиться и утешиться от этого источника. И тогда уж точно не будет покоя для носителя сего дара ни днём ни ночью». Подмечено чрезвычайно точно. «Реки воды живой» о. Иоанна в первые послевоенные годы омыли сначала жителей Измайлова, а затем чуткий народный слух воспринял молвь об «источнике вечной жизни» без всякой рекламы, без радио, телевидения и Интернета, без публикаций в прессе. Сейчас можно удивляться тому, как росла и ширилась известность скромного священника с московской окраины. Это происходило как бы само собой, легко и естественно. И так же естественно будет распространяться слава о. Иоанна во всех местах, где ему будет суждено находиться. На его «огонь» люди летели сами, летели, чувствуя исходившую от него светлую и радостную силу...
Ценнейшее свидетельство о служении о. Иоанна в Измайлове оставила Галина Тимофеевна Волгунцева (1914—2009) – уроженка Челябинска, дворянка по происхождению и художник по образованию. Она впервые увидела о. Иоанна вечером 8 июня 1946-го в Троице-Сергиевой лавре, куда приехала с сестрой на Троицу:
«Вечером после всенощной обратили внимание, как худенький, очень бледный, среднего роста батюшка с чёрными локонами по плечам не ходил, а как-то порхал, будто ноги его не касались пола, он украшал храм Божий берёзками. Как-то сразу он вошёл в наши сердца, несмотря на то, что мы были духовными детьми лучшего проповедника в мире, митрополита Крутицкого Николая (Ярушевича), и всё же хватило в сердце места и для батюшки, и поселился он в наших сердцах до сего дня.
Окончив украшение храма, он начал исповедовать без общей исповеди, а выслушивал каждого в отдельности. Многие плача отходили от него и, что-то подумав, снова возвращались к нему и шептали в ухо. Мы с сестрой улыбались, говоря, что теперь старушки наговорят о себе, что было и не было, лишь бы постоять рядом и набраться благодатной силы.
Узнав, что он служит в Измайлове, обрадовались и в следующее воскресенье были около него. Служил батюшка очень хорошо, иногда покачиваясь от слабости. Было жаль его, но это ещё больше усугубляло наши молитвы, так как мы почувствовали, что он, как и владыка Николай, – ангел во плоти. В проповеди он уступал только владыке Николаю. Он говорил так горячо, с такой любовью к Богу и к нам, падшим людям, что хотелось, чтоб было скорее гонение на христиан, как в первые времена, чтоб можно было добежать до Красной площади и положить голову на плаху. Такая в нём была необычайная сила духа.
Иногда приду в церковь уставшая, разбитая, думаю, хоть немножко постою, но раздавался голос отца Иоанна – и мгновенно усталость пропадала. И вместо того, чтоб скорей ехать домой, мы молча ходили за ним, смотрели, как он крестит детей, как отпевает покойников, как будто бы усопший человек самый близкий и любимый им. И даже хотелось умереть, чтобы батюшка отпел.
Одно отпевание мне особенно врезалось в память – покойника сопровождало много народа, видимо, сослуживцев. В ожидании с ироническими улыбками они переговаривались, осматривая иконы. Нам так было обидно, но от батюшки ничего не скрылось.
Он вышел в чёрной рясе, держа перед собой золотой крест, лицо бледное, одухотворённое, взглядом скользнул по толпе и понял, что здесь будет больше глумления, чем молитв. Началось трогательное отпевание, как будто бы усопший – его отец, исчезли улыбки, в глазах любопытство и ещё – страх. И вот батюшка заговорил негромко, но постепенно голос его повышался, зазвучали нотки негодования и уже с жаром слышались громкие, угрожающие слова: “Верите ли вы или не верите? Хотите ли вы этого или не хотите, ибо близится Страшный Суд, и мы получим по заслугам...” – и прочее. Уже не стало улыбок, кое у кого появились слёзы...
Вошли они как победители, а уходили с поникшими головами, как побеждённые. Вот как батюшка вразумлял, врачевал заблудших. За то и пострадал. Однажды некий пьяный вошёл в церковь – и прямо в алтарь. Откуда взялась сила у батюшки? Он кинул его в толпу, ну а старушки не дремали, заработали кулаками, пока он бежал из храма. Водворилась тишина, и батюшка продолжал службу. <...>
Однажды мы услышали, что батюшка болен. Узнав его адрес, по узкой снежной тропиночке пришли к дому гостиничного типа, где он снимал у старушки крохотную комнатку.
Лежал батюшка на спине в старом подряснике, закинув руки за голову, с порванными локтями. Я сообщила об этом владыке Николаю – он прислал своего врача. Батюшка хоть и встал, но был очень слаб, просто таял на глазах.
Когда он приходил из церкви, старушки его встречали: “Батюшка, помолимся!” – и батюшка всё забывал и ещё несколько часов молился. А покормить батюшку забывали или нечем было, время было тяжёлое. Сам же он, получив зарплату, сразу, выходя из церкви, всю раздавал. Его окружали верующие и просили: кто на ремонт дома, на лечение, на корову. Батюшка щедро всем раздавал и оставался без копейки. За требы он ничего не брал, говоря: “Мне не нужны бумажки”.
Но случилось чудо: приехала из Иркутска Галина Черепанова к сестре-студентке навестить её. В первую очередь мы повели её на службу к владыке Николаю, она была потрясена. Потом в Измайлово. Увидела она нашего бледного худого батюшку, да мы ещё рассказали ей о рваных локтях, и поняла Галина Викторовна, что поле деятельности для неё обширно. По натуре это была евангельская Марфа. Начала она заботиться о питании, потом узнала, что у него есть комната, но одна стена упала, и закипела работа. Квартирку его она превратила в рай: чистота, белизна, красота. Батюшка переселился, она ему готовила. Он заметно стал поправляться. Адрес его никому не говорили, чтоб не тревожили его.
Прошёл год. Галина Викторовна без прописки жила у духовной дочери отца Иоанна Матроны Георгиевны Ветвицкой, у которой был сын двенадцати лет. Матрона Георгиевна работала портнихой по мужским вещам и всех кормила.
Как будто бы всё хорошо: батюшка ухожен, сыт, даже иногда в пост в кашу украдкой от него подкладывали сливочное масло. Грех на себя брали. А батюшка ел кашку и хвалил, что такой каши вкусной он ещё не ел. Но вот парадокс: как-то я не могла скрыть восторга от его квартиры. Вдруг он стал грустным и сказал: “Если бы ты знала, как меня всё это тяготит!” И показал мне фотографию: голая комната, стол, ничем не покрытый, на котором стояла кружка с водой и кусок хлеба. А на скамейке сидел монах. “Вот моя мечта!” – с грустью сказал он».
Масса уникальных деталей – начиная с продранных локтей рясы батюшки (самому залатать, конечно, просто не хватало времени) и заканчивая его грустью при виде фотографии монаха. Это наверняка были ещё не изжитые эмоции по поводу четырёх лаврских месяцев. А помощь Матроны Ветвицкой (1903—1994) и Галины Черепановой (1910—1992) действительно была бесценной. Это о них о. Иоанн писал: «Я знаю людей, которые живут в Москве, и она для них если не рай, то преддверие его. Они живут верой деятельной, живой, и никакие “чудеса” новой Москвы их не трогают. Святые с ними, и святыни московские укрепляют дух». На истории взаимоотношений этих двух глубоко верующих женщин стоит остановиться подробнее, так как они стали для о. Иоанна настоящими ангелами-хранителями на годы вперёд.
Уроженка маленькой (сейчас там около тридцати жителей) тульской деревни Болотово Матрона Георгиевна Новикова была духовной дочерью епископа Серпуховского Арсения (Жадановского, 1874—1937) – одного из виднейших деятелей так называемого «мечевского» уклона «непоминающих». Мужем её стал выпускник Вольского кадетского корпуса, участник Первой мировой войны в чине прапорщика Борис Михайлович Ветвицкий (1898—1939), перед смертью принявший монашеский постриг (его родным племянником был хорошо знакомый о. Иоанну по Троице-Сергиевой лавре Игорь Мальцев). После смерти мужа Матрона Георгиевна осталась с сыном Алексеем. Даже в годы самых страшных гонений на Церковь в доме Ветвицких постоянно теплилась лампада перед иконами, а сама Матрона Георгиевна была знаменитой на всю Москву церковной портнихой – шила облачения для священнослужителей, в том числе для Патриарха. О. Иоанна она впервые увидела во время проповеди в измайловском храме.
И там же, у храма, осенью 1946-го она познакомилась с Галиной Черепановой – вернее, просто увидела горько плачущую женщину и подошла к ней узнать, что случилось. Выяснилось, что незнакомка – иркутянка. В Иркутске её долгие годы преследовали за помощь заключённым священнослужителям, требовали дать расписку о сотрудничестве с органами. Когда девушка в очередной раз отказалась, в кабинет следователя НКВД вместе с конвоирами вошли четверо уголовников и сорвали с неё, девственницы, одежду... Чтобы избежать насилия, Галина дала требуемую подписку, о чём сразу же рассказала всем друзьям и знакомым. Многие после этого отвернулись от неё. Вскоре девушку разбил паралич, и в НКВД на неё махнули рукой – толку от такого агента не было.
А на Пасху 1946 года к лежачей Галине прибежала подруга с радостной вестью: открылась Троице-Сергиева лавра, у преподобного Сергия Радонежского звонят колокола. В ответ на это Галина произнесла одну фразу:
– Преподобный зовёт! – И встала с постели. После чудесного исцеления ноги у неё болели только в непогоду.
В Москву Галина приехала к родной сестре, надеясь немного пожить у неё, но получила отказ. Вот она и плакала – ночевать в столице было негде. Матрона Георгиевна не задумываясь пригласила Галину Викторовну к себе, и с тех пор она постоянно жила у Ветвицких, став для них родным человеком.
В квартирке Ветвицких в Шубинском переулке батюшка принимал духовных чад, молился, соборовал. С особым трепетом он относился к святыне, вывезенной Галиной из Иркутска, – простому деревянному кресту святителя Иннокентия Иркутского (Кульчицкого).
Всегда радостно, с благоговением принимали батюшку в измайловском доме Голубцовых на Лесной улице (ныне Измайловский проспект). Там в трёх комнатках с 1942 года обитала семья библиотекаря ВАСХНИЛ Николая Александровича Голубцова (1901—1963) и его жены Марии Францевны (1904—1972), лютеранки, под воздействием мужа перешедшей в православие. Семья воспитывала четырёх приёмных детей. Николай, сын профессора Московской Духовной академии Александра Петровича Голубцова, ещё в юности прислуживал в алтаре, но, по совету старца о. Алексия Зосимовского, не спешил с принятием священного сана, а исполнял в храме Рождества Христова обязанности пономаря и чтеца. Только в августе 1949-го он сдал экстерном экзамены за курс духовной семинарии, 1 сентября был хиротонисан во диаконы, 2 и 3 сентября служил с о. Иоанном в измайловском храме; 4 сентября состоялась священническая хиротония о. Николая Голубцова, который со временем стал одним из самых уважаемых и любимых в Москве священников, многими почитался как старец. А его измайловский дом оставался всегда открыт для батюшки вплоть до смерти гостеприимного хозяина. В «будочке» – специальной беседке, построенной в примыкавшем к трамвайным путям саду, – о. Иоанн и о. Николай провели немало времени за беседами на духовные темы...
Другими преданными друзьями стали супруги Козины – Алексей Степанович (1908—1977) и Пелагея Васильевна (1909—2003). Оба были земляками, выходцами из села Сосновка Саратовской губернии; до войны жили в Баку, где Алексей работал слесарем и бурильщиком на нефтяной вышке. В 1942—1945 годах Козин был на фронте в звании гвардии сержанта, воевал в 30-й гвардейской механизированной бригаде 9-го гвардейского механизированного корпуса, заслужил медаль «За отвагу», был несколько раз ранен, из-за чего одна его рука почти не действовала. Но, несмотря на увечье, Алексей Степанович был мастером от Бога – чинил и делал по хозяйству всё, что требовалось. А Пелагея Васильевна, как и Матрона Ветвицкая, великолепно шила церковные облачения. С батюшкой измайловцы Козины познакомились в 1948-м, и тоже в храме: зашли и остались надолго.
«С утра до ночи не уходил батюшка из храма, – вспоминала П. В. Козина. – Кроме него, были ещё отец Виктор и отец <...>, настоятель, который и предал его. Те оба были семейные, они отслужат – и по домам, а батюшка всё заботился о храме, о людях. Никогда не отпускал после службы без проповеди, без благословения: всё учил и назидал. Однажды Великим постом сказал проповедь о назидании, все плакали навзрыд. Всё видел и всё знал.
В храме не было воды, возили воду на санках с 1-й Советской. Все собирались и возили. Староста Иосиф Николаевич возглавлял работу. На санки ставили несколько баков и везли. Возили в холод, батюшка тоже принимал в этом участие. Если освящённая вода кончалась, её не доливали, батюшка освящал заново. Для себя не жил: всё для храма и людей.
Необыкновенный молитвенник. Как-то я стояла перед иконой Божией Матери и молилась о чём-то. Вдруг я почувствовала, как от иконы в моё сердце вошёл горячий луч, и мне стало радостно и хорошо. Я обернулась – за мной стоял батюшка, видимо, он молился вместе со мной и за меня. И Матерь Божия по его молитве утешила меня».
Ещё одним преданным духовным чадом батюшки стала Анастасия Лаврентьевна Иванникова, в 1946-м – 18-летняя учащаяся школы фабрично-заводского обучения, переехавшая в Москву из Воронежа: «По воскресеньям и праздничным дням я ходила в церковь на две литургии для того, чтобы не пропустить ни одного батюшкиного слова. Батюшка очень вдохновлял нас службами, проповедями, исповедями.
После всех служб батюшка выходил из алтаря к людям, где его ждала большая очередь. Выстаивала эту очередь и я, чтобы взять благословение. Пока батюшка всем ответит на вопросы, времени уже три или четыре часа дня, а вечером опять он служит акафист по очереди – когда Матери Божией, когда Спасителю.
В наш храм со всей Москвы съезжались, чтобы послушать батюшкину проповедь. Часто можно было видеть у прихожан слёзы. Обычно в храм собиралось очень много людей». Осиротевшей на войне Александре батюшка отчасти заменил родного отца, и иногда ей достаточно было просто пройтись следом за о. Иоанном по улице: «Он давал силы жить, я им жила».
Другое свидетельство принадлежит Клавдии А.: «Земля слухом полнится. В 1947 году я услышала от верующих, что в Измайлове служит какой-то необыкновенный батюшка. Я сразу же поехала посмотреть на него. К счастью, он служил раннюю литургию. И такой радости, какую я испытала во время молитвы за богослужением этого молодого священника, у меня не было никогда. Я подумала: это земной ангел. С этого дня я стала постоянной прихожанкой Измайловского храма. Исповедовалась только у него. Я была замужем за старообрядцем. Отец Иоанн утешал меня, обещая, что однажды сможет нас повенчать. Сумел он своей молитвой склонить супруга к нашей Церкви, а потом и повенчал нас. Радости нашей не было предела. Однажды в отсутствие отца Иоанна принесли в храм покойницу. У неё не было родных, и платить за отпевание было некому. Старенький священник, который был в это время в храме, отказался отпевать, то ли по немощи, то ли по какой-то другой причине. К счастью, в этот момент вернулся отец Иоанн. Заметив наше смущение, он спросил о его причине. “Да вот, привезли покойницу, она бедная и безродная, её отпевать не хотят”. “А мы сейчас сделаем её богатой”, – весело сказал батюшка и ушёл. Смотрим, открываются Царские врата. Загорелось паникадило, и в полном облачении выходит отец Иоанн, с амвона обращается ко всем: “У кого есть время, останьтесь, помолимся вместе и проводим в Царство Небесное рабу Божию”. Это отпевание наполнило храм благодатной силой Божией любви, а наши души – радостью».






