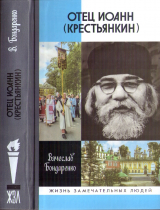
Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"
Автор книги: Вячеслав Бондаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Но однажды, уже почти повергнутого в отчаяние, прямо в алтаре его обступили кресты с вознесёнными на них страдальцами. Лиц он не узнавал, но они сияли так, что больно было смотреть, видел только протянутые к нему руки и чувствовал ток благодатной силы, изливающийся в его изнемогшую в искушении душу. Батюшка опрометью бросился в храм к Распятию Спасителя и, не дожидаясь вопроса, рыдая, взмолился:
– Господи, Ты знаешь, знаешь, Ты видишь, что я люблю Тебя. Укрой мою немощь!
Тотчас внутри всё ожило. Господь принял его слёзное исповедание в любви и сотворил чудо».
Гадать о смысле произошедшего с ним не было надобности. Его ждал свой Крест, и ждал в ближайшем будущем. Тучи над о. Иоанном начали сгущаться примерно через три года его служения в измайловском храме, и если он и не знал об этом напрямую, то, безусловно, догадывался.
Во второй половине 1940-х краткий «роман» государства с Церковью подошёл к концу. Война закончилась, и советская власть больше не видела необходимости в такой массовой поддержке и лояльности верующих, как прежде. Над церковной жизнью был установлен жёсткий тотальный контроль, из Церкви стремились сделать некое «ведомство» под управлением Совета по делам Русской Православной Церкви во главе с генерал-майором МГБ Г. Г. Карповым.
За деятельностью этого совета, в свою очередь, пристально следили всевозможные «проверщики», и идеологические, и экономические. В среду прихожан и священничества активно внедрялись осведомители и агенты МГБ. Открыто исповедовать «религиозные взгляды» по-прежнему значило загубить себя в политической, общественной и служебной жизни – быть православным и гордиться этим не могли позволить себе ни министр, ни депутат, ни офицер, ни чиновник, ни школьный учитель, ни врач, ни писатель.
Во многом такой поворот был связан с крахом честолюбивого проекта, задуманного в Кремле, – созыва в СССР Всеправославного Собора, подчинившего бы Русской Православной Церкви все прочие поместные Церкви и придавшего Московской Патриархии статус Вселенской. Это позволило бы Советскому Союзу противостоять влиянию католицизма в мире и оказывать дополнительное политическое воздействие на Болгарию, Югославию, Румынию и Грецию. Но этот проект не осуществился из-за того, что влияние Москвы на Восточные Патриархаты после послевоенной эйфории успело сильно ослабеть. Московское Совещание глав и представителей поместных Православных Церквей, прошедшее 8—18 июля 1948 года, продемонстрировало, что «давить» на Грецию и Югославию СССР не сможет, а в экуменическом движении, на которое также возлагались определённые надежды, уже лидируют американцы. Проект был признан нецелесообразным, и в связи с этим роль Церкви в жизни государства начала стремительно уменьшаться. Внешне это выразилось во всевозможных запретах и ущемлениях. Так, в 1948-м запретили проводить церковные сборы на патриотические цели, молебны в поле во время сельскохозяйственных работ, духовные концерты в храмах вне богослужений, крестные ходы из села в село, увеличили налогообложение храмов и епархий; все священнослужители были обязаны подписаться на государственные займы. В 1949-м были запрещены вообще все крестные ходы, кроме Пасхальных. Священникам больше не разрешалось обслуживать одновременно несколько приходов и «превращать проповеди в храмах в уроки Закона Божьего для детей». С 1950-го на службу в армию призывали учащихся духовных семинарий, не имевших священного сана. Число монастырей в 1947—1948 годах сократилось со 104 до 85, в 1949—1953 годах было закрыто 1055 храмов, а многие насильственно переделаны под зернохранилища. Новые храмы и раньше открывались очень неохотно – так, в 1945-м в Москве была открыта всего одна новая церковь, в 1948-м – две, а многочисленные ходатайства об открытии отклонялись под любыми предлогами: ветхость здания, невозможность его переоборудования из склада, наличие рядом (в 15 километрах) другой церкви, неправильное оформление ходатайства. А после 1948 года в стране не было открыто вообще ни одного нового храма, монастыря или духовной школы, хотя ранее планировались учреждение духовной академии в Киеве и семинарии в Новосибирске.
Возобновились, хотя и в меньшем объёме, чем прежде, и аресты духовенства. В 1946-м был арестован митрополит Нестор (Анисимов), в 1948-м в седьмой раз был арестован и осуждён на 10 лет архиепископ Мануил (Лемешевский); о. протоиерей Дмитрий Дудко тоже получил 10 лет лагерей. В 1949-м был приговорён к высылке в Казахстан инспектор Московской Духовной академии архимандрит Вениамин (Милов). Арестовывались и «рядовые» приходские батюшки – о. Александр Колчев, о. Михаил Годунов, о. Валериан Николаев, о. Павел Максимов, о. Николай Харьюзов и другие.
Под пристальным наблюдением находилась и скромная церковь Рождества Христова в Измайлове. «Первый звонок» для неё прозвенел в ноябре 1948-го, когда были арестованы служившие в измайловском храме о. Виктор Жуков и о. иеродиакон Порфирий Бараев. О. Виктор служил в храме два года, а вот о. Порфирий был его «старожилом», диаконствовал с 1933-го. С ними у о. Иоанна были прекрасные отношения. Обоих выслали в Канск Красноярской области (оба, к счастью, вернулись; о. Виктор в 1957—1971 годах был настоятелем храма). В феврале 1949-го в храме сменился весь клир, после смерти о. протоиерея Николая Архангельского пришёл новый священник, летом – новые настоятель и диакон, тогда же поступила в хор новая певчая... Все эти люди в ближайшем будущем сыграли в судьбе о. Иоанна зловещие роли.
Не исключено, что назначение в храм новых «благонадёжных» людей было непосредственно связано с Пасхой 1949 года (в тот год она отмечалась 24 апреля). Тогда о. Иоанну пришла идея украсить Пасхальный крестный ход иллюминацией. За помощью он обратился к прихожанам – недавним фронтовикам, знавшим толк в пиротехнике. И те постарались от души: когда крестный ход под трезвон, с пением стихиры «Воскресение Твоё, Христе Спасе, ангели поют на небесех...» показался в дверях храма, в небе над ним засияло... огромное изображение Христа Спасителя в полный рост! Такая иллюминация и сегодня привела бы людей в восторг, что уж говорить про тогдашнее, не избалованное зрелищами время. И вполне возможно, что именно эта дерзкая «демонстрация» привела к тому, что за о. Иоанном была начата слежка, а в храме вскоре сменился настоятель...
Когда о. Иоанн пришёл к И. А. Соколову и рассказал об этой перемене, Иван Александрович охарактеризовал нового настоятеля так: «Да это же Шверник и Молотов в одном лице...» Звучало это многозначительно: Николай Михайлович Шверник в то время был Председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть формально первым лицом страны, а вот Вячеслава Михайловича Молотова недавно, в марте, сняли с поста министра иностранных дел; тем не менее всеми он продолжал восприниматься как опытный ветеран советской политики, ближайший соратник Сталина. Так или иначе, предупреждение было понятным: с новым настоятелем ухо стоит держать востро. В. Н. Сергееву, в то время девятилетнему мальчику, этот настоятель запомнился как «импозантного вида священник из обновленцев, при котором в церкви пошли новые порядки: возрос до неприличия интерес к церковным доходам, сильно стало сокращаться богослужение. И дедушка, хорошо его знавший (в молодости он пел в церковном хоре), и я вместе с ним, всё реже посещали этот приход».
Имя этого священника мы называть здесь не будем. А вот биография у него была весьма колоритной. Сын военного священника, в Гражданскую войну служившего у белых, моложе о. Иоанна на два года, он был одним из «долгожителей» обновленчества – уйдя в раскол ещё ребёнком в 1917-м, принёс покаяние только в 1946-м. Именно ему выпала печальная честь служить последнюю вечерню с акафистом перед закрытием и взрывом храма Христа Спасителя. Затем он служил в Ленинграде и Колпине, где в мае 1934-го был арестован по статье 58-10 и на три года заключён в лагерь. Но уже к концу 1940-х он был, что называется, «в порядке» – об этом можно судить хотя бы по наличию собственной «Победы» (в Москве личные машины были тогда только у двенадцати священнослужителей, включая Патриарха и митрополита Николая). Уже после храма Рождества Христова в Измайлове занимал высокие должности в Патриархии, входил в ближайшее окружение Патриарха Алексия, а затем больше тридцати лет был настоятелем храма на юго-востоке Москвы, имевшего сомнительную славу «неообновленческого». В 1988-м одним из первых в СССР совершил панихиду по жертвам сталинских репрессий и в следующем году умер...
Сложная, тяжёлая судьба, изломанная русским XX веком. Воспоминания об этом человеке различны. Кто-то помнит доброго, внимательного, любимого прихожанами пастыря, кто-то – совсем другое. Но – нам ли оспаривать давно уже вынесенный приговор самого высокого Суда?.. Забегая вперёд, скажем, что о. Иоанн не держал зла на этого человека, искалечившего ему жизнь.
...21 мая 1949-го имя о. Иоанна Крестьянкина было впервые упомянуто во время допроса одного из постоянных прихожан Богоявленского собора в Елохове. Этот человек не был осведомителем – его арестовали за его убеждения и сломали на следствии. Рассказывая о своих «церковных» связях, он вспомнил, что «с Крестьянкиным я познакомился впервые в 1935 году во время посещения одной из московских церквей. Он тогда ещё обращал на себя внимание особой религиозной настроенностью. Впоследствии я его увидел только в 1945 году, осенью, в церкви с. Измайлово, где он был посвящён в сан священника. В 1946 году я неоднократно встречал Крестьянкина в Загорске в Лавре и в 1947—48 гг. в церкви с. Измайлово. Встречаясь с Крестьянкиным в 1945—1948 годах, я отметил одну особенность – он был очень усерден в службе, весь отдавался ей».
Казалось бы, что тут такого, мало ли в Москве усердных в службе священников с «особой религиозной настроенностью»?.. Но, по-видимому, данные были сочтены интересными, так как следователь начал усиленно «давить» на подследственного, выбивая из него новые данные о Крестьянкине. В итоге сломленный человек заявил, что «проповеди Крестьянкина привлекали большое количество верующих, которые становились его почитателями. Все его проповеди и беседы носили характер призывов к верующим об укреплении веры, он объяснял религиозные канонические правила и молитвы и всем своим поведением выдавал себя за праведника, призванного укреплять веру в народе». На вопрос относительно политических взглядов и настроений о. Иоанна подследственный заявил: «Я думаю, что если Крестьянкин считает своим духовным руководителем епископа Серафима Остроумова, восхищается им до настоящего времени, который был известен своими крайне реакционными взглядами, можно предполагать, что лояльность его советскому строю крайне сомнительна. Во всяком случае, он старательно избегал разговоров о его истинных взглядах».
Что именно здесь действительно было сказано подследственным, а что придумано и написано его следователем – уже не установить. Ясно лишь, что о. Иоанн никогда не мог сказать в ответ на вопрос, почему он не остался в лавре в 1946-м, следующее: «В Лавре, в монастыре я очень ограничен, не могу научиться точному исполнению церковных обрядов и самое главное не могу проповедовать, к чему особенно стремлюсь». Как было сказано выше, возвращение из лавры стало одним из самых тяжёлых испытаний для батюшки, с которым он не сразу смирился...
Но так или иначе, сбор информации об о. Иоанне ширился. «Помог» своим будущим гонителям и он сам, честно ответив на вопросы анкеты, связанной с потенциальным переводом в Иерусалимскую миссию. Первым среди своих духовных отцов он упомянул в анкете владыку Серафима, расстрелянного десять лет назад. Значились в этом списке имена и погибшего в лагере архимандрита Пантелеймона, и о. Всеволода Ковригина. «Донос на себя я написал сам», – говорил потом о. Иоанн, имея в виду именно эту, «пригодившуюся» следователям анкету.
Начались и откровенные провокации. В храм зачастила молодая женщина с ребёнком, которая заявляла, что отцом младенца является о. Иоанн, и требовала денег. По воспоминаниям Анастасии Иванниковой, «батюшка со смирением давал ей деньги. Это была тайна, которую старались не распространять». Но история всё же раскрылась: Валентина Козина вспоминала, что незнакомка «потом созналась, что ей хорошо заплатили, чтобы оклеветать батюшку». Были и другие печальные случаи. А. Иванникова: «Какой-то мужчина вошёл в алтарь в головном уборе (шляпе), когда батюшка служил всенощную. Это видели все прихожане, в том числе и я. Все очень взволновались, но батюшка подошёл к нему, попросил снять шляпу и выйти из алтаря».
На душе от всего этого было тяжело, не всегда помогала и молитва. Во время одной из встреч с Патриархом Алексием (Патриарх приезжал в измайловский храм служить перед Иерусалимской каждый год 25 октября), о. Иоанн откровенно попросил у него совета – как правильно реагировать, как поступать, «когда внешние и внутренние смутьяны требуют хождения вослед их»?.. Патриарх ответил встречным вопросом:
– Дорогой батюшка, что я дал вам при рукоположении?
– Служебник.
– Так вот всё, что там написано, исполняйте, а всё, что за сим находит, – терпите. И спасётесь.
23 февраля 1950-го скончался о. протоиерей Александр Воскресенский. Последние два месяца он тяжело болел и уже не выходил из дома. На отпевании о. Александра в последний раз собрался его «ближний круг», молодые люди, которые когда-то слетались на его огонёк, встречались на колокольне храма Святого Иоанна Воина... Похоронили его на Введенском кладбище, а на надгробном памятнике высекли слова, произнесённые им за несколько дней до смерти: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Могилу о. Александра о. Иоанн непременно посещал, бывая в Москве.
Шли дни. 8 апреля 1950-го, накануне Пасхи, батюшка смог раздобыть для своего храма очень красивые свечи – восковые, обвитые золотыми лентами. В те годы, когда каждый предмет, предназначенный для богослужения, считался редкостью, это была настоящая удача. Радостно, с благоговением батюшка установил свечи в семисвечник за престолом и отлучился по другим делам. А когда через несколько минут вернулся, застал дикую сцену – настоятель, в ярости бормоча что-то, ломал эти красивые свечи и буквально выдирал их из семисвечника. Всё было ясно без слов... Праздничная радость в душе померкла, несмотря даже на приезд родных людей из Орла – сестры Татьяны и двоюродной сестры, матушки Евгении. И сама Пасха была в том году холодная, на дворе, несмотря на апрель, было всего два градуса тепла – словно предчувствие грядущего долгого холода.
Татьяне и Евгении, пошедшим познакомиться с «о. Иоанном Соколовым», прозвучало в те дни ещё одно предвестие грядущего. Татьяне Крестьянкиной Иван Александрович сказал, что брата она больше не увидит, и тут же добавил:
– Пишут, пишут, уже вот сколько написали. – Он показал руками толщину тетради и продолжил: – Вот-вот постучат. Отложили до мая.
Женщины тогда ничего не поняли. А ведь всё сбылось – и «написали» за год уже много, и «постучали» в самом конце апреля... И Татьяна Крестьянкина не увидела своего брата – умерла в 1954-м, когда он был в заключении.
Догадывался ли батюшка о том, что его ждёт? Безусловно. Атмосфера вокруг него сгущалась, и после дикого случая с пасхальными свечами в том, как именно она разрядится, он не сомневался. Дошло до того, что новый настоятель откровенно пригрозил ему:
– Ты что-то много молодёжью занимаешься, отправлю тебя отдыхать на Лубянку...
Помнил ли отец настоятель о том, что в середине 1930-х сам «отдыхал на Лубянке»?.. О том можно только догадываться.
О другом эпизоде вспоминал позже сам о. Иоанн: «Захожу в храм, уборщица усердно метёт пол, пыль столбом. Поздно заметив меня, смущённо заизвинялась. Говорю: мети, мети, мать, скоро меня так же выметут отсюда». Предупредил о недобром и друг по академии Анатолий Мельников, услышавший в алтаре Богоявленского собора диалог двух священников: «Крестьянкина сдавать надо». – «Сдавай только после Вознесения, а то сейчас его заменить некем».
В 1950 году Вознесение Господне приходилось на 18 мая. Но срок о. Иоанна настал гораздо раньше – 29 апреля, на двадцатый день после Пасхи. Видимо, что-то сдвинулось в планах, или нашлось, кем его заменить... Прокурор Москвы А. Н. Васильев поставил подпись под ордером на арест, и вечером 29-го возле дома № 26 по Большому Козихинскому переулку остановилась «победа». Соседи по коммунальной квартире № 1 молча смотрели на то, как офицер в погонах с синими просветами стучит в дверь комнаты священника. Они знали, что это значит, и ничему не удивлялись.
Батюшка должен был в тот день ехать к Ивану Соколову. Тот ждал его допоздна, а потом неожиданно сказал своим духовным чадам:
– А Ванечку уже взяли. Он ведь как свеча перед Богом горит.
Скоро «взяли» и самого Соколова – уже в третий раз в жизни – и 11 августа на три года заточили в ленинградскую тюремную психиатричку...
Галине Волгунцевой запомнилась служба в храме Илии Пророка в Черкизове 30 апреля 1950-го, на следующий день после ареста батюшки. Службу возглавлял митрополит Николай (Ярушевич). «Заметили: что-то с владыкой случилось, – вспоминала Г. Т. Волгунцева. – Решили, что он заболел, и атмосфера в церкви была необычной, как будто бы все чего-то ждали. Вышел владыка с проповедью – совсем другой, чем обычно, всегда он был бодрый, весёлый, а здесь столько грусти было в его глазах, таким мы его ещё не видели. Говорил он на тему о том, как всё призрачно в жизни, как всё непостоянно, что счастливы те, кто покинул грешную землю. А мы ещё должны продолжать свой путь в слезах и страданиях (конечно, владыка не так говорил, как написала я, но своей проповедью он вызвал у нас слёзы). Кончилась проповедь нашего Златоуста; как всегда, он всех с улыбкой, с какой-то на этот раз жалкой улыбкой, благословил и уехал.
Не помню кто сообщил: “Сегодня ночью был арестован отец Иоанн Крестьянкин”. Что это было? Это не гром среди ясного неба, это нечто другое, какой-то мрак затмил всё, какая-то безысходность».
Весть об аресте батюшки мгновенно облетела его паству. О том, кто именно его предал, знали все. П. В. Козина вспоминала: «Через два дня было воскресенье. Служил настоятель отец <...> На службу не пришло ни одного человека».
А для о. Иоанна начался новый этап учёбы в Небесной Академии. И если он и жалел о чём тогда, так это разве о том, что неоконченной осталась его дипломная работа о преподобном Серафиме Саровском.
Глава 6
«ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
ИДУ ДАЛЬШЕ!»
Дело на священника Ивана Михайловича Крестьянкина получило номер 3705. Словесный портрет коротко описывал арестованного:
рост – средний (165-170 см),
фигура – средняя,
плечи – горизонтальные,
шея – короткая,
цвет волос – чёрные,
цвет глаз – карие,
лицо – овальное,
лоб – низкий,
брови – дугообразные,
нос – большой,
рот – малый,
губы – тонкие,
подбородок – прямой,
уши – большие,
особые приметы – нет,
прочие особенности и привычки – нет.
Квитанций на изъятые вещи и деньги в следственном деле нет. Но есть свидетельство о наличии в личной библиотеке батюшки 347 книг религиозного содержания. Это – то, что было бережно собрано на протяжении 1930—1940-х годов, куплено с рук у стариков и старушек, спасено из разоряемых храмов, найдено из-под полы у частных букинистов. Сейчас всё это извлекалось из опечатанных мешков, встряхивалось, просматривалось, перелистывалось – нет ли спрятанных писем, адресов, денег...
Владимир Кабо, тогда 24-летний студент МГУ, арестованный одновременно с о. Иоанном и позже встретившийся с ним в лагере, так описывал первые впечатления от Лубянки: «Лестницы, проволочные сетки, коридоры... Руки назад, идите... Человек с голубыми погонами крепко держит меня сзади... Лестницы, сетки, коридоры... Лифт... Крошечная комната, глухая, без окна, ярко освещённая электрической лампой, белёные стены, скамья... Потом я узнаю, это называется бокс. И вот я – один. Сколько проходит времени? Другая такая же комната, со столом. Человек в сером халате, лицо-маска, молчаливый и отчуждённый, как служитель потустороннего мира. Короткие команды, методичные, уверенные движения. Разденьтесь... Все мои вещи падают на пол... Снимает с брюк ремень, вытаскивает шнурки из ботинок, отрезает металлические крючки, распарывает подкладку. Приходит другой такой же в халате. Парикмахерской машинкой, теми же методичными, отработанными движениями, он снимает мне волосы с головы, и они тоже падают на пол... Потом меня куда-то ведут, приказывают сесть на стул, передо мной – ящик фотоаппарата: фас, профиль... Снимают отпечатки пальцев, плотно прижимая их к листу бумаги. Потом уводят, и снова я – один... Эти люди-призраки – как обитатели иного, кромешного мира... Потом опять куда-то ведут. Лестницы, сетки, коридоры, двери... И этот странный, жуткий язык служителей ада, на котором они переговариваются между собой, когда ведут меня по всем этим лестницам и коридорам – ни одного человеческого слова, только птичий клёкот, громкое перещёлкивание языком или пальцами – большим и средним, и все эти звуки гулко разносятся под сводами и замирают вдали...»
Через всё это довелось пройти и о. Иоанну, с той только разницей, что его не стали стричь. А ведь это – один из первейших ритуалов, через которые проходят заключённые. Кто, почему решил сохранить священнику волосы – поди догадайся. Жизнь в узилище начиналась с небольшого чуда.
(Впрочем, чудо это имело вполне логичное объяснение. Согласно правилам, арестованный священник имел право сохранять свою внешность в неприкосновенности. Так, в 1945 году успешно отстоял своё право не стричь бороду и не бриться о. Виктор Шиповальников, причём в конфликте с парикмахером лагерное начальство приняло сторону батюшки).
Сам о. Иоанн так вспоминал первую ночь за решёткой: «Когда меня взяли в тюрьму, оформление там долгое и тяжёлое – водят туда-сюда, и не знаешь, что ждёт тебя за следующей дверью. Обессиленный бессонной ночью и переживаниями первого знакомства с чекистами, я совершенно измучился. И вот завели меня в какую-то очередную камеру и ушли. Огляделся: голые стены, какое-то бетонное возвышение. Лёг я на этот выступ и уснул сном праведника. Пришли, удивлённо спрашивают, неужели ты не боишься? Отвечать не стал, но подумал: а чего мне бояться? Господь со мной».
Первый допрос был помечен датой 29 апреля 1950 года. Значит, опомниться, отоспаться арестованному не дали, повели сразу. Следователь представился – капитан МГБ Жулидов Иван Михайлович. Это не могло не вызвать невольную улыбку у о. Иоанна – полный тёзка, да ещё и одногодок примерно. Только вот судьбы у двух Иванов Михайловичей были разные, как и взгляды на жизнь.
На первом допросе следователь спросил, верно ли, что во время богослужений о. Иоанн допускал «антисоветские выпады». На это батюшка твёрдо ответил:
– В моё сознание никогда не входила мысль, чтобы сан священника использовать для проведения антисоветской агитации... Я прошу следствие это моё заявление проверить путём допроса моих сослуживцев по церкви, настоятеля, священника и диакона, которые всегда присутствовали при отправлении мною богослужения и в отношении меня ничего предосудительного сказать не могут.
Здесь необходимо сделать пояснение. Дошедшие до нас протоколы – только отголосок живого голоса о. Иоанна. По многим из них становится очевидно, что протоколы эти заполнялись человеком, ничего не смыслящим в церковной жизни и вообще малограмотным. Поэтому воспринимать эти стенограммы как слова, буквально произнесённые арестованным на допросе, не стоит. На живую, простую основу «наматывались» косноязычные бюрократические формулировки, не говоря уже о том, что многое просто придумывалось следователем.
Второй допрос, 5 мая, начался с того, что следователь упрекнул арестованного в неискренности, а затем добавил:
– Вот вы сами просили допросить ваших сослуживцев и были уверены, что они подтвердят вашу невиновность. Мы допросили их, и они дали показания против вас.
На самом деле показания эти были даны свидетелями ещё до ареста о. Иоанна – 14 апреля (певчая), 19-го (священник-сослужитель) и 20-го (диакон). Причём настоятель храма, тот самый «Шверник и Молотов в одном лице», остался «за кадром». Стало ли для батюшки откровением то, что его братья во Христе следили за ним и оклеветали его?.. Вероятно, да, ведь на первом допросе он искренне полагал, что ничего плохого о нём они не скажут. А уже на втором допросе понял, что оправдываться бессмысленно – его дело в любом случае доведут до суда. Значит, нужно было, смирившись с неизбежностью приговора, достойно обороняться, не прибегая притом ко лжи, чтобы облегчить свою участь, но и не усугубляя её излишней откровенностью.
На третий допрос узника вывели 12 мая 1950 года. Лия Круглик, общавшаяся с о. Иоанном в конце десятилетия, запомнила его рассказ: «На допросы, как правило, вызывали по ночам. Накануне кормили только селёдкой, пить не давали. И вот ночью следователь наливает воду из графина в стакан, а ты, томимый жаждой и без сна несколько суток, стоишь перед ним, освещённый слепящим светом ламп».
Под этим слепящим ледяным светом узнику было предъявлено обвинение по печально известной статье 58 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года – пункт 10, часть 1. В кодексе она звучала так: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или совершению отдельных контрреволюционных преступлений <...> а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев». В сокращении этот пункт статьи называли АСА – антисоветская агитация.
Отвергая это обвинение, на допросе 12 мая батюшка заявил (снова напомним, что протокол зачастую очень далёк от живой речи, а приводится он с сохранением особенностей орфографии оригинала):
– Виновным себя признаю в том, что я как священник, исполняя религиозные обряды и в частности при произношении мною с церковного амвона публичных исповедей, при которых разъясняются «заповеди закона божьего» и при чтении так называемых проповедей, где освещается история религиозных праздников или текст содержания Евангелия, допускал такие высказывания, которые по своему содержанию носили антисоветский характер и прихожанами церкви могли быть восприняты как антисоветские проявления, хотя сознательного намерения проведения антисоветской агитации среди верующих людей у меня не было.
Перечитывая текст перед тем, как заверить его подписью, о. Иоанн задержался взглядом на части фразы «...по своему содержанию носили антисоветский характер...». И твёрдо сказал: «Пока не исправите, не подпишу». Ничего подобного он не произносил, так как такое признание могло очень серьёзно «утяжелить» приговор. Это следователь Жулидов истолковал сказанное им нужным ему образом – и внёс в протокол.
Начался длительный – трёхчасовой! – поединок двух воль. На стороне капитана МГБ – грубость, жестокость, насилие. На стороне арестованного священника – непоколебимая уверенность в том, что правда за ним. И конечно же, вера в Бога.
Поединок окончился в пользу о. Иоанна. Через три часа следователь всё-таки согласился вычеркнуть из протокола фразу «...по своему содержанию носили антисоветский характер...». Лишь после этого на странице появилась подпись арестованного священника.
Потом наступила длительная пауза – следующий после 12 мая протокол датирован 4 июля. «По замыслу ли следственного дела или стечением обстоятельств, а скорее милостью Божией между третьим и четвёртым допросами больше месяца меня никуда не вызывали, – вспоминал о. Иоанн. – Я был один, молился. Иногда в моё уединение вторгался колокольный звон, извещая о начале Божией службы. Бог был рядом со мной и в этом мрачном безбожном месте». Обратим внимание – «больше месяца», то есть во второй половине июня снова начались вызовы к следователю. Сохранились квитанции о конвоировании арестованного Крестьянкина, а вот протоколов этих допросов нет. Может быть, такие протоколы и не велись. Красноречивее всяких бумаг выглядела левая рука о. Иоанна – пальцы на ней были перебиты и срослись с большим трудом. А на вопрос одного послушника Псково-Печерского монастыря, как научиться молиться, о. Иоанн многие годы спустя ответил:
– Да я и сам теперь молиться не умею. Вот когда в тюрьме молотком по голове били, выбивали показания, – тогда я молился...
Что именно выбивал молотком из арестованного капитан Жулидов на этих допросах, осталось тайной. Возможно, показания на других священнослужителей, на того же «о. Иоанна Соколова» или на братьев Москвитиных. Но, несмотря на пытки и издевательства, о. Иоанн никого не «потащил» за собой. В его следственном деле встречается единственная фамилия – его собственная.
1 июля 1950 года заключённого в замаскированном под хлебный фургон автозаке перевезли из внутренней Лубянской тюрьмы в Лефортово, где держали в камере-одиночке. Но и там была радость – в камеру отчётливо доносился звон близстоящего храма Святых Апостолов Петра и Павла. О том, как горячо молился он под этот звон, батюшка много лет спустя рассказал о. Михаилу Правдолюбову.
Время от времени в камеру подсаживали стукачей-«наседок», назойливо вызывавших батюшку на откровенные разговоры. Один из этих стукачей завёл даже «учёную» беседу на актуальную тему – только что, 20 июня, в свет вышла книга Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», где был подвергнут уничтожающей критике давно покойный лингвист академик Н. Я. Марр. О. Иоанн в этой «дискуссии» стойко защищал взгляды Марра, несмотря на то, что такая позиция, доведённая до следователя, могла сильно ухудшить его положение.
4 июля – новый допрос. На этот раз батюшка довольно подробно говорил о том, что привёл в храм много молодёжи, советовал девушкам и женщинам посвящать жизнь Богу, крестил молодых людей и в храме, и на дому, родителей, желающих воспитать детей в христианском духе, отговаривал отдавать детей в пионеры и комсомольцы и обличал падение нравов при советской власти. Но не нужно думать, что под воздействием пыток священник оговаривал сам себя. Рассказывал он чистую правду – всё вышеперечисленное действительно имело место, и следователь об этом знал из показаний свидетелей. Никого не оговаривая и даже не упоминая, о. Иоанн просто «замыкал» следствие на себе самом, по-прежнему отказываясь признавать свои проповеди антисоветской агитацией.
Кстати, выдержки из этих проповедей сохранились в показаниях свидетелей, и именно благодаря им мы можем сегодня попробовать представить живой голос 40-летнего отца Иоанна, обращающегося к прихожанам:






