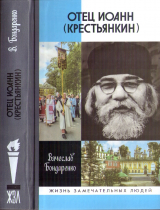
Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"
Автор книги: Вячеслав Бондаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Но самое страшное было в том, что в городе и губернии, как и по всей стране, начался настоящий террор против священнослужителей. Пока он не носил планомерного характера, скорее это были отдельные случаи, скромно именовавшиеся на языке той эпохи эксцессами. Но в прежней России и одного такого случая было бы достаточно для того, чтобы повергнуть общество в шок, а теперь они становились обыденностью. Первым, ещё в начале сентября 1917-го, погиб духовник Орловской духовной семинарии о. Григорий Рождественский. 26 апреля 1918 года в селе Усть-Нугрь Волховского уезда отряд красноармейцев совершил налёт на дом священника о. Иоанна Панкова, убил его самого и его сыновей, офицера-фронтовика Петра и семинариста Николая, а также двух случайных свидетелей. Также погибли наместник Брянского Свенского монастыря игумен Гервасий, елецкий священник о. Михаил Тихомиров, священник села Сетного о. Василий Лебедев, священник села Дровосечное о. Василий Осипов, многие другие иереи и монахи. С убийствами священников смыкались дикие погромы помещичьих усадеб Орловщины, зачастую сопровождавшиеся чудовищными бессмысленными зверствами.
Так, 28 ноября 1917-го во время погрома усадьбы Добрунь помещиков Подлиневых крестьяне разбросали и сожгли останки покойных владельцев усадьбы; в другой раз живьём содрали шкуру с быка, облили керосином живую лошадь и подожгли – за то, что животные были «буржуйскими»...
Не раз и не два казалось орловцам в то время, что установившиеся осенью 1917-го порядки не продержатся долго. С волнением горожане следили за событиями на южном фронте Гражданской войны, многие с нетерпением ждали прихода белой Добровольческой армии. В марте 1918-го Орёл уже узнал, что такое бой (тогда красные с помощью бронеавтомобилей и артиллерии усмиряли вышедший из-под контроля отряд анархиста И. П. Сухоносова), но в зоне настоящих боевых действий город оказался осенью 1919-го. Окраины Орла горели от артиллерийского огня, было много убитых и раненых. Вечером 13 октября 1919-го, когда красные под натиском трёх Корниловских ударных полков и бронепоезда «Единая Россия» оставили Орёл, жители высыпали на улицы, а городские храмы ударили в колокола. Этот радостный трезвон на фоне пасмурной ветреной погоды запомнился многим мемуаристам: «Гудели колокола, духовенство в праздничных облачениях стояло около церквей»; «Над землёй расплывается непрерывный радостный Пасхальный звон. Невозможно было удержаться от слёз. Так встречал нас простой люд окраин»; «Льётся радостный, ликующий звон. Как волны, звоны начинаются с окраин и льются дальше, в середину, наполняют весь город. Общий восторг растёт и крепнет». Нет сомнения, что и семья Крестьянкиных участвовала в радостной встрече добровольцев, присутствовала на молебствии, которое проходило 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, на городской площади. Тогда же горожане впервые увидели танки – три машины английского производства приняли участие в параде. Но белые оставались в городе недолго, всего неделю. Поздним вечером 19 октября добровольцы оставили Орёл, а днём 20-го в город без боя вернулись красные. Надежда на восстановление прежнего порядка рухнула. В доме Крестьянкиных окончательно сняли со стены столовой портрет государя Николая II, и он ещё долго напоминал о себе большим белым пятном на выгоревших обоях...
Но и после окончания боевых действий напасти не оставляли город. Весь 1920 год Орёл терзали эпидемии различных болезней – то сыпной тиф, то возвратный, то оспа, то грипп. Тогда в городе переболели 14 500 человек, многие умерли. А в начале 1922-го на Орёл обрушился топливный кризис – как-то разом, одновременно не стало дров. Именно тогда пошли под топор старинные сады и парки, украшавшие губернский город до революции...
Словом, на рубеже 1910—1920-х годов Орёл пережил больше событий, чем за много лет до того. И сложно, почти невозможно сейчас представить, через какую душевную смуту довелось пройти семье Крестьянкиных вместе с другими орловцами. Конечно же, они не могли оставаться в стороне от бурлившего вокруг водоворота, ведь жизнь менялась не в частностях, а кардинально, помимо чьих-то желаний и нежеланий. Сохранять в душе чистоту и спокойствие посреди набиравшего обороты хаоса было нелегко. Спасала молитва, близость родного храма, память о том, что на всё воля Божия. И, конечно, примеры людей, которые и в новых условиях продолжали жить так, как им велел Господь. Их образы глубоко запали в душу Вани Крестьянкина и запомнились навсегда. «Время не стёрло из памяти почти всех, служащих в то время в орловских храмах, так они были все значительны и богомудры – Божии служители», – уже в глубокой старости написал о. Иоанн.
«Маститым старцем, глубоко любимым и почитаемым орловчанами» запомнился ему настоятель храма Иверской Божией Матери о. протоиерей Аркадий Оболенский. Он родился в 1864 году в селе Рождественском на Орловщине. О. Аркадий стал одной из первых жертв новой власти в Орле – был арестован в марте 1918-го и заключён в каторжную тюрьму. Затем освобождён и служил в своём храме до 1923 года, после чего был арестован вторично и выслан в Витебск. Там был арестован за то, что «устраивал у себя на квартире нелегальные собрания граждан с целью обработки их в антисоветском духе», в 1928-м выслан обратно в Орёл и после этого ещё многократно арестовывался, в последний раз – в 1937-м, когда и погиб... Огромным авторитетом в городе пользовался и о. протоиерей Всеволод Ковригин. Относительно молодой (родился в Петербурге в 1893-м), он принял сан священника после окончания историко-филологического факультета столичного университета, в 1918-м, и служил в Введенском храме. В Орле о. Всеволод завоевал общее уважение как даром проповедника, так и непримиримой позицией, занятой по отношению к обновленчеству. В 1923-м он был арестован за сопротивление изъятию церковных ценностей и выслан из Орла, затем арестовывался ещё дважды – в 1925 и 1929 годах.
Но самое глубокое впечатление на Ваню Крестьянкина произвёл о. Георгий Коссов, или, как его звали в народе, Егор Чекряковский. О. Георгий (1855—1928) родился в селе Андросово Орловской губернии, окончил Орловскую духовную семинарию, некоторое время преподавал в сельской школе, а с 1884 года до самой смерти был священником в селе Спас-Чекряк недалеко от Волхова. Принял о. Георгий крошечный запущенный сельский приход, а оставил после себя каменный храм, пять школ, странноприимный дом, училище, рассчитанное на 150 сельских девочек, кирпичный завод, библиотеку, слесарно-токарную и столярную мастерские, пасеки, сады... Ещё в юности о. Георгий побывал у преподобного Амвросия Оптинского (Гренкова, 1812—1891). Молодой священник в то время проходил через тяжёлое испытание – прибыв в свой приход, где было тогда 14 дворов и ветхий деревянный храм, он тяжело заболел (кашлял кровью), пал духом и думал просить у всероссийски известного подвижника благословения на переход в другое место. В Оптину пустынь, за 60 вёрст от Спас-Чекряка, о. Георгий пришёл пешком, со страннической котомкой, и стоял в толпе народа, далеко от дверей келии о. Амвросия. Великий старец не знал его лично и никогда о нём не слышал. Но неожиданно через головы других паломников обратился прямо к нему:
– Ты, иерей, что такое задумал? Приход бросать? А? Ты знаешь, кто иереев-то ставит? А ты – бросать?! Храм, вишь, у него стар, заваливаться начал! А ты строй новый, да большой каменный, да тёплый, да полы в нём чтоб были деревянные: больных привозить будут, так им чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай, да дурь-то из головы выкинь! Помни: храм-то, храм-то строй, как я тебе сказываю.
Поражённый о. Георгий послушался, но вскоре начались для него новые испытания – одолевала смертная тоска, днём и ночью он слышал голос, который твердил ему: уходи, ты один, и тебе не справиться. Молодой священник снова отправился в Оптину и услышал от о. Амвросия следующее:
– Ну, чего испугался, иерей? Он один, а вас двое.
– Как же это так, батюшка?
– Христос Бог да ты – вот и выходит двое! А враг-то – он один. Ступай домой, ничего впереди не бойся. Да храм-то, храм-то большой, каменный, да чтоб тёплый, не забудь строить! Бог тебя благословит.
Так и вышло: и храм в Спас-Чекряке в 1903 году появился каменный, тёплый, и полы в нём были деревянные, и больных к о. Георгию начали привозить со всей России – слава о его прозорливости и духовной мощи вышла далеко за пределы Орловской губернии, настолько далеко, что сам святой праведный Иоанн Кронштадтский выговаривал орловским паломникам, зачем они едут к нему, если у них есть благодатный о. Георгий. Он стал старцем – первым, которого встретил в своей жизни Ваня Крестьянкин.
«Старец» – отнюдь не синоним старика. Старец в православии – это наставник, духовный водитель. Как правило, это иеромонах, опекающий братию своей обители и паломников-мирян. Обычно это человек в годах, но не обязательно: преподобный Амвросий Оптинский начал старчествовать в 38-летнем возрасте. «Возраст старости есть житие нескверное» (Прём. Сол. 4: 9), то есть «старцем» может быть и мудрый, сдержанный юноша, равно как и старик летами может представлять собой этакого «вечно молодого, вечно пьяного»...
Основателем русского старчества считается преподобный архимандрит Паисий (Величковский, 1722—1794), подвизавшийся в молдавских обителях, на Афоне и в румынской Нямецкой лавре. От Паисия протянулись невидимые, но прочные нити к двум брянским пустыням – Площанской Богородицкой Казанской и Брянской Белобережской Иоанно-Предтеченской. Первая может считаться прародительницей старчества в России – ещё в 1746 году там подвизался иеромонах Иоасаф (Медведев), духовными наследниками которого были иеромонахи Пафнутий, Серапион и Адриан. Какое-то время в Площанской пустыни находился и преподобный иеросхимонах Василий (Кишкин, 1745—1831), затем перешедший в Белобережскую. Именно в Белобережской пустыни в 1805 году был составлен строгий монастырский устав, который послужил основой для монашеского жития по всей России. Учениками о. Василия были преподобный иеросхимонах Лев (Наголкин, 1768—1841), основатель старчества в Оптиной пустыни, и архимандрит Моисей (1772—1848), в 1824—1848 годы наместник Белобережской пустыни, при котором она пережила наивысший расцвет. Учеником преподобного Льва, в свою очередь, был преподобный иеросхимонах Макарий (Иванов, 1788—1860). А наследником старца Макария стал Амвросий Оптинский. Интересно, что с преподобными Василием, Моисеем, Львом и Макарием, как мы помним, был тесно знаком и учился у них прапрадед о. Иоанна Крестьянкина, И. М. Немытов, которого Амвросий Оптинский называл «великим молитвенником»...
Старец – это не просто чрезвычайно опытный в духовной жизни человек. Он прозорливец, но это не главное его качество, ведь люди, служащие тёмным силам, а не Богу, тоже могут предсказывать будущее. Главное в старцах – это смирение, дар рассуждения и Божественная любовь, явственно ощущаемая другими. Таких людей на пути Иоанна Крестьянкина встретится несколько. Таким человеком со временем станет и он сам...
Ваня Крестьянкин совершил паломничество к о. Георгию в 1920 году – первом году своей жизни, когда Пасха совпала с его днём рождения, 11 апреля (следующие такие совпадения придутся на 1999 и 2004 годы). Путь был неблизкий – пятьдесят пять вёрст от Орла до Волхова, затем ещё десять вёрст по Большой Козельской дороге и шесть – по просёлочной. Добраться до Спас-Чекряка непросто и сегодня, что уж говорить про годы Гражданской войны...
Позднее о. Иоанн вспоминал об этом так: «Ранним летним утром трое мальчуганов отправились пешком из Орла в село Спас-Чекряк. По дороге резвились и много смеялись, шутки были безобидные, но настроение мало соответствовало понятию паломничества. Первая остановка с ночлегом была у отца Иоанна – брата чекряковского батюшки Георгия. Отец Иоанн, строгий подвижник-аскет, к ребятам не вышел, но ночевать у себя оставил. В доме царила благоговейная тишина, как в церкви, и паломники притихли и остепенились. А вечером самый маленький из них залез на деревянную перегородку и в щель между ней и потолком увидел молящегося подвижника». «Самым маленьким» был сам Ваня. И зрелище сосредоточенного на молитве батюшки настолько впечатлило его, что сон ещё долго не шёл к мальчику. А когда он наконец задремал, то увидел во сне о. Иоанна с ножницами в руках. «А теперь вот я твой язычок-то и подрежу», – строго произнёс священник. Ваня проснулся в испуге и до рассвета ворочался с боку на бок, раскаиваясь в своём согрешении...
Когда, преодолев семьдесят вёрст, добрались до Спас-Чекряка, там уже яблоку негде было упасть. После службы о. Георгий распределял паломников по сельским домам. Конечно, особой честью было ночевать у самого батюшки. И каково же было изумление Вани, когда о. Георгий пригласил к себе именно его и самую старую монахиню. Неделю маленький паломник прожил в доме одновременно простого и удивительного сельского батюшки, словно напитываясь духом этого человека.
Михаил Пришвин так описывал о. Георгия в то время: «И лицо, и фигура отца Георгия соответствуют его кипучей деятельности. Лицо его – сильное, почти грозное. Очень выразительные глаза, искрящиеся, добрые-добрые, окладистая борода. Роста он немного выше среднего, широкоплеч. Держался он очень прямо, с плавными движениями, вдаль смотрящим взглядом и мягким тембром голоса. Во всём у него какое-то спокойствие и неторопливость, и уверенность в том, что он делает».
Ваня воочию убедился в том, насколько велика известность о. Георгия. Странноприимный дом был переполнен людьми, жаждавшими получить у батюшки совет, благословение, наставление. Те, кому не хватило мест, ночевали прямо на телегах или под ними. И для всех у священника находилось тёплое, единственно нужное слово. В Волхове без его совета редко кто женился, выходил замуж или открывал своё дело. Общавшийся с ним С. А. Нилус свидетельствовал: «Тайна моей души читалась им, как в открытой книге, и речь простая, исполненная теплотой и ласковой задушевности, лилась целительным бальзамом, врачуя незажившие раны, бодря мою усталую душу».
О. Георгий не раз прозревал будущее не только отдельных людей, но и всей страны. Так, в марте 1914-го он сказал:
– Мы живём пока тихо, но это ненадолго. Всё зальётся кровью, и трупов будет, как поленьев, будут и голод, и болезни, о которых мы сейчас и не думаем. Ну что ж, Его святая воля. Пройдёт немного ещё времени – и ещё больше будет трупов, целые горы и великая скорбь.
Особенно прославил о. Георгия дар целительства: по его молитвам пропадали опухоли, лихорадка, пьяницы становились трезвенниками. При этом о. Георгий всегда называл себя многогрешным и скромно говорил: «Господь и через недостойных священников помогает по вере».
Осенью 1918-го в Спас-Чекряк прибыли чекисты – арестовать священника. Но тот встретил незваных гостей так приветливо и дружелюбно, так трогательно успокаивал расстроившуюся матушку, так стойко держался на допросах, что его просто... отпустили. Отпустили, опасаясь, что обожавшие его люди поднимут мятеж. А вот дело, которому он служил, продолжало привлекать к себе пристальное недоброжелательное внимание власти. Его хозяйство превратили в артель, запретили брать новых сирот в приют, ставили на учёт самых активных прихожан...
Неделя в доме о. Георгия Коссова осталась в сердце и душе Ивана Крестьянкина навсегда. Как он сам писал в 1997-м орловской исследовательнице жизни о. Георгия Л. Н. Ивановой, «это счастье продолжалось всего несколько дней, но память о нём согревает меня всю жизнь». Он увидел силу молитвы, изгонявшей бесов из одержимых, которых с трудом удерживали несколько сильных мужчин. Осознал, как многое может праведный человек, чьё призвание – служить Богу и людям... «Отец Георгий получил для служения полуразрушенный храм и совсем умирающий, запущенный приход и стал молиться, – вспоминал о. Иоанн. – Сначала один, и сегодня, и завтра один, и неделю один, и месяц. И не заметил, как за его спиной его молитва собрала паству. А благословение оптинского старца Амвросия открыло в семейном приходском батюшке – старца-целителя, изгоняющего бесов из страждущих. Только молитва и горение духа могут восстановить и стены храма и, главное, нерукотворные храмы – души заблудших и вернуть их Богу ожившими».
Как о. Георгий Коссов был преемником преподобного Амвросия Оптинского по старчеству, так о. Иоанн Крестьянкин станет в своё время преемником о. Георгия. Вот фрагмент из Жития оптинского старца: «Он глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Лёгким, никому не заметным намёком он указывал людям их слабости и заставлял их серьёзно подумать о них». А вот что писали духовные чада о. Георгия: «На все запросы, на всякий крик сердечного, давно наболевшего горя, у отца Егора находилось слово привета, утешения, совета. В каждом его слове, в каждом совете его чувствовалось такое знание человеческого сердца, такое проникновение в самую глубь народного быта, душевной жизни народа, что ни один подходивший, иногда подступавший к нему с глазами, красными от невысохших слёз, не уходил от него с лицом непросветлённым. Чувствовалось, что каждый получал от него утешение именно то, которого жаждала и без отца Егора не находила его скорбная, измученная душа». Оба этих фрагмента позднее безоговорочно можно будет отнести и к духовнику всей России – старцу Иоанну Крестьянкину...
Скончался о. Георгий от рака желудка 8 сентября 1928 года. На его отпевании присутствовало столько народу, что в храм было невозможно войти. А фотография спас-чекряковского батюшки висела в келии о. Иоанна задолго до 2000 года, когда о. Георгий был прославлен в чине священноисповедника. И надгробие на его много раз разоряемой властями могиле было установлено именно стараниями о. Иоанна. Сейчас мощи о. Георгия Коссова находятся в величественном Спасо-Преображенском соборе Волхова. Этот храм находится на холме и словно осеняет собой маленький древний город, расположенный на высоких берегах узкой, но быстрой Нугри.
К сожалению, теперь в Спас-Чекряке от наследия о. Георгия остались только заложенные им колодец и купальня – всё остальное давным-давно снесено, разорено и заброшено. Часовня в память о. Георгия, которая стоит сегодня, – уже новая, она освящена в декабре 2004-го, через четыре года после обретения мощей святого. Но народ стремится в Спас-Чекряк по-прежнему, память о святости этого места жива и продолжает жить.
Были в Орле тех лет и свои юродивые. Сейчас истинное значение этого слова забыто, и под юродивыми обычно понимают назойливых нищих, которые досаждают туристам у старинных храмов. Между тем истинное юродство было подвигом во имя Христа. Таким подвижником был Афанасий Андреевич Сайко, которого знал и любил весь город.
Родился Афанасий Сайко в 1887-м или 1890 году в Волынской губернии и до 1919-го жил внешне обычной жизнью – окончил школу солдатских детей в Варшаве, потом Варшавскую консерваторию, овладел несколькими музыкальными инструментами. В 1904—1905 годах служил в драгунском полку, потом работал в нотариальных конторах писцом и ремингтонистом, на Первой мировой воевал в пехоте. В 1919 году его арестовали на Волыни и отправили в Орловский концлагерь принудительных работ. Так Афанасий Сайко попал в Орёл, где и остался после освобождения. С конца 1920 года он жил на колокольне Богоявленского храма, четыре года спустя по благословению о. Всеволода Ковригина тайно принял монашество, при этом оставшись жить в миру.
Выглядел Афанасий Андреевич представительно – высокий, плечистый, с окладистой чёрной бородой, острыми проницательными глазами. Одевался он в рубаху, грубые штаны и свитку, на ногах – калоши с носками. Поверх одежды носил нательный крест и будильник, шею повязывал полотенцем, а то и втыкал в картуз птичьи перья. Ходил по улицам Орла с метлой, подметал пыль с мостовых и постоянно сурово приговаривал:
– Кайся, кайся, окаянный грешник!
Встречным людям Афанасий Андреевич давал разные мелкие предметы – щепочки, фантики от конфет, спички, стекляшки, камешки, вырезки из газет. Каждый из таких даров имел скрытый смысл, который подчас открывался людям далеко не сразу. Афанасий Сайко обладал удивительным даром: знал невысказанные мысли и чаяния, мог предупредить о чём-то, но не напрямую, а иносказательно.
Например, однажды к Афанасию Андреевичу пришёл сам председатель Орловского горисполкома – высокомерный и самолюбивый чиновник. Он снисходительно расспрашивал юродивого о том о сём, а в конце разговора насмешливо попросил угадать, что у него в кармане. На это Сайко ответил: «Там взятка, триста рублей. А дома тебя ждёт большое горе». Ответ оказался точным – взятка и в самом деле была в кармане, а дома в это время повесился единственный сын чиновника...
Дальнейшая судьба юродивого была драматичной. В апреле 1931-го его арестовали «за пропаганду против вступления крестьян в колхозы», но уже в октябре перевели в психиатрическую клинику недалеко от Орла. Там Афанасий Сайко провёл десять лет, с 1932 по 1942-й. Во время войны находился в Орле, где его дар провидения спас не одну семью от гибели во время бомбёжек. В дальнейшем его ещё дважды запирали в психиатрички – в 1948—1950 и 1950—1955 годах, причём во второй раз он содержался уже вдали от ставшего ему родным Орла – в Томске. Но и в больницах люди шли к нему чередой, передавали продукты, записки с просьбами о молитвах и вопросами. Последние годы жизни юродивый провёл на станции Снежеть Брянской области. Там он и умер 5 мая 1967 года, а к его могиле на Крестительском кладбище Орла – высокому деревянному кресту, установленному в 2005-м, – народ идёт за советом и исцелением до сих пор; недаром на погосте даже выставлен специальный указатель с надписью: «Афанасий Андреевич Сайко».
Несмотря на то, что в начале 1920-х Афанасий Андреевич был уже хорошо известен среди орловцев и за ним часто буквально ходили толпы жаждущих услышать хоть словечко, Ваню Крестьянкина Сайко выделял из общей массы. И одарил мальчика не щепочкой или фантиком, а...
скрипкой. Он же, вероятно, дал ему первые уроки по владению этим инструментом. И, конечно, Ваня не раз слышал от юродивого его любимую приговорку:
– Привыкай решать задачи, ищи родственность между предметами.
Задачи приходилось решать не только духовные, но и самые обычные, школьные. После реформы образования в Советской России была введена так называемая единая трудовая школа, но занятия шли с большими перерывами. Ваня поступил в среднюю школу-девятилетку № 8 «с уклоном учётно-финансового профиля», но в 1921 году школа закрылась. Возобновил занятия Ваня только четыре года спустя, в 15 лет, причём поступил сразу в седьмой класс. Во время учёбы он увлекался астрономией, а ближе к окончанию учёбы подумывал над тем, чтобы стать юристом. Какое-то время учился игре на скрипке. Но подлинной школой для него продолжал оставаться храм, где шло своим чередом его пономарское послушание.
А через страну продолжала катиться волна новых гонений на Церковь. Под предлогом помощи голодающим Поволжья из храмов Орловщины изымали «церковные ценности». В Орле эта кампания началась в конце апреля 1922-го, и с 1 мая по 1 июля из городских храмов было изъято более 169 пудов 22 фунтов серебра, 2 фунта 3 золотника 50 долей золота, 18 фунтов меди, 25 фунтов 93 золотника 40 долей жемчужного шитья, 147 алмазов. Один из главных теоретиков большевизма Николай Бухарин ликовал по этому поводу: «Мы ободрали церковь как липку, и на её “святые ценности” ведём свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим».
Многие храмы попросту закрывались и приспосабливались под иные нужды. Например, Введенскую церковь отдали под клуб «Кожтреста», церковь бывшей «малой семинарии» – под клуб 5-й больницы, Иверскую – под железнодорожную школу, Петропавловский собор передали Окружному архивному бюро, летнюю половину Михаиле-Архангельской – музею религиозных искусств. С 1917 по 1923 год в Орловской губернии было закрыто 26 православных храмов, из них 17 – в Орле.
18 мая 1922 года в Москве был заточен под домашний арест Патриарх Тихон. Это послужило сигналом для начала «церковных процессов» на периферии, в том числе и в Орле. В июне 1922-го губернский революционный трибунал за сопротивление изъятию церковных ценностей приговорил епископа Орловского и Севского Серафима к семи годам лишения свободы, а епископа Елецкого Николая – к трём годам. В сентябре 1922-го, как было сказано выше, арестовали и о. Всеволода Ковригина, и о. Аркадия Оболенского. Кроме них, тогда же были арестованы о. Иоанн Дубакин, о. Павел Святицкий, бывший ректор Орловской духовной семинарии о. Всеволод Сахаров, церковные старосты двух храмов.
Для Вани Крестьянкина особым потрясением стал арест и показательный суд над владыкой Серафимом. Знакомство Вани с ним, как мы помним, состоялось летом 1917 года, а окрепло, как можно предположить, благодаря друзьям-соседям – братьям Василию и Александру Москвитиным, детям купца Ивана Александровича Москвитина, бывшего поручителем по жениху на свадьбе Крестьянкиных. Это с ними Ваня ходил в 1920-м в паломничество к о. Георгию Коссову. И Василий, старше Вани на пятнадцать лет, и Саша, старше его на четыре года, служили иподиаконами при епископе Серафиме. Скорее всего, именно они устроили так, что Ваня тоже начал нести послушание при владыке – сначала келейником, затем жезлоносцем и, наконец, иподиаконом.
Хиротесия в иподиаконы во многом стала определяющей для дальнейшей судьбы мальчика. Ведь в этот день он крестообразно опоясался орарём в знак того, что «он с настоящего времени смирением, целомудрием чресл своих и чистотою должен стяжать себе одежду чистоты духовной: почему и не может после этого вступать в брак». Обязанностей у иподиакона немало. Он должен облачать архиерея, прислуживать ему во время богослужения, приготовлять облачение и священные сосуды к священнодействию (он может касаться только порожних священных сосудов, когда в них не содержатся Святые Тайны), содержать в чистоте покровы и светильники на престоле и жертвеннике, зажигать светильники на престоле... Надо заметить, что, согласно решению Трулльского собора, иподиаконы не могут быть моложе двадцати лет, однако на практике от этого правила часто отступали.
Владыка Серафим стал одним из главных учителей Вани Крестьянкина. «Умнейший, добрейший, любвеобильнейший – не счесть хвалебных эпитетов», – так в старости вспоминал владыку о. Иоанн. И описывал случай, произошедший в марте 1922 года: «В Прощёное Воскресенье этот Божий Архиерей изгоняет из монастыря двух насельников, игумена Каллиста и иеродиакона Тихона, – за какой-то проступок. Изгоняет их принародно и властно, ограждая от соблазна остальных, и тут же произносит слово о Прощёном Воскресенье и испрашивает прощение у всех и вся. Моё детское сознание было просто ошеломлено случившимся именно потому, что всё произошло тут рядом: и изгнание – то есть отсутствие прощения, и смиренное прошение о прощении самому и прощение всех. Понял тогда одно только, что наказание может служить началом к прощению, и без него прощения быть не может. Теперь-то я преклоняюсь пред мужеством и мудростью Владыки, ибо урок, преподанный им, остался живым примером для всех присутствующих тогда, как видите, на всю жизнь».
Показательный суд над владыкой, через который он прошёл 18—20 июня 1922 года в клубе железнодорожников «Броневик», поверг Ваню Крестьянкина в ужас и недоумение. К этому времени епископ Серафим был для Вани не просто главным духовным начальством губернии, но по-настоящему близким и родным человеком. И в переполненном зале суда, при виде владыки, бесстрастно слушавшего приговор, подступили вопросы, на которые не было ответа. Почему на владыку возведены такие горы клеветы, такие тяжкие обвинения?.. Почему он никак не отвечает на них, не оправдывается – ведь он не виноват?.. Почему он на целых семь лет будет оторван от своей паствы?.. Где же справедливость на свете?..
Ещё одним способом подрыва влияния Церкви на народ стало так называемое обновленчество, или «Живая церковь». Обновленцами называли себя священники, полностью поддерживавшие советскую власть, не подчинявшиеся Патриарху Тихону, ратовавшие за упрощение и модернизацию Церкви. Этот проект был затеян весной 1922 года и пользовался покровительством ГПУ (тот же Бухарин так и писал: «При ГПУ мы воздвигли свою церковь»), В краткий срок, к концу 1922-го, обновленцы смогли захватить две трети из 30 тысяч российских храмов. Мемуарист А. Э. Краснов-Левитин, сам бывший обновленческим диаконом, так описывал живоцерковников: «В общем священнослужителей-обновленцев можно разделить на 4 группы: первая – самая многочисленная группа <...> серые батюшки требоисправители <...> Вторая – прохвосты, присоединившиеся к обновленчеству в погоне за быстрой карьерой, спешившие воспользоваться «свободой нравов», дозволенной обновленцами. <...> Почти все они были агентами ГПУ. Третьи – идейные модернисты, искренно стремившиеся к обновлению церкви. Эти жили впроголодь, ютились в захудалых приходах, теснимые властями и своим духовным начальством и не признанные народом. Они почти все кончили в лагерях. Четвёртая – идеологи обновленчества. Блестящие, талантливые, честолюбивые люди, выплывшие на гребне революционной волны». 29 апреля 1923 года на «Втором Поместном соборе» в храме Христа Спасителя обновленцы «лишили сана» арестованного ещё год назад Патриарха Тихона, объявили о переходе на григорианский календарь и закрытии монастырей.
Верующие Орла болезненно переживали раскол. Обновленческую Орловскую епархию в октябре 1922-го возглавил престарелый архиепископ Леонид (Скобеев). 11 декабря 1922-го в храмах Орла и губернии было запрещено поминать «бывшего патриарха Тихона», так как «поминовение имени бывшего патриарха уже не является актом церковным при существующих условиях, а явной и публичной политической демонстрацией». Согласно постановлению «собора», продублированного пленумом Орловского горсовета, 22 февраля 1923 года в Орле закрылись монастыри, которые не были добиты на рубеже десятилетий. Вселившиеся в Введенский женский монастырь рабочие-железнодорожники на общем собрании постановили «впредь называть женский монастырь городком железнодорожных рабочих», а «висящие на стенах патриархальные поповские атрибуты – иконы и кресты – снять, как оскорбляющие социалистические чувства рабочих». Почти всё православное духовенство города и губернии, кроме Волхова и Ельца, перешло в обновленчество. Растерянным, сбитым с толку людям казалось, что таким образом Церковь удастся сохранить от полного уничтожения.






